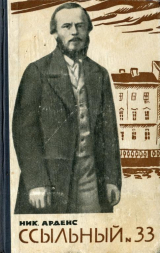
Текст книги "Ссыльный № 33"
Автор книги: Николай Арденс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
Николай, не торопясь, от строчки к строчке, разбирал все дело, писарски переписанное для него. Крупными пальцами правой руки он сжимал длинное гусиное перо и подписывал: «Быть по сему». Или же, если он почему-либо решал изменить срок наказания, добавлял: «В военные арестанты на столько-то, а потом в рядовые…» Как ни привык он к безграничному проявлению своих желаний, но сознание власти всякий раз, когда тому представлялся особо важный случай, доставляло ему новые минуты высшего довольства своим положением, в силу которого он мог одним росчерком пера уничтожить десятки и сотни не угодных ему людей.
Против резолюции касательно Петрашевского он подписал: «Быть по сему». Спешневу двенадцать лет он заменил десятью, Григорьеву, Момбелли, Львову и другим утвердил приговоры, некоторым, как Ястржембскому, прибавил срок, а иным сократил, в том числе Дурову с восьми на четыре и Толлю с четырех на два. Плещеева, Головинского, Кашкина и Европеуса он определил в линейные батальоны рядовыми. Против резолюции о Федоре Михайловиче пометил: «Н а ч е т ы р е г о д а, а п о т о м р я д о в ы м».
– Слава богу, все кончилось, – торжественно подумал он про себя, прочтя заключительное мнение генерал-аудиториата о том, что употребленные для военно-судных дел суточные деньги следует взыскать с «титулярного советника Петрашевского и дворянина Спешнева», как «главных виновников по сему делу».
В самом конце доклада генерал-аудиториат напомнил о необходимости обратить бдительное внимание и принять меры для предупреждения, чтобы безумные начинания и замыслы на ниспровержение существующего государственного устройства отныне уже не повторялись. Такими мерами доклад признавал: «Наблюдение за обучением юношества» (относительно «духа» особенно), искоренение опасных сочинений, способствующих превратному образу мыслей, самый осмотрительный цензурный надзор и самое строгое наблюдение за «движением общественного состава» (в частности, за сборищами и собраниями, дабы «при настоящем разврате умов на Западе и прилипчивости вредных идей – не могли возникнуть замыслы», – подобные настоящим…).
Николай задумался, прочитав эти напоминания…
– Вот! Вот! – резко бросал он пришедшему для доклада Орлову. – Обуздать! Вольнодумство искоренить!
– Смею утверждать, ваше величество, старания и самоотверженность нашей армии – лучшее средство к такому искоренению. Докладываю вам, что австрийские войска при поддержании нашей дивизии генерала Панютина нанесли поражение венгерским мятежникам возле Темешвара, а армия Гергея сложила оружие нашему авангарду генерала Редигера. Революционное правительство – в страхе и растерянности, а остатки его армии бегут в Трансильванию. Князем Паскевичем уже приняты меры для их задержания и уничтожения.
Николай как бы не сразу понял весь смысл сообщенного известия; он раскрыл рот, слушая Орлова, потом быстро встал из-за стола, судороги долгого и торжествующего смеха перекосили его длинное лицо.
– Обрадовал! Обрадовал! – выговаривал он сквозь смех и при этом несколько раз махнул правой рукой у самой груди, второпях изображая крестное знамение и с усилием переводя дыхание.
– Слава богу! Слава моему заступнику! – с облегчением произнес он, когда прошел приступ смеха, но все еще сквозь улыбку и презрительно думая о венгерских мятежниках и русских посягателях на его самодержавную власть.
– А вот эти? А? – подвел он Орлова к письменному столу. – Вот эти молодцы? Бунтуют?! Как ты думаешь? Они и не знают, ммерзавцы, как м ы тут и там их расколотили! Ты посмотри: лейб-гвардия! Офицеры лейб-гвардии! Чиновник министерства иностранных дел! Как его? Петрашевский. «Дворянин»! Вздумал социализм внушать молокососам… И с ним вместе помещик из Курской губернии! И всякие чиновники и журналисты – канальи! – поэты и сочинители затесались в преступное сообщество!
Николай остановился и в упор посмотрел на Орлова угрюмым и злым взглядом.
– Мы им покажем, мерзавцам! – Он застучал по столу кулаком. – В ссылку! В муштру! Шпицрутенами! Чтоб никто не вздумал… подражать!
Орлов отступил шаг назад и не спускал глаз с Николая.
– Так ты говоришь, с венгерской кампанией мы покончили? Слава, слава, слава заступнику моему! – торопливо отбивал Николай и вдруг, остановившись, сосредоточенно посмотрел в угол и, как бы спохватившись, медленно закрестился, наклоняя свой тугой и тяжелый стан. Потом сел за стол и задумался.
– На, возьми! Подписано! – с облегчением проговорил он и передал Орлову доклад генерал-аудиториата. – Расстреляние я отменил. Слышишь? Не хочу марать… – при этом он повертел рукой в воздухе и насмешливо заулыбался. – Но зато я придумал… да, да!.. придумал такое, что будет… полезнее и… внушительнее… Они у меня попрыгают! Они у меня попрыгают! – Он загадочно подергал бровями, как бы предчувствуя удивительный эффект своего изобретения.
По уходе Орлова он долго оставался у себя в кабинете и все перебирал в мыслях известие о разгроме венгерской революционной армии и о мерах пресечения революции в России. И среди этих размышлений вдруг вспомнил о виденной им на недавнем балу в Дворянском собрании маске. Маска приглянулась ему, и сейчас он с оживлением перебирал в памяти ее движения, фигуру, линии, манеры и голосок, удивительно тонкий и бьющий. Маска заигрывала с ним на балу, и это ему понравилось. Особенно понравился ему ее смех – раскатистый до такой степени, что на ней подпрыгивало сверкавшее огнями ожерелье. Он приказал узнать, кто она. Выведали, доложили, и объяснились самым учтивейшим образом, и добились чрезвычайно ловкого успеха. Николай теперь хотел вспомнить ее фамилию, записанную им в сафьяновой тетради: «Антонелли»… – прочел он и, прикрутив усы, заметил про себя:
– Х-хо, черт возьми! Звучная фамилия: Антонелли!
Он быстро направился в свои покои, где приготовлен был для него бассейн. Идя, он продолжал нашептывать:
– Антонелли! Антонелли!
Смертные шаги Федора МихайловичаВасилий Васильевич пребывал в сильнейших порывах сердца. Со дня арестования Федора Михайловича он не переставал думать и гадать, к чему приведет жандармская затея следствия и суда. Он ловил различные толки. А толков было немало.
По всем редакциям газет и журналов шептались об арестовании посетителей дома Петрашевского. Кое-кто из этих посетителей, пребывавших еще на свободе, захаживали в контору «Современника» и там пытались узнать достоверные сведения о заключенных, но и в редакции «Современника» плохо знали об участи известных сотрудникам людей – Достоевского, Ханыкова и других. Чернышевский, который для Ханыкова переводил отрывки из «Истории философии» Мишле, с негодованием говорил об «ужасно подлой и глупой истории». Говорили о гневе царя, кричавшего в припадке злобы на Орлова: «Арестуйте мне полстолицы, а дознайтесь до всех корней!» Толковали о том, что арестованные сидят в Петропавловской крепости, и идет суд, и вот-вот сошлют всех в Сибирь на вечное поселение. А пуще всего и таинственнее всего перешептывались относительно несбывшегося убийства царя в Дворянском собрании. Василий Васильевич слыхал собственными ушами, будто на 21 апреля было уже доподлинно назначено убийство царя кинжалами прямо в грудь, среди самого разгара танцев, в публичном маскараде. Намерение будто бы было кем-то предотвращено, но лотерейные билеты на маскараде все-таки удалось кому-то исписать революционными призывами, так что (потом рассказывали) где-то эти билеты будто даже перекупались из рук в руки. Словом, столица вся трепетала слухами и толками вокруг столичного заговора, и даже события на театре военных действий и гибель десятков тысяч солдат от холеры и в неудачных боях были отодвинуты на дальнее место.
По опубликовании известий об окончании венгерской кампании столица огласилась немолчным колокольным звоном. Служились молебны, бились поклоны, ловилась в церковные кружки медная лепта мещан.
Степан Дмитрич с сокрушением сердца хаживал в Андреевский собор и ставил свечи за раба божьего Федора. «Рука всевышнего! Рука всевышнего!» – думал он, обращаясь в скорбях своих к Федору Михайловичу. Но, впрочем, испытание будет обращено е м у же на пользу, по-прежнему уверял он всех. Он возродится, и в том его крест. Уж так суждено свыше.
Свои сокрушения он изливал нежнейшей Евгении Петровне и, уж само собой разумеется, Аполлону Николаевичу, замечавшему при этом, что он решительно все предвидел и все знал заранее, но его предостережения не возымели должной силы. Более всех тревожился, однако, о любимом брате Михаил Михайлович. В тоске и молчании он часто вечерами бродил взад и вперед по Дворцовой набережной и устремлял взоры на бастионы Петропавловской крепости. Шпиц собора с вертлявым ангельчиком на верхушке бежал между серых и холодных петербургских облаков, двигавшихся с моря. А Нева, пухлая и неповоротливая, казалось, дрожала от холода. И было на набережных мрачно и безлюдно.
Зима подошла быстро и прихватила столицу морозами.
По скрипучему снежному пути, вздымая холодную белую пыль, проносились мимо дома Шиля рысаки на загородные катанья, и Василий Васильевич наблюдал столичное купечество и гусарство, прожигавшее шальную жизнь.
– Вот где сокрыта тайна земного бытия, – думал он, угрюмо глядя на суету.
Негодование и печаль объяли его душу, а она ненавидела мир, клялась мстить и мстить и все ждала обидчика, откуда и какого, сама не знала, но ждала, ждала неистово и с яростью. Бессилие, однако, притупляло рассудок, и негодование оставалось в нем самом, никому не высказанное и неутоленное. Федор Михайлович все не возвращался… Василий Васильевич поджидал его, высматривая со всех углов, хотел излить ему свою печаль и возмущение, но его все не было и не было, и он решил, что Федору Михайловичу уж не суждено скоро вернуться в свой дом.
И вдруг с жадным трепетом уловил он, как по городу пополз страшный слух: будто мятежников велено казнить на Семеновском плацу и казнь назначена ка 22-е число декабря месяца.
Слыхал и дворник Спиридон, что будто дворянина Петрашевского казнят на Семеновском плацу, что об этом будто пущен слух самими жандармами: государь, мол, желает показать должный пример возмездия за государственные злодеяния.
Василий Васильевич с отчаянием кинулся к крепостным воротам, хотел сам удостовериться во всех подробностях, но ничего не узнал из расспросов у прохожих лиц. Две ночи подряд он не спал, а на третий день, чуть только рассвело, заторопился на Семеновский плац.
Он шел (чрезвычайно худой и высокий, в старом цилиндре) и все оборачивался в смятении по сторонам. На Сенной было еще безлюдно, но на Семеновском плацу он увидел целую толпу. Толпа топталась на снегу и дышала морозным утром. По плацу перекатывался жадный говор, перебегали с места на место какие-то люди, а кругом скакали конные жандармы и полиция, раздвигая толпившихся зевак.
Василий Васильевич стал у заборчика и почувствовал, что у него в груди будто кто-то стучит молотком. Ему вдруг вспомнились те, п я т е р о, что висели у самых ворот Петропавловской крепости в 26-м году. Вспомнилось и то, как он рассказывал о них Федору Михайловичу и как тот с содроганием и возмущением слушал его. Голова его трещала, как машина в ходу.
Было холодно. Морозец обжигал щеки. Тем не менее толпа все росла и прибывала. Семеновский плац шумел и махал руками. Поднимались на цыпочках – рассмотреть, что и как, во всех мельчайших подробностях, особенно при малейшем движении в самой серединке площади, где стоял эшафот. Чуть кто двинется из начальствующих, или лошадь вздыбится, или палач в черных штанах ступит на лесенку – так все как один упрутся глазами в замелькавшую точку и замрут в любопытстве.
У Василия Васильевича губы дрожали от холода. Глаза обмерзали. Он пальцем протирал слипавшиеся веки.
В сторонке, справа, он заметил возвышавшийся вал, на котором толстой стеной застыла в неподвижности толпа. Он взобрался на самый верх и с усилием протеснился сквозь ряды засаленных и прокуренных табаком шинелей. Кругом шептались, сморкались и откашливались, но вместе с тем все с напряжением разглядывали невиданное зрелище.
По самой середине плаца стояли мостки аршина на два от земли и длиной сажени в четыре, с лесенкой, и все было обтянуто черной материей – как бы в знак траура и тьмы загробного мира. За мостками, у самого вала, были врыты в землю три столба, а рядом с ними чернели свежевыкопанные ямы.
– А столбы-то зачем постановлены? – прошел в толпе разговор.
– А этта затем, что привязывать будут. Потому – военный суд и казнь расстрелянием, – пояснил хриплый голос, видимо, некоего знатока в военной шинели.
– Гляди, гляди! Полицмейстер Галахов скачет!.. Конь-то каков! С удальством!
– А вон тебе гвардия пришла… А конницы-то сколько! Вишь! Заходят с трех сторон, по правилам…
– Это тебе с Московского полка целый батальон, а вон, подалее, с Егерского, а позади всех Конногренадерский эскадрон, – продолжал объяснять военный, с особым знанием дела расточавший свое внимание на происходящее.
Гвардия выстроилась в каре.
В это время со стороны собора показалась карета, а за ней верховой жандарм. За первой каретой выехала тотчас же другая и за этой другой тоже верховой жандарм.
– Везут! Везут! – пронесся гул по плацу.
Василия Васильевича столкнули с места, и он чуть не свалился с насыпи. Он ухватился за чей-то рукав и едва удержался на месте.
У противоположного вала он увидал остановившуюся карету. Карета была черная, наемная, извозчичья. Рядышком с ней остановилась другая. За другой – третья. А дальше он уж не считал. Видел только, что вся площадь у вала зачернела каретами и задвигалась плац-адъютантами, верховыми жандармами и конвойными, торопливо отворявшими каретные дверцы и выпускавшими привезенных.
И вдруг в грязноте гвардейских казарм и соборных стен он узнал е г о, Федора Михайловича. В лицо чрезвычайно трудно было разглядеть до конца – так оно успело зарасти широкой бородой, – но по тому, как он вышел из кареты, как стал возле конвойного с полуопущенной головой и как задумался в свои последние минуты (так, как только он один мог задумываться посреди улицы, будто бы он был один на всю вселенную), Василий Васильевич решил, что это именно он и есть, Федор Михайлович. К нему подошел какой-то военный чин и что-то спросил. «Наверно, фамилию», – мелькнуло в голове у Василия Васильевича.
Приговоренных выстроили в два ряда, окружили взводом конвойных и повели сперва на правый фланг, вдоль фронта выстроенных батальонов. Впереди же поставили священника в черной широкополой шубе, но чрезвычайно маленького роста и при этом с огромным крестом. Спеша мелкими шажками впереди всех шедших по неровному снегу, он подпрыгивал на ходу и глазки упорно устремлял в самого себя, не озираясь по сторонам и, видимо, с чувством размышляя о своей богом посланной миссии.
Лишь только начался марш приговоренных по правому флангу, Василий Васильевич кинулся тоже направо, поближе к войскам, чтоб в подробностях все разглядеть. Как в лихорадке, он перебежал с вала сквозь толпу к цепи полицейских, заграждавших дальнейший путь, и впился глазами в шедших прямо против него приговоренных. Он узнал е г о уж по-настоящему и, кроме того, узнал самого главного, которого некогда видал в кружке, когда однажды забрел на «пятницу». Петрашевский! – пронеслось в памяти. Он самый и есть. Ему ясно показалось, что тот совершенно уж зарос бородой. И узнать-то невозможно!
Обреченные шли впереди конвойных и как будто не знали, куда и для чего идут. Походки были быстрые, но вместе с тем безразличные и какие-то неровные: то вправо ноги скользнут, как у хмельных, то вдруг снова наладят прямой путь по глубокому снегу и пуще прежнего заторопятся. Смотрят врозь и как бы блуждая взорами.
За их ходом, как заколдованная и будто притаившись перед добычей, жадно следила глазами толпа в несколько тысяч человек. Ход был в своем роде исключительный и мятущийся. Отбивались о землю как бы последние шаги положенного пути.
И вдруг выпала одна такая минута, одно неожиданно сверкнувшее мгновенье: Василий Васильевич совершенно ясно уловил всю силу и судорожный блеск его – два глаза Федора Михайловича словно сошлись в холодком и туманном пространстве со взглядами Василия Васильевича. По крайней мере Василий Васильевич как искрометный толчок встретил их на себе и даже отскочил как-то назад, словно в испуге, словно все, решительно все понял вдруг з а н е г о, ощутив целый хаос желаний, как бы перелетевших из чужой жизни, уже предвидевшей свой конец и потому нагромоздившей одно на другое все о с т а в ш и е с я намерения, как бы решив привести в исполнение их все разом, все до единого в эти последние пять или десять минут.
Василий Васильевич не мог спустить глаз с шедшего прямо против него Федора Михайловича, но через мгновенье понял, что взгляд Федора Михайловича вдруг оторвался от него и, быть может, ищет его, ищет и не находит. Через несколько секунд между тем приговоренных повернули назад вдоль фронта, к левому флангу. Василий Васильевич бросился бежать на противоположную сторону, и действительно перебежал, и как раз поспел к тому самому мгновенью, когда всех приговоренных вели уже по левой стороне. Снова лицо Федора Михайловича очутилось прямо против него. Ему показалось, что лицо это ужасно посерело. Он напряженно искал взгляд Федора Михайловича и дрожал в жажде повторения только что мелькнувшей встречи, чтоб уж до конца почувствовать и понять затаеннейшие мысли Федора Михайловича, сосчитать весь остаток желаний его, и только он снова помыслил об этом, как вдруг опять наскочил на два тех же воспаленных глаза на бледном лице; они снова будто сверкнули нездешними огнями в холодной неподвижности утренней мглы и снова оторвались в бездну. Но какой это был неистовый, ненасытный взгляд!
Василий Васильевич не мог лишь точно сказать себе, что он действительно угадал и узнал его, Василия Васильевича. Не счел ли он его за кого-либо иного? Но нет, иначе не могло быть, уверил он себя, стараясь распознать в несколько лишь минут весь надвинувшийся хаос движений, последних намерений, предсмертного боя барабанов, таинственной суеты и замирающего ожидания.
– Вот сейчас и конец, – стучали слова в разгоряченной голове Василия Васильевича. – Вот еще одно и другое мгновенье… Вот еще один поворот колеса… один лишь маленький поворот… и все будет так, как было т о г д а, в двадцать шестом году.
И ему вдруг захотелось сказать именно об э т о м и именно в ту же минуту самому Федору Михайловичу, как бы п р о д о л ж и т ь некогда начатый рассказ. Он даже рванулся было к н е м у и подбежал к самой цепи полицейских, как-то неестественно жестикулируя и про себя с содроганием выговаривая сбившиеся в комок, исступленные слова, как будто э т о уже совершилось и он хочет лишь в дополнение к старому засвидетельствовать новый исторический случай, новое историческое испытание, подтвердив тем самым, что прежний рассказ его вовсе не имел тогда никакого конца.
У Василия Васильевича слезились от холода глаза, и слезинки быстро замерзали в ресницах… А небо было все сплошь крепко-накрепко затянуто серым облачным покровом, под которым неподвижно застыл морозный воздух, до того сжатый и легкий, что малейший шепот затаившей дыхание толпы, малейшие шаги по хрустящему, густому и прибитому снегу – все отдавалось звучным эхом во все четыре стороны плаца.
Среди всего этого столичного события в жестокую зимнюю стужу мелькнуло одно преудивительное явление: в те минуты, как приговоренные отбивали свой предсмертный марш, вдруг сквозь серую пелену облаков прорвался тоненький и внезапный луч солнца и с недостижимой высоты словно улыбнулся людям, иззябшим и дрожавшим на земле. Мгновенной искрой он скользнул по снежному покрову, замаранному человеческими следами, и будто бы на что-то указал, будто о чем-то напомнил, будто что-то даже пообещал… И тотчас же, махнув холодной полоской света, закрылся снова тяжелой и мрачной пеленой. При виде его скользнувшей искорки у Василия Васильевича разжались веки, и он как бы весь встрепенулся.
Подбежав к полицейским, он увидел, что приговоренных уже подвели к эшафоту и у столбов засуетились пуще прежнего главноначальствующие и палачи. Он стал считать минуты и решил привести в порядок все понятое им в два только что мелькнувших мгновенья. Решил он это сделать, п о к а н е п о з д н о, но из всего им понятого он сохранил на следующую минуту в воспламененной памяти только одно: именно то, что мысль Федора Михайловича была безмерна, исступленна и рвалась из него, из его устремленных глаз, как свет всего мира может только рваться из тьмы мироздания. Он понял ужасную силу этой мысли.
Через полминуты он уж не думал о каретах, о последнем марше Федора Михайловича перед войсками и его сверкнувших во мгле зрачках и сосредоточился вместе с толпой на новых движениях, замелькавших перед ним.
Всех приговоренных взвели по лесенке на эшафот. Василий Васильевич смог уж всех их увидать и даже пересчитал: двадцать один человек. С левого фаса эшафота он ясно различил стоявшего первым Петрашевского и через нескольких человек Федора Михайловича. Федор Михайлович, как и прочие, дрожал, видимо от холода, так как был одет весьма легко, всего лишь в весенней шинели цвета вареного шоколада, следовательно в той, в какой был и арестован. Как видно было Василию Васильевичу, он оборачивался то налево, то направо, очевидно рассматривая тех, кто стоял рядом с ним, и при этом переминался с ноги на ногу и как бы горбился, выходя ростом ниже всех стоявших возле него.
Через несколько секунд перед осужденными появился важный, в широкой шинели чиновник и стал разворачивать длинные листы бумаги. Генерал, командовавший гвардией, закричал:
– На кра-ул! – и после этого ряды батальонов взмахнули ружьями и снова замерли.
– Шапки долой! – раздалась новая команда, после чего все должны были обязательно снять шапки.
Толпа сперва не разобрала даже, чего ради понадобилось снимать шапки, и только после полицейских окриков поснимала их и опять уперлась глазами в эшафот. Василий Васильевич оставался неприступен и не снял шапки. Он имел какой-то неудержимый вид.
Стоявшие на эшафоте тоже не сразу сняли свои шапки, так что какой-то военный чин повторил вполголоса:
– Снимите шапки. Будут конфирмацию читать.
Чиновник стал выкрикивающим голосом читать приговор. Он аккуратненько перечислил виновность каждого и каждому повторил:
– «…подвергнуть смертной казни расстрелянием…»
С особой настороженностью Василий Васильевич ловил слова, относившиеся непосредственно к Федору Михайловичу:
– «…А потому военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева – лишить на основании Свода военных постановлений, ч. V, кн. I, ст. ст. 142, 144, 169, 170, 172, 174, 176, 177 и 178, чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием».
Федор Михайлович не двинувшись выслушал приговор, и это сразу ухватил Василий Васильевич. «Тверд, тверд! Сила сама говорит о себе», – мелькнули у него в мозгу обрывавшиеся тотчас же слова, а глаза все никак не могли оторваться от стоявших на помосте людей, и хоть слипались на морозе, но все больше и больше устремлялись туда, где все э т о как бы по программе происходило и должно было вот сейчас, через ничтожнейший миг, кончиться. Он будто забыл о том, что ужасно холодно и что губы у него дрожат еще больше прежнего; напротив того, он ощущал в себе жар, голова словно пылала огнем.
Когда чиновник кончил читать приговор, несколько караульных роздали всем приговоренным белые холщовые балахоны с капюшонами и длинными рукавами, а священник тем временем поднялся на помост и остановился прямо против осужденных, скрестив руки и как бы пришпилив к черной шубе крест. Он заговорил о земных грехах, за которыми по церковному расписанию всегда следовала неотвратимая смерть, а по его мнению уж без этого обстоятельства никак не может обойтись ни один грешник на сей несовершенной земле.
– Но со смертью телесной, – утешительно заключил он, желая сказать напоследок нечто весьма важное и даже приятное, – не кончается жизнь человеческая. Наоборот, верой и покаянием мы можем наследовать жизнь вечную. – Эта мысль ему самому вдруг показалась удивительно заманчивой, и он даже с завистью поглядел при этом на осужденных.
Потом он совершенно неожиданно чихнул раза два или даже того более и стал обносить крест для целования, считая, что без такого именно действия никак уж нельзя будет закончить все дела на э т о м поприще. Однако к его богоугодным услугам осужденные не проявили никакого должного внимания и, переминаясь с ноги на ногу, предпочли держаться в сторонке от приближавшейся к ним фигуры отца иерея, благословлявшего неведомых ему людей в безвозвратный путь. Лишь один Тимковский подошел к нему и, склонив голову, поцеловал крест. Остальные рассеянно смотрели друг на друга, что-то несвязно произносили вслух, оглядываясь по сторонам и тем временем настороженно выжидая свою участь. В морозной тишине гулко пронесся хриплый бас Петрашевского, о чем-то вдруг заговорившего с Момбелли. А Спешнев схватил Федора Михайловича за оба рукава и, вглядевшись в его порозовевшее от холода лицо, о чем-то задумался, и казалось, будто собрался очень долго думать, так что не видно было и конца стремительно набегавшим мыслям. Отвечая ему упорными взглядами, Федор Михайлович громко и с твердостью в голосе воскликнул: «Мы будем вместе с Христом!» Николай Александрович, словно пробудившись, поднял голову с отросшей не в меру бородой, многозначительно потряс руки Федора Михайловича и с презрительно-печальной усмешкой ответил: «Будем горстью праха», – на что Федор Михайлович тоже усмехнулся, но в улыбке его была заключена некая восторженность и полное отдание судьбе.
Он заметно взволновался. Лицо его с бородкой, заиндевевшей на морозе, подергивалось мелкими морщинками, как бы в ответ спешившим мыслям. Он стал вдруг порывисто оглядывать все вокруг себя, словно хотел навсегда и во всех подробностях собрать все в памяти, чтоб никогда уже не забыть эту удивительную картину морозного утра на большом столичном плацу, среди расставленных войск и обступившей со всех сторон горланившей и кашлявшей толпы. Он упорно вглядывался в т е х, кто о с т а в а л и с ь тут, на земле, и сейчас с жадным страхом глядели на занятное событие, столь растревожившее умы и пришедшееся так кстати к их воображению, застоявшемуся в повседневной суете. Оглядев всех, он снова оборотился к своим, к приговоренным, топтавшимся на эшафоте и никак не походившим на всех других, так как жили уже своей, совершенно особенной жизнью. Федор Михайлович как бы измерил тех и «своих» и мгновенно определил, что «т е» – это что-то совсем отдельное, даже постороннее, а «свои» – это уже решительно иные и их никак нельзя ставить в один ряд со всеми, кто случился тут ради одного лишь любопытства. Они – единственные в своем роде и составляют предмет особого внимания. Одним словом, Федор Михайлович полностью ж и л всеми порывами ума и каждую свою последнюю минуту превратил в целый век.
Сыграв положенную роль, посланец церкви сошел с помоста и с сознанием полезности своего участия в общем деле стал в сторонке в качестве как бы частного лица, наблюдающего, впрочем, усердно за «наследованием жизни вечной».
Солдаты стали надевать на осужденных балахоны, но головы оставались пока непокрытыми. Василий Васильевич подметил тревожную торопливость: ноги и руки приговоренных плохо повиновались, как бы безучастно двигались и вместе с тем куда-то спешили. Он явственно расслышал, как Петрашевский совершенно внезапно и с непринужденным спокойствием, даже будто улыбаясь, проговорил:
– Господа, как мы, вероятно, смешны в этих балахонах! – на что многие обернулись на него и, видно, силились улыбнуться, хоть и не улыбнулись.
Палачи – их было трое, точно так же, как и столбов, – поставили меж тем всех осужденных на колени и стали ломать над каждым шпаги, заранее подпиленные. Толпа уж совсем была сбита с толку и не понимала, для чего это делается. После ломанья шпаг палачи стали сзади первых трех стоявших в ряду, в числе их и Петрашевского, и начали завязывать балахоны. Они провозились минуты две, а тем временем у эшафота появились верховые жандармы и гвардейцы с султанами. Вообще все как-то еще больше засуетились; видно, шли приготовления к самым последним действиям.
Трех первых в балахонах свели с помоста и подвели к столбам. Палачи заторопились вслед за ними и тотчас же стали привязывать их, при этом руки затянули позади столбов и веревками обвязали, словно поясами.
Тем временем против столбов выстроился взвод гвардейцев – человек около пятнадцати. Они были чрезвычайно высоки ростом, в высоких и толстых сапогах, с угрюмыми и широкими лицами, и тупо смотрели на землю.
Василию Васильевичу показалось, что Петрашевский замахал руками и хочет о чем-то заговорить, а быть может, и закричать. Стоявший рядом с ним молодой безусый человек закачался и чуть не упал, так что палач стал его поддерживать, пока не привязал к столбу.
В толпе расслышал Василий Васильевич, как заговорили о Григорьеве, будто это и есть тот, что еле держится на ногах и бледен как полотно, а рядом с ним будто тоже военный стоит, по фамилии Момбелли, тоже из гвардии и тоже из заговорщиков. Но Василию Васильевичу было не до фамилий.
Раздался приказ:
– Колпаки надвинуть на глаза!
Палачи подскочили снова к столбам и надвинули капюшоны на головы привязанных. Но тотчас же один из осужденных как-то ловко освободил свою руку и, просунув ее к лицу, сорвал с себя колпак. Все как один заметили это маленькое и так кстати пришедшееся движение, как будто оно именно так и должно было случиться, для большего впечатления и полноты картины; Василий Васильевич увидел из-под откинутого капюшона черную голову Петрашевского, с воспламененными глазами и дрожащими губами; они о чем-то будто шептали и намеревались точно после долгого молчания возвестить непостижимую и роковую тайну. Петрашевский смотрел прямо на гвардейцев; вся же толпа, как один человек, обратила взоры прямо на него и затаила дыхание, как бы приготовившись к последнему мгновению, к самой судороге смерти.
Послышалась быстрая и мелкая барабанная дробь, и возле эшафота раздалась команда:
– На при-цел!
Василий Васильевич увидел, как гвардейские стрелки мигом взмахнули ружьями и, лихо приложив их к правому плечу, стали прицеливаться.








