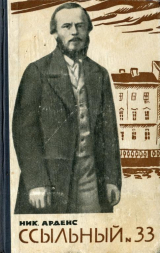
Текст книги "Ссыльный № 33"
Автор книги: Николай Арденс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц)
Ссыльный № 33
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Восхитительная ночь Федора МихайловичаСреди спешивших домой прохожих, по широкой панели Владимирской улицы, от Невского, торопливым шагом шел молодой человек среднего роста, в коричневой шинели, довольно мешковато сидевшей на нем.
Ночь была сырая и желтая, какая обычно бывает в петербургском мае. С моря тянул гнилой наплывный ветер.
Молодой человек свернул с Владимирской в Графский переулок и подошел к первому подъезду. Отперев толстым ключом дверь, он поднялся по лестнице в два марша на площадку и вынул из кармана другой ключик. На узенькой дверце, выкрашенной в бурую краску, покачивались на шнурочках две визитные карточки, и при свете белой ночи, проникавшем через окно с улицы, можно было прочесть на одной из них, старой и запачканной: «Федор Михайлович Достоевский, полевой инженер-подпоручик», а на другой просто: «Дмитрий Васильевич Григорович».
Молодой человек – один из хозяев этой квартиры – вошел в первую комнату и зажег свечку в медном и позеленевшем подсвечнике. Комната оказалась пустой. Его сожителя, Григоровича, не было дома.
Федор Михайлович прошел в следующую, угловую комнату, которой и оканчивалась квартира. Он снял свой черный сюртук (купленный еще год тому назад, при выходе в отставку), казимировый жилет, сменил голландское белье и надел старый военный китель, который теперь донашивался. Циммермановский цилиндр тщательно вычистил особой беленькой щеточкой и спрятал в картонку.
Потом он медленно оглядел все кругом и, заметив, что на отрывном календаре текущего, 1845 года красовалось все еще вчерашнее число, сорвал листочек и, смяв его, бросил в пепельницу.
По всему видно было, что ему спать не хотелось. Он несколько раз прошелся по комнате, из одного угла в другой, причем каждый шаг его вызывал тягучий скрип пола; хлебнув из стакана крепкого холодного чая, он растворил окно и сел на стул у подоконника.
В густом лимонном свете ночи можно было различить довольно широкие черты его лица, крупные скулы, большой лоб и спускавшиеся над тонкими губами редкие и еще короткие бледно-каштановые усы.
Широкогрудый и плечистый, хоть и небольшого роста, он казался на вид весьма крепким молодым человеком. В его светло-серых глазах играла необычайная живость и зоркость, и во всех движениях сразу выдавался торопливый, беспокойный темперамент. При этом он как-то рассеянно смотрел перед собой, и на первый взгляд могло показаться, что он без памяти влюблен и к тому же имени е е даже не знает. Но это только так казалось на первый взгляд. На самом деле вся рассеянность исходила из какой-то затаенной тревоги души и ума. Какая-то сильная и жадная мысль светилась в этих серых, исподлобья хмурящихся глазах, какая-то угрюмая озабоченность проглядывала в его страстном, просящем взгляде и в нетерпеливых движениях рук.
Из окна он оглядел грязный двор, по которому разгуливали два пса и шныряли вдоль сараев огромные крысы. Но ничего кругом его не занимало. Взор словно блуждал в пространстве. Весь вечер, оказывается, он просидел со своим приятелем над Гоголем, Гоголь и был теперь причиной всей его нетерпеливой задумчивости. То есть, собственно, не столько Гоголь как знаменитый сочинитель, сколько самое действие Гоголя, произведенное на него. Разбирая Гоголя, он старался привести в порядок свои собственные взбудораженные мечты и восторги. Перед Гоголем и Пушкиным он давно благоговел и ставил им вечные монументы. Но сегодняшнее чтение Гоголя расшевелило в нем особенную жажду сочинительства да к тому же и жесточайшее самолюбие, и он, как школьник, возмечтал о славе сочинителя, о блистательнейшей из всех карьер. И, готовый уже прямо поверить в вечность, он вспомнил о своей только что конченной, весьма старательно и до тонкостей отделанной работе. Это был роман в письмах и дневниках, названный им «Бедные люди». Он долго сидел над ним. В ноябре было уже кончил, но вдруг взял и снова все переделал. То, что он так много исписал бумаги, а получилось так мало, его не смущало ни капельки. Ведь Шатобриан, припоминал он, переделывал свою «Атала́» семнадцать раз. Стерн потратил сотни дестей бумаги, покуда написал «Сентиментальное путешествие». А Пушкин? А Гоголь?
– Да, Рафаэли пишут годами, – рассуждал он, – и выходит – чудо! А Вернэ мажут в месяц по картине, для их полотен строят особые залы, а дела нет ни на грош.
Федор Михайлович достал из застекленного шкафа какую-то папку и, раскрыв ее, стал перебирать разрозненные листы и маленькие листики, на которых, можно было догадаться, записаны были отдельные мысли, отдельные сцены и разные черты лиц, характеров и всяких душевных превращений, издавна и упорно его занимавших.
В своем романе он заговорил о людях совершенно особой судьбы. Господа Онегины и господа Печорины, хоть и блистательно были, по его мнению, выписаны в романах, не соблазнили его своими позами и тоской. И старосветские владельцы крепостных деревень, столь прозорливо подмеченные Гоголем, оказались для него чужим миром: не в них нуждался он, пристрастившийся к перу горячий поклонник литературы, так вознесенной уже могучим словом критика «Отечественных записок» Белинского.
Его приковал к себе огромный мир обитателей городских маленьких квартирок, – вот таких, в каких и он сам живал с родителями. Он как бы вжился в этот мир незаметнейших людей, разбегающихся по утрам в различные канцелярии, присутствия, конторы и аудитории. Его всегда трогали их чистые, хотя всего только «титулярные», сердца, их низенькие комнаты с пряными запахами и маленькими оконцами, обращенными обязательно к грязному двору, их всегда старая, подержанная, с базара привезенная, утварь, диваны со скрипучими пружинами и ширмы, считавшиеся пределом роскоши.
Особенно же его трогали их чувства, их желания, их ежедневные заботы, всегда жестоко сцепленные с нуждой и обидами.
Перед ним уже давно – еще с московской жизни на Божедомке – стояли образы этих бедных, измученных, почти больных людей. Они разрывали его сердце, и часто-часто приникал он к страницам повестей Пушкина, Лермонтова и Гоголя, где приоткрывались завесы над мрачными и холодными углами Выриных, Красинских, Башмачкиных и Поприщиных… Вот о ком надо, – думалось ему, – многое досказать. Ведь Гоголь многого не сообщил о них, он лишь на одну только их стороночку бросил свет. Ведь на самом-то деле не одни буковки да изорвавшиеся шинели тревожат Акакиев Акакиевичей, обитающих во всех городах России. Они ведь тоже и чувствуют про себя весьма и весьма раздражительно и часто многого и многого хотят, о многом даже мечтают, хоть и боятся говорить о том. Они весьма пытливы и богаты всякими чувствами. Они хотят сами себя понимать, да чтобы их понимание знали и другие. Они и в книжечки заглядывают и всякие романы и повестушки, особенно натуральные, с упоением читают, – вот как тот старичок, который сейчас изображен в романе и который, потеряв единственного и любимого сына, поверженный до крайности горем, бежит под дождиком за гробом и непременно с карманами, переполненными книгами, и их, эти книги, захватил с собой на похороны, не забыл, – нет, не забыл и о них.
Григорович ежедневно подмечал, как Федор Михайлович все никак не мог оторваться от собственных страниц и, перебирая листки из папки, снова и снова заново перечитывал их и все что-то исправлял и дополнял. А в иные дни он уходил из дома куда-либо в отдаленные переулочки – за Нарвскую заставу, или на Охту, или на самые заброшенные места Петербургской стороны – и там, выискивая всякие изнанки, всматривался в неказистые жилецкие комнатушки и узенькие дворы и даже другой раз заговаривал с их обитателями – этак для необходимейших впечатлений и нового проникновения в захудалую жизнь людей, достойных полного внимания господ сочинителей. И при этом осторожно, так, чтобы никто и не догадался о его намерениях, записывал все слышанное и замеченное в свою истрепанную, в клеенчатой обертке, записную книжку. Так уяснились им все узелки сочинения, всё более и более наполнявшегося презанимательными, хоть и обыденными, наблюдениями.
Федор Михайлович пребывал в повышенных чувствах. Это были жаркие минуты творческой страсти, частенько с ним уже случавшиеся и ранее. Он писал, задыхаясь от порывов вдохновения и не давая никаких передышек своим воображаемым читателям, писал торопливо, словно боясь, не подсматривает ли кто за ним и не собирается ли кто перебить его мысли; он все оглядывался по сторонам, будто оберегал припасы счастливо найденных слов, чтобы как-нибудь не растерять их, рассчитывая, что каждое может пригодиться, и при этом весь как бы сходился с героями своего романа. В эти проницательные минуты он видел (не на самом же деле, но все-таки видел), как перед ним стоит словно живая, с тонким искусством причесанная, Варенька Доброселова и как на ее окошечко тихими и скромными глазами смотрит с другой стороны улицы Макар Девушкин. Он слышал, как по бумаге ходит перо Макара Алексеевича, изливающего свои чувства, согретые неизъяснимой любовью (О! Гоголь ничего, решительно ничего не сообщил о таких втихомолку сверкающих чувствах!), и как Варенька Доброселова ждет не дождется его писем с длинными-предлинными строчками на пяти и даже того более страницах. И в эти минуты Федор Михайлович, хоть робко, думал, что он и в самом деле писатель и даже не может быть не кем иным, как именно писателем.
– Да, я выскажу все не договоренное Гоголем, – решил он, – и выступлю со с в о и м словом! Мои люди заговорят так, чтобы быть услышанными и вполне узнанными.
Он проверял в сотый раз все их мысли и старался представить их самым эффектнейшим образом, с вызовом и претензией, – впрочем, совершенно справедливыми.
А за всеми этими бескорыстными творческими мечтами (они и были самой сутью его исканий) возникали в нем и чрезвычайно прозаические надежды. Авось удастся расстаться со своими скрипучими козловыми башмаками и купить на Невском этакие лакированные! Авось удастся рассчитаться со всеми долгами и вполне независимо, чинно и прилично зашагать по столичным панелям.
«Бедные люди» возбуждали вот эти заманчивые грезы. Он не хотел сперва связываться с журналами, которые только обирают сочинителей, а думал сам издать свой роман. Но для этого нужны деньги и деньги, а денег-то и не было.
– Напечатать самому – значит пробиться вперед грудью, – уверял он себя и брата Михаила, которого страстно любил и который был на всех его путях неизменным другом.
Но он убедился в том, что самостоятельно не издать ему свой роман.
– Книгопродавец – алтынная душа, – прижмет непременно, и я сяду в болото. Непременно сяду.
И он рассчитал, что если сдаст роман в «Отечественные записки», которые расходятся в двух тысячах пятистах экземплярах, то его прочтут по крайней мере сто тысяч человек.
– Напечатай я сам – моя будущность литературная, жизнь – все обеспечено, – думал он. – А если нет? Если вот эти олигархи и диктаторы, которые засели в журнальных редакциях, возьмут да и откажут…
Тогда, может быть, и в Н е в у. Что же делать? – Он готов на все, лишь бы не погибла идея. А идея – это роман. Это не переводишки, которыми он занимался ради денег. Это уже нечто с в о е. Это то, быть может, на что все эти гончие из редакций должны были бы наброситься, как на свежую добычу. Это уже нечто п о д Ш и л л е р а. – Устрой я роман, тогда Ш и л л е р найдет себе место, или я – не я.
Из всех этих пылких стремлений можно было заключить, что Федор Михайлович хочет увенчать уже давно им начатое дело, при этом дело, ставшее сегодня главным в жизни, может быть даже единственным, ради которого тратятся лучшие силы ума и чувств. И действительно, не один уже год Федор Михайлович расходует все, без остатка, эти свои силы. Тому лет десять и не менее, еще в отрочестве, а потом в юности, он пристрастился, вместе со старшим братом Мишей, к книгам. И днем и даже по ночам читали они сообща и вслух разные презанимательные истории про капелланов, бенедиктинцев, про «кошмары», «ужасы» и «тайны»… И всевозможнейшие доны Педры и доньи Клары, и разные Альфонсы и Лючии, и иные аглицкие, испанские и итальянские выдумки, вычитанные у Анны Радклиф и прочих пылких сочинителей, «въелись», как он вспоминал, в его голову, и почти что навсегда. А потом к ним прибавлен был сам Шекспир (им уже просто бредил юный Федор Михайлович), потом Шиллер и далее многие-многие любопытнейшие авторы, обольщавшие самолюбие и воображение. Но с особенным жаром он читал и перечитывал ветхозаветное сказание о многострадальном Иове, которого жестоко испытывала судьба, послав ему нищету, болезни и прочие муки и лишения. И так книги стали его неотлучными спутниками дневных занятий и долгих зимних, бедно освещенных вечеров. А с книгами у него крепко соединились картины самой жизни, при этом жизни чрезвычайно и разнообразно суетливой и представленной сочинителями в малейших подробностях, то с фантастическими событиями, то с самоотверженными порывами, столь возвышавшимися над всей земной скудостью, то с неоглядными мечтаниями о вечной заре и незаходящем солнце. И какие чудесные мгновения переживал он и все думал: вот бы быть и мне сочинителем, вот бы и мне написать что-нибудь из венецианской, например, жизни, какой-нибудь этакий хитрый и затейливый роман о венецианках и венецианцах… И он что-то все про себя нетерпеливо писал, все грезил о поэтах и страстно, безмерно порывался стать сочинителем. Да и впрямь в душе его пылал огонь, и вырастал он как уже вполне отдавшийся воображению и разным затеям сочинитель, – так по крайней мере думал его брат Миша. Какая-то сила мгновенных объяснений и выводов рвалась из его горячей груди. Какой-то кипящий источник мысли уже оживлял все его существо.
Федор Михайлович с жадностью поглощал исторические и фантастические сочинения и чего-чего только он не запомнил, и в прозе и в стихах! И Карамзина, и Нарежного, и Пушкина, и Жуковского, и Вальтер Скотта, и многих-многих прочих знаменитых сочинителей. Сказка Ершова о Коньке-Горбунке и фантастические баллады Жуковского были до конца выучены наизусть, а «История государства Российского» стала уж прямым настольным сочинением.
Но ко всем этим юным привязанностям Федора Михайловича надо добавить немаловажные и даже, быть может, сокрушительные события самой жизни, обеспокоившие рано встревожившийся ум и так властно воздействовавшие на направление самих целей и понятий его. Он был чрезвычайно, непомерно озабочен мыслями о живых людях и чувствительно переживал их печали и всякие удары судьбы. Невыразимой тоской и состраданием проникался он, глядя на деревенских детишек под Петербургом, бегавших по грязным улицам в прохудившихся, засаленных одежонках с голыми локтями и мотавшимися на ниточках пуговками. И женщины и мужики в деревнях, через которые он с Григоровичем проходил, еще учась в Инженерном училище, вызывали у него совершеннейшую потерю покоя – так страшны и безрадостны были рассказы стариков и молодых крестьянок. За самыми ничтожнейшими знаками жестокости, виденными им, тотчас следовали его возмущение и раздражение. Не раз ему доводилось наблюдать, как по Лиговке переходили под конвоем многочисленные тюремные обитатели – арестанты в потемневших от грязи полотняных штанах и куртках, – и при этом волокли за собой кандалы, громыхая ими и звеня. Федор Михайлович с дрожью в голосе, останавливаясь перед мрачным шествием, восклицал: «Да кто посмел опутать человеческие ноги цепями? Кто дал такие права? Да у людей ли все это делается?» Как-то по пути в Петербург, куда его вместе с братом Мишей вез отец для определения в Главное инженерное училище, он увидел, как некий детина фельдъегерь бил кулаком молодого парня – ямщика, понукая и торопя его, и как этот парень в те же такты бил кнутом по лошадям. И каждый удар по лошадям следовал за каждым ударом по человеку. Потрясенный этой свирепой картиной, Федор Михайлович решил, что если он когда-либо откроет «филантропическое» общество, то на печати его как некую его эмблему велит вырезать виденную им на станции под Петербургом вот эту «курьерскую тройку».
У Федора Михайловича не было решительно никакого пристрастия к математическим наукам, – он бредил поэзией: в поэзии была заключена жизнь, а жизнь возбуждала к себе величайшее внимание начинающего сочинителя, чувствовавшего в себе поэтические силы и носившегося уже с идеями непременного человеческого счастья. И вот сейчас он и пребывал в таком экстазе творчества. Он страстно хотел заявить о себе как о сочинителе. Вместе со своим приятелем по Инженерному училищу Николаем Шидловским, еще живя в «замке» Павла I, он все разбирал отечественные и заграничные образцы поэзии, прозы и драмы и что-то уже сочинял, какие-то даже трагедии о Борисе Годунове, о Марии Стюарт, а сейчас в руках у него был уже целый роман, причем роман как раз о том, с чем он более всего в жизни уже столкнулся, – о человеческой несправедливости и униженности, ничем не опороченной, а, наоборот, выступившей во всех высоких помыслах и чистейшей любви.
Перечитывая и в сотый раз перемарывая страницы своей рукописи, Федор Михайлович пребывал в тревоге авторских чувств. «Что станется с моим писанием? Какова судьба и кто, кто примет все, что выношено в душе и скрылось в этих листах?» – суетились мысли в молодом и самолюбивом воображении. Он уверял себя, что его роман – не зря брошенные слова, что это немалая придумка и стоит она немалого внимания. А в иные минуты его охватывали жгучие сомнения: «Придумочка-то действительно немалая, да найдутся ли люди, которые поймут ее и признают?! Ведь у каждого свои претензии и свои фантазии… Да мало ли еще на свете завистников и недоброжелателей!» И не было конца взбудораженным чувствам Федора Михайловича. И все вокруг казалось ему сумрачным и коварным.
Терзаясь собственной неустроенностью, он беспокойно смотрел на свою унылую комнату, на дымчатые и отставшие по углам обои, на свой широкий письменный стол, на котором с вечера были оставлены стакан чаю и тарелка с куском холодной говядины. А этот двор – гадчайший и мизернейший двор!.. Нет, он не выживет здесь ни одного дня, если грянет катастрофа и его роман ошельмуют всякие редакторишки…
Он готов уже отказаться даже от славы. «На что мне слава!» – рассудительно и успокоенно порой думал он. Он совсем не посягает на Гоголя. Пусть Гоголь получает хоть по тысяче рублей серебром за лист. Ему бы только долги выплатить.
Ночь уже была на исходе. В комнате становилось совсем светло. Он присел на диван, прижавшийся к углу, как вдруг задребезжал звонок. Федор Михайлович вскочил и пошел к двери.
На пороге стоял Григорович, а сзади него Некрасов, в серой шинели и в темной широкополой шляпе.
Федор Михайлович не успел и слова вымолвить, как был схвачен объятиями Некрасова, а за ним и Григоровича. Некрасов с жаром сжал его плечи и несвязно пролепетал что-то восторженное. Оказалось, вместе с Григоровичем они весь вечер читали по рукописи «Бедных людей», и чем дальше читали, тем более разгорались любопытством.
Григорович, поглядывая на него и будучи не в силах от волнения стоять на одном месте, расхаживал по комнате, потирая ладонь о ладонь, и уверял:
– Да этак писать под стать самому Гоголю. Тут что ни слово, то перлы, без всяких подделок. Из самой души.
Федор Михайлович взволнованно дышал, ощущая свое собственное торжество. Щеки его раскраснелись. Но слова не шли из горла.
Некрасов и Григорович стали сравнивать «Бедных людей» с «Мертвыми душами» и «Шинелью», но внушительнее всего было сказано про Белинского, которому надо-де немедля показать новый роман и объявить о новом сочинителе.
– Сегодня же снесу ему вашу повесть, – заключил на прощанье Некрасов, подергивая ямкой левой щеки. – Вы увидите – да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа. – Некрасов еще раз потряс Федора Михайловича от избытка удовольствия: – Ну, теперь спите, спите. Я ухожу, а завтра – к нам. Немедленно к нам.
Некрасов ушел, а Григорович все никак не мог успокоиться и рассказывал своему сожителю, как он привел Некрасова в такое смятенное состояние:
– Стали мы читать рукопись и решили – с десяти страниц видно будет. Прочитали десять – и не заметили, как прочли вторые десять. Так до четырех часов и просидели. Николай Алексеевич читает про смерть студента, и вдруг я вижу, в том месте, где отец бежит за гробом своего сына, у него голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» Это про вас-то. И этак мы всю ночь. А когда кончили, то в один голос решили прямо к вам идти. Некрасов боялся, кабы не растревожить вас среди сна, а потом и сам сказал: «Что же такое, что спит? Мы разбудим его. Э т о выше сна!»
Федор Михайлович был подавлен и смят. До сна ли было после таких похвал!
– Нет, – до чего дошло! У иного успех… Ну, хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали, со слезами, в четыре часа… Разбудили, потому что э т о выше сна… Ах, хорошо! – с упоением говорил он самому себе.
Сразу менялась вся картина жизни. Роман печатается. Он выступает со своим словом, становится на деле (не в мечтах же только!) сочинителем. Е г о читают, его слушают. Он – пусть чуточку – но приблизился к Гоголю. Он уже вполне верит в свое назначение, в свое сочинительство. Да ведь это же вся цель жизни! Тут найден весь путь! А помимо всего он выплачивает за квартиру и летом едет в Ревель, к брату. А там новые и новые замыслы. И снова деньги. И всем долгам при этом конец.
Он лег на диван и расстегнул китель. Не то ему слышался гром музыки, не то океан своими волнами обступил его со всех сторон…
– Нет, что же это такое будет! – рассуждал он про себя. Неужто все подписано? – Пульс у него так стучал, как будто он только что нашел фантастический кусок золота и бежит по переулкам – скорей рассказать о небывалой находке.











