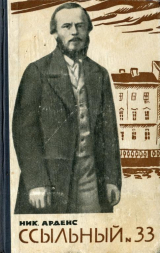
Текст книги "Ссыльный № 33"
Автор книги: Николай Арденс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
На субботнике у Сергея ФедоровичаПисьмо Белинского к Гоголю, прочитанное Федором Михайловичем на «пятнице» у Михаила Васильевича, с торопливостью переписывалось среди посетителей кружка. Каждый счел нужным иметь в кармане запретный и бичующий текст. Филиппов, занятый отысканием частей для печатного станка, предчувствуя сокрушительное восстание по всей Восточной Европе, сделал несколько копий письма и заранее объявил Николаю Александровичу:
– Коль станок будет готов, первым делом напечатаем письмо Белинского. Что за силища-то!
Копия письма Белинского попала и к Василию Васильевичу.
– Чувствуете смысл-то всего э т о г о? – спросил тот Федора Михайловича, представ пред ним прямо лицом к лицу на Гороховой улице. – Чувствуете, как убита Россия в этом письме, со всеми ее порядками, и как без страха положена в гроб и заколочена?
– Убить-то не убита, – ответствовал Федор Михайлович, – а тоска – великая, что и говорить.
– Ну уж, довольно тоски! – решительно выдвинул свою мысль Василий Васильевич. – Из тоски дело не делается. Да и приличествует ли вам, сочинителю, тосковать? Белинский – надо кстати заметить – обходился без тоски, а коли видел, что знаменитость завирается, будь то Гоголь над всеми Гоголями, без стеснения уничтожал до самого основания. И вам, сочинителю и предвосхитителю грядущих веков, надо поступить точно таким же манером – в поучение и исправление человечества. Ведь вы-то от наставления не отказываетесь? Вы-то любите поучать? И небось положили себе за правило – служить не более и не менее как всему человечеству? Вот и послужите, господин сочинитель. Явите миру свое величие и свою силу. У вас есть что показать миру и чем блеснуть перед ним. Станьте превыше кружков и обратитесь к делу. Дело увенчивает мысль человеческую. Уверяю вас. Увенчайте!
Василий Васильевич показал особую твердость, так упорно было вдруг сказано об увенчании. У Федора Михайловича даже замутилось в голове: ведь какое убийственное, какое величественное напоминание! И сделано-то оно совсем вдруг, весьма просто и без всякого видимого повода.
– Увенчать все дело… Да ведь в этом-то все дело и заключено!
Федор Михайлович быстро распрощался и заспешил, видимо решив поскорее и в одиночестве обдумать, как именно увенчать.
– Увенчать все дело… ведь это сущая и единственная правда! Чрезвычайно странно лишь то, что она всегда была со мной да и теперь стоит предо мною, – раздумывал он, все куда-то торопясь.
В эту минуту сзади себя он услыхал приближавшиеся звонкие шаги жарко дышавшего рысака, одним взмахом отмеривавшего целые сажени по мостовой. Он невольно обернулся и увидел несущегося на лихаче Николая Александровича с развевающимся плащом и в высоком цилиндре, который придерживался им правой рукой, в то время как левая с тонким изяществом держала модную трость.
Спешнев заметил Федора Михайловича и остановил рысака.
До дома Ефимова, где жил Дуров, было недалеко, и они пошли пешком.
У Сергея Федоровича назначен был очередной субботник. Хоть Сергей Федорович и противился устройству таких вечеров и нетерпеливо ждал, когда они окончатся, тем не менее ему решительно невозможно было от них отказаться, чтобы тем самым не проявить недостойную боязнь. Собиравшиеся у него принадлежали к кругу Михаила Васильевича, но, однако, в отношении некоторых вопросов социального переустройства держались иных мнений, и в особенности касательно теории самого Фурье. Полные горячих желаний и любви, но беспомощно фантазировавшие, из этой теории они заимствовали лишь одну столь обольщающую сердце любовь ко всему человечеству и очаровательные намерения вовсе искоренить зло на земле, сохранив для людей целиком только одно добро. Их успокаивало то обстоятельство, что за всю февральскую революцию ни один последователь любвеобильного Фурье не вышел на улицы Парижа, из пренебрежения к политическим волнениям и суете, а что касается экономических планов Фурье, то красоты фаланстеров, о коих уж с лишком двадцать лет мечтали фурьеристские журналы, заслужили всяческое одобрение с их стороны, хотя, по общим отзывам, совершенно не подходили к российским пейзажам. Короче говоря, у посетителей Сергея Федоровича, каковых было, впрочем, весьма ограниченное число, Фурье не пользовался той славой, какую ему воздавал Михаил Васильевич и иные на собраниях у Покрова.
Здесь, однако, надо заметить, что к кружку Сергея Федоровича отчасти примкнули и Спешнев с Момбелли – люди, отнюдь не разделявшие высоких чаяний Сергея Федоровича и его христиански настроенных друзей. Николай Александрович втайне вознамерился поворотить новый кружок на свой путь и сеял в нем коммунистические идеи, – в том и была цель его вступления в кружок. Он не слишком доверял расплодившимся (ввиду обилия свободного времени у европейских философов) идеям всеобщего добра и пришествия на землю «общечеловека» и счел должным предостеречь от утопий и возможных заблуждений своих доверчивых приятелей. Увы! Его старания пока не приносили плодов.
Чрезвычайное смущение испытывал Федор Михайлович рядом с Николаем Александровичем. За всеми словами, которыми они скупо обменивались, ему всегда помнились пятьсот рублей, переложенные из звенящего ящичка Николая Александровича в карман Федора Михайловича…
Николай Александрович (так назойливо казалось Федору Михайловичу) сам первый всегда приступал к разговору при встрече с ним, точно нарочно стараясь опередить его в мыслях и затушевать незначащее обстоятельство насчет недавних денег…
– Про обед у Европеуса в честь Фурье слыхали? – поторопился Николай Александрович, идя рядышком с Федором Михайловичем по панели. – Наши фурьеристы рассыпались в речах после удивительно тонкого обеда в складчину. Ханыков расписал новый мир, совершенно противоположный миру действительному. Добрейший Ахшарумов тоже преисполнился мечтами о будущих роскошных столицах, плодах и цветах, которыми мы заменим нашу нищету. Портрет Фурье, выписанный из Парижа, тут же красовался на стенке, разукрашенный зеленью и цветами. Магистрант Европеус прочел стихи из Беранже о некоем «безумце», который обязательно явится в мир и озарит его, если к тому времени солнце по каким-либо причинам замешкается или вовсе скроется во мраке вселенной. Разумеется, все эти красивейшие мечты тоже дело, без которого прожить никак нельзя. Но нужны основания. Нужны действительные пути. Без оснований наши мечты – пустой бред! И Ахшарумов вместе с нами имеет право мечтать о новых и чудесных столицах… только они вырастут после того, как мы снесем настоящие… А о настоящих-то столицах, говорят, Ахшарумов выражался удивительно крепко и с толком. Про наш Петербург слыхали что он говорил? Это – безобразное большое и развратное чудовище, это – скопище людей, задавленных однообразнейшей работой, изнурительным и грязным трудом, тяжкими болезнями и вопиющей бедностью. Вот что такое наша столица! И это – безупречная правда. Ахшарумов умен и прав. Но ведь нужны же меры – как освободиться от всей этой убийственной нищеты, от этого бесправия и разврата. А они тешатся фаланстериями, которые, мол, спасут… Спасение же только в революционной организованности и сплочении сил, которые сокрушили бы ненавистный самодержавный строй. И поэтому надо, господа, приступать к всенародной пропагаторской деятельности, в коей освобождение крестьянства с безвозмездным наделением его землей должно быть первым пунктом.
– Удивительные люди Петрашевские и Ахшарумовы, – заметил Федор Михайлович. – Они преданы высоким идеям, они видят великие пути нашей жизни, но ходить по нашей земле они не научились и не знают, что прежде всего нужно нам, чего ждут миллионы людей в наших деревнях; они предлагают для водворения здравого рассудка в России совершенно неиспытанную иностранную теорию, для которой-то, быть может, и почвы у нас сейчас не найдешь, хоть иди пешком через всю Сибирь…
– Вы вполне правы. А между тем мы более, нежели кто-либо, нуждаемся в новых теориях и их применении у нас. Мы стоим на месте, и лишь немногие из нас думают о том, чтобы сдвинуться… А н а д о бы и надо поскорей.
Поднимаясь по лестнице к Дурову, Спешнев вспомнил насчет станка для печатания, устраиваемого Филипповым, но не успел Николай Александрович с похвалой отозваться о Филиппове, как из открывшейся в квартиру Дурова двери донесся его звонкий голос.
Филиппов читал по рукописи перевод, сделанный Милюковым, из «Слов верующего» Ламеннэ. Высокий церковнославянский слог перевода сообщал чтению некую торжественность. Все сидевшие, с задумчивым Сергеем Федоровичем в центре, залюбопытствовались чтением и временами одобрительно качали головой, видимо растревоженные афоризмами французского проповедника.
– Рассадник мудрости! – заметил Сергей Федорович по окончании чтения.
Николай Александрович недоверчиво промолчал, как бы давая понять, что отнюдь не разделяет восторгов насчет рассадника, и сразу заговорил о необходимости литографирования на новом станке просветительных сочинений, минуя цензуру.
Николая Александровича поддержал и Федор Михайлович:
– Положительно скажу, что цензура доведет до столбняка нашу литературу. Шагу не ступишь, чтоб она тебе не придавила пальцы. Мы должны обратиться к печатанию полезных сочинений, хотя бы и запрещенным путем. В том будет состоять наше настоящее дело.
– И это дело мы направим против деспотизма властителей всех народов! – пылко подхватил Филиппов. – Европа залита кровью восстаний, и притеснители свирепствуют в своих стремлениях задушить революцию. Францию уже постигла несчастная участь. Италия и Германия приближаются к роковым концам. Одна лишь Венгрия еще горит над всей Европой. Но и ее силы истощаются. Войска Паскевича – их более ста тысяч – перешли границу и теснят венгерцев. Трансильвания бьется как в тисках, и, быть может, недалек тот час, когда мы должны будем заменить уставших борцов на Западе. Мы должны быть готовы к величайшим событиям, господа.
– Что бы ни случилось, друзья, мы будем делать свое дело, каждый, кто к чему призван. И я приветствую нашу решимость, – с твердостью заявил и Сергей Федорович.
На столе появился наполеоновский кофейник, и из рук в руки были переданы чашки кофе со сливками. Горячая беседа продолжалась.
На обеде у Николая АлександровичаНа другой день совершенно неожиданно для Николая Александровича, прямо к обеду, собрались в его квартире некоторые члены кружка, и в том числе поручик гвардии Григорьев, изысканно воспитанный в пажах молодой человек, решивший прочесть своим ближайшим друзьям написанную им статью под заглавием «Солдатская беседа».
Николай Александрович слыл радушным хозяином и после обильного и весьма затейливого обеда, принесенного прямо от Излера, перевел гостей в просторный кабинет, с кожаной мебелью.
Григорьев приступил к делу. Читал он недолго, так как вся его «Солдатская беседа» состояла из короткого рассказа одного отставного солдата Семеновского полка, бывшего сдаточного из крепостных, перетерпевшего много на своем веку и в деревне, и в солдатах, и в кандалах. Рассказ вышел хоть и не больно силен, да зато немногими словами определил все порядки николаевской солдатчины и крепостного произвола. Головинский и Львов похвалили Григорьева; Федор Михайлович же и другие как-то нерешительно промолчали, хотя, видно было, самая-то цель рассказа угодила всем.
– Старичок ваш, – лицо верное, – заметил Пальм, знаток военной муштры, внушавшей ему давнее отвращение. – Изображение таких лиц полезно и должно быть предаваемо тиснению, так как может вызвать в народе достойное отношение к царским палкам и бесчеловечному произволу помещиков.
– Совершенно правильно, – согласился Филиппов. – Наша цель, господа, выставлять напоказ жестокости времени и тем пробуждать в народе человеческое достоинство. Человек унижен, забит. Надо объяснить ему это и заставить его поднять руку против угнетателей.
– Личность у нас отодвинута на последний план, – тихо и с задумчивостью в голосе сказал Федор Михайлович, – унижена. Это правильно. Недавно все мы слыхали о палках, примененных в Финляндском полку. Фельдфебеля, вступившегося за искалеченных ротным командиром солдат, прогнали через шесть тысяч палок. Это ли не поругание личности человеческой? Человека подняли с земли мертвого.
Федор Михайлович опустил голову.
– Мы с вами, друзья, стоим у края бездны, – снова заговорил Филиппов. – Если не последует реформа со стороны правительства, крестьяне сами восстанут. А ждать, господа, освобождения со стороны правительства нет оснований: ведь там сидят те же помещики. Значит, восстание, господа, и другого исхода нет.
– Если нам суждено решать исторические вопросы, – присоединил Николай Александрович, – то не будем медлительны. Вопросы наши давно требуют конца. А какой конец может быть у нас, в России? Свержение деспотизма! На этом пути мы должны преодолеть все преграды, вплоть до того, что если придется обезглавить самодержавие, то надо поддержать и эту идею. Цареубийство может быть полезным действием, коль оно станет всенародной местью за угнетение миллионов рабов.
– Деспотизм должен быть умерщвлен! – решительно вставил Филиппов.
– И заменен правлением, которое укажет новые пути жизни народа, – добавил Головинский.
Кабинет Николая Александровича, казалось, был прямо предназначен для тайных и заговорщических собраний – так он был уединен и как-то отодвинут от шума города. Два больших окна открывали вид прямо в сад, причем в саду этом никто ни одной души никогда не видел. Одни лишь голые деревья, не успевшие еще позеленеть, стояли перед Николаем Александровичем, часто сидевшим у своего широкого, с резьбой, письменного стола, покрытого мягким синим сукном. В дорогих книжных шкафах лежали богатства прошлой мудрости человечества. Однако здесь, среди увешанных и задрапированных стен, у нарядных кресел с высокими, чопорно поднятыми спинками, и письменного стола со звенящими замочками, жизнь разыгрывалась в необычайной тревоге и нетерпении.
В такой уютной тишине расположились пылкие свободолюбцы: кто с мрачно надвинутым лбом, кто с сардонической и что-то предчувствующей улыбкой, кто с тревожным блеском в глазах и с пыхтящим чубуком.
Григорьев доказывал важность пропаганды в армии, среди солдат, которые должны открыть путь революции. Филиппов взывал к крестьянскому миру и в своих речах и прокламациях клеймил помещиков и чиновников, держащих деревни в страхе и трепете.
Николай Александрович же был в самом центре. Он считал, что восстание крестьян – один-единый путь к жизни и славе народа. Он казался самым знающим и самым могущим. В немногих словах, которые он как-то вдруг с привычной властностью и спокойствием произносил, все видели правду и только правду и восторженно принимали ее. Остальные, впрочем, выказывали не меньшую твердость и стремительность в мыслях. На лицах у всех было написано признание великих замыслов освобождения народа от гнета.
Печатный станок был почти что готов. Николай Александрович не один раз обращался к своему письменному столу со звенящими замочками и извлекал оттуда требовавшиеся суммы денег на закупки частей и материалов. Относительно пропагандировать социальных идей все было сговорено. Даже по поводу цареубийства заронилась мысль, о коей никто, кроме близких членов кружка, ничего и не знал, хотя Михаил Васильевич и догадывался о чрезвычайных планах, зревших в стенах столичного кабинета Николая Александровича.
По лицам и поведению всех собравшихся видно было, что все торопились. И вправду, разговоры были весьма спешные и решительные. Обсуждались до мельчайших подробностей европейские события, и все планы прикреплялись уже к каким-то числам, месяцам и даже городам. Впрочем, планов никто не писал, лишь Филиппов носился с чертежами Санкт-Петербурга, измазанными пылким пером, но в головах у всех кипели неудержимые намерения сокрушить произвол и вместо деспотизма основать новый строй, какой именно – об этом не прерывались горячие прения: одни говорили о республике (причем общенародной и даже общечеловеческой…), другие соглашались на конституцию, третьи ничего не ставили впереди, а полагали: надо освободить крестьянство, а там, дальше, – «посмотрим».
Но чуть приходилось смотреть на дело поближе и едва Головинский отмеривал перед всеми вопрос: «А какими средствами и с кем именно надлежит совершить величайшее историческое предприятие?» – многие приходили в недоумение… Впрочем, Николай Александрович тотчас же твердо устанавливал:
– Была бы искра, а пламя вспыхнет само собой! – Николай Александрович верил в восстание, которое должно было, чуть только столица махнет рукой, разойтись по всей России, а особенно по Уралу и Сибири.
Кое-кто осмотрительно замечал по поводу пламени:
– Вспыхнет и потухнет, коли мало будет дров. Не худо было б позаботиться насчет основательной подготовки.
Но такие отдельные голоса звучали весьма глухо и терялись в наплыве мятежных чувств.
Федор Михайлович не мог долее ждать и пребывать в бездействии. Хоть и не стремился он напролом идти к бунту и возмущению, но тем не менее был готов и к этому. Все уже знали, что на собрании у Михаила Васильевича (в бурной схватке по поводу эгоизма личности и фурьеристских идей) Федор Михайлович так именно и заявил, услыхав вопрос: «Так, значит, идти через восстание?»
– Да! Хотя бы и через восстание! – и при этом поднял руку в знак неизбежности и решенности вопроса.
Всем собравшимся, а в том числе и Николаю Александровичу, казалось, что Федор Михайлович – с н и м и и крепко держит свое слово.
Любимейший брат Михаил Михайлович порой даже пытался отвратить Федора Михайловича от чрезвычайных увлечений, но тот был упорен и повторял, что социальные идеи – явление «евангельское» и даже «апокалипсическое» и что как бы Фурье ни был далек от границ России, его планы весьма пригодны для всей будущности (именно – будущности…) человечества. В то же время по поводу идей бунта Федор Михайлович полагал, что не время противодействовать им.
Степан Дмитрич потерял надежды обратить Достоевского на путь «истинный» и всех уверял, что гениальный ипохондрик обречен перейти через некоторые черты, за коими откроются для него неизведанные дали славы и служения всему человечеству, до последней живой души.
– Беспокойный ум Федора Михайловича предвидит будущее на земле и потому так жадно черпает из источников современных идей, – предсказывал он на очередном вечере у нежнейшей Евгении Петровны, – но это не что иное, как болезнь, причем болезнь пророческая, болезнь неутоленной еще жажды исправления всего мира и, так сказать, страдальческая болезнь. Она пройдет, смею вас уверить, ибо и молодость проходит, но время еще не настало и кровь не охладела.
Испытанные чувства Степана Дмитрича были, как казалось многим, порукой в том, что Федору Михайловичу действительно предстоит испить чашу земной скорби до дна, с тем, однако, что уж после он возродится в новых потрясениях бытия.
– Docendo discimus[3]3
Уча других, мы учимся (лат.).
[Закрыть], – округлял свои рассуждения Степан Дмитрич, столь искушенный в латинской словесности.
Федор Михайлович воротился домой после собрания у Спешнева в настроении рыцаря, только что, сию минуту, давшего свой обет.
Чрезвычайный визит Василия Васильевича. Еще одно смятение умаВ квартире Бремера стояла умилительная тишина. Где-то в дальних комнатах спокойно о чем-то говорили, что-то пили и ели, где-то мечтали, в халатах, на диване, – словом, без дальнейших описаний – фортуна навевала тут упоительные сны.
Федор Михайлович сел за стол, но без всякого намерения писать: решительно не мог он во все последнее время приступить даже к строчке новых своих писаний.
Кто-то постучал в дверь. Он вздрогнул от неожиданности. За дверью стоял Василий Васильевич.
Федор Михайлович был немало смущен: никак не предвидел он такого именно чрезвычайного визита.
– Ну, вот и я пришел к вам, – начал Василий Васильевич низким вздыхающим голосом, – пришел к вам в первый раз и, быть может, в последний, заметьте себе.
– Нет, отчего же? – Федор Михайлович придвинул стул.
– Не сидится. Благодарю вас! – Василий Васильевич продолжал стоять. Из карманов его по обычаю торчало несколько газет. Вид у него был весьма тощий, но осанка, как всегда, выказывала гордость и возвышенные желания.
Он вдруг прошелся по комнате и снова остановился.
– Вы думаете, я умышленно пересыпаю из пустого в порожнее? – почти неожиданно начал он. – Нет-с, господин сочинитель. Отнюдь нет. Пришел к вам потому, что ищу свое назначение и призвание. Жажду пополнить жизнь каким-либо нужнейшим делом. Вчера, кстати, выгнали меня со службы (мол, слишком много рассуждать стал), и я понял, что всю жизнь делал не свое дело. Быть может, тридцать лет прятал себя от настоящих целей и намерений, не находя первоначальных причин, а лишь упражняясь в мышлении. Полно, милостивый государь! Пришел к окончательному решению: полно!
Василий Васильевич вдруг необычайно близко подошел к Федору Михайловичу:
– Ну, а каменная-то стена ваша пробита? Математика разрушена? Или выводы остались непотревоженными?
– Нет, тревога во мне и со мною. И математику перейду. Преодолею все выводы – да будет это вам известно – и знак даже переменю, то есть минус на плюс, и… вот и все…
– Чрезвычайно! – Василий Васильевич восторженно улыбнулся. – А вы слыхали о том, что математика отвергает божественный промысел? И отвергает без остатка. Я и позабыл вам раньше сказать об этом весьма значительном обстоятельстве.
– Не думаю, чтоб это было так, – проговорил Федор Михайлович, размыслив и в некотором беспокойстве. – Математика – вся в подчинении у божественного начала. Точнее, ее надо подчинить. И она подчинится. Смею уверить вас. Отрицание должно стать утверждением, и я к тому и иду. Христос – это и есть преодоленная математика.
Василий Васильевич весь насторожился и поглядел с замысловатой и почти насмешливой улыбкой.
– И в таком случае, быть может, социализм, как вы полагаете, только одно маленькое, ничтожнейшее и даже незаметнейшее математическое действие? По вашему, так сказать, христианскому исчислению?
– Совершенно правильно, – тихонько подтвердил Федор Михайлович.
– Если вы сказали сие для эффекта, то эффект – дурной. Знайте, что ваша математика – для детей. Ребяческие игры ума и не более! Такой математикой каменную стену не прошибешь! – заявил Василий Васильевич с видимым раздражением. – Послушайте: ведь революция не потерпит подобной математики. К тому же – разве можно социальные перевороты примешивать к христианскому рабству? И при этом еще утверждать, что ставится вопрос о чести и славе всей математики? Омерзительная идея, и явилась она в минуту жесточайшего презрения к жизни и к человечеству. Конфуз, а не идея! Уж не гневайтесь, коли говорю напрямки и без гладких фраз.
– Знаю, знаю и чувствую, можно сказать, всю законность всяких возражений – потому… сам, быть может, не менее вашего спускался в бездны отрицания. Но ведь как бы я ни предполагал, а думаю-то я не об одном себе, а перебираю в мыслях своих все человечество. А вы разве в состоянии утверждать, что для всего человечества вовеки не понадобится величайшая мировая истина, или, как вы полагаете, величайший мировой обман в виде прободенного тела с терновым венком на голове?
– Да не только не понадобится, а будет отвергнут навсегда и бесповоротно. И никто даже не оглянется с досадой назад. Попомните мое слово: все эти исторические тела вместе с терновниками истлеют в веках и до такой степени, что лишь баночки пепла от них станут в ряд в музеумах. Разумеется, история прибережет их, ибо на то она и история, чтобы прятать всякую мизернейшую гниль…
– Предвижу, однако, что суждения ваши не оправдаются. Ведь народ-то наш (тот самый, который мы возмечтали вывести из крепостной зависимости) – ведь он-то ходит с крестом на груди. Ради этого креста, чтобы его возвысить и показать миру его правду, мы и приняли социальную идею и уж послужим ей.
Василий Васильевич торопливо заходил по комнате, в досаде и нетерпении.
– Так вы ради возвышения этого креста затеваете народный бунт? Да вы знаете, милостивый государь мой, что на этих-то именно крестах народ распинают во всех странах и во все времена? И распинают с благословения бога! Да-с! При помощи вашей божественной математики совершаются величайшие преступления, и при этом все молитвенники славословят народных притеснителей и поют гимны во славу божью. И к этой-то диковинной теории вы пришли от благих намерений увенчать жизнь подвигом. Отойдите от бездны, пока не сделан последний шаг. Образумьтесь и направьте дела ваши к достойнейшей и полезнейшей цели.
Василий Васильевич присел подле Федора Михайловича и почти зашептал:
– Ведь я-то не менее вашего любил эти «тайны божьи»! Ведь замки у церквей целовал, когда мальчонкой был еще (матушка все внушала, голубушка моя…). Да всему своя пора! Лампадки догорели, и угар прошел. Неужели же вы, именно вы, – Василий Васильевич крепко сжал двумя пальцами краешек пиджака Федора Михайловича у самого почти ворота, – неужели вы до сих пор думаете, что у нас в России все расчеты на царство божие направлены?
– Народ тоскует о боге, ибо ему некому будет даже поверить свою печаль, – вставил Федор Михайлович, краснея и как бы отодвигаясь от Василия Васильевича. Душегрейка удивительно грела Федора Михайловича. – Авторитет, авторитет будет разрушен. Дети потеряются без учителя…
– Того учителя, который наставлял и наставляет все народы мечом кесаря? – решительно перебил Василий Васильевич. – Знайте: авторитетом станет тот, кто свергнет богов и разрушит рабство на земле. Не будьте же попятным пророком, а предвозвестите день освобождения народов от мрака вековых заблуждений. Бунт против истории! Месть! Месть за миллионы погубленных жизней! Вот к чему должна свестись вся ваша «тайна» и ваши «чудеса»!
Василий Васильевич с облегчением встал и прошелся снова по комнате, как бы отдыхая после утомительного променада.
– Тягушек-то ваших я отведаю, – вдруг неожиданно добавил он, беря из тарелки на столе свежую тягушку. – Впрочем, вижу, что бунтовать вы не умеете, – раздельно и пренебрежительно заметил он, рассасывая тягушку. – Не умеете, и ничего из ваших намерений не произойдет, ибо одних намерений мало. Нужна величайшая человеческая цель, именно ч е л о в е ч е с к а я цель, а не предание или тайна. Без цели нет подвига, знайте это. А вы замыслили подвиг, вознамерились разрушить математику и выводы естественных наук, и все это – во имя чего? Во имя исторического призрака! Да разве это – цель?
– Призрак-то со смыслом! – упирался Федор Михайлович. – Со слезами, с надеждами на спасение.
– Тысячи лет человечество надеется на призрак. Мол, в призраке все спасение… Не пора ль этот ваш хваленый смысл вместе со слезами и надеждами, прокуренными ладаном, обратить в пепел и поставить в храме истории рядышком с Ноевым ковчегом и Моисеевыми жезлами? Пусть бы чувствительные натуры повздыхали над рассеявшимися призраками. – Василий Васильевич захохотал коротким и деревянным смехом, добавив: – Ахинея! Ах какая ахинея, господин сочинитель!.. Неразрешимые обстоятельства… хе-хе… Не думаете ли уж вы, что выйдете победителем из всей вашей пляски призраков?
Василий Васильевич принагнулся к Федору Михайловичу:
– А что, как ваш собственный фантастический вихрь отступит перед настоящей-то математикой и все ваши выводы будут посрамлены? А? А ведь будут посрамлены, в том поручусь головой… И – сказать вам до конца – жду этого мгновенья. Жду и не дождусь, когда мир отомстит за обман. Если же не мщение, то лучше гибель и мрак. Тогда уж надо идти в самый смрадный переулок и повеситься на первом фонаре. – Василий Васильевич жестко улыбнулся, махнув рукой, и снова зашагал по комнате.
Федор Михайлович молчал. Считал ли он выгоднейшим для себя это молчание или в нем был скрыт новый смысл, он и сам это неясно чувствовал.
Но по уходе Василия Васильевича он долго думал о независимости духа и почти с наслаждением разбирал все сплетения своих мыслей. В сплетениях было уже нечто чадное и почти головоломное. Ведь он обещал доказать Степану Дмитричу, что дважды два – пять, а тут вдруг ему же самому доказывают это дважды два, и он не верит, что пять.
Математика оставалась непреодоленной.
В голове стоял серый туман, и Федор Михайлович с отчаянием проникал в поверженную идею, – впрочем, достаточно видя свое бессилие и даже любуясь загадочностью поставленных перед собой целей, которые, мол, тверды, как камни, но сдвинуть их – вот для этого и нужна математика. Уж конечно замелькал в уме Белинский, а за ним засуетился и Спешнев, оба устранителя исторических призраков, и Федор Михайлович потоптался даже с минутку на положительных науках – во имя здравого смысла и сокрушения обмана.
– Допустить н е д о п у с т и м о е! – в сотый раз подскочил он как бы в жару и почувствовал при этом вокруг себя внезапно разверзшееся необозримое пространство. – Не знаю, а вижу. Не знаю… – перебирал он про себя. – А вижу. – Он оглянулся назад: дверь была закрыта, но ему почудилось, будто кто-то там притаился за нею (уж не Василий Васильевич ли?), стоит и подслушивает его собственные мысли… Он даже хотел вскрикнуть, но тотчас же и остановился посреди комнаты в нерешительности, как бы опомнившись. – Что же это я?.. – тихим и ослабленным голосом добавил он и будто даже улыбнулся. Прошло несколько странных молчаливых мгновений.
Федор Михайлович виновато и озабоченно присел у стола. Он немного отпил из стакана холодного чаю и посмотрел в темное окно. И хоть вид у него был самый независимый, тем не менее он остро почувствовал тоскливое беспокойство и одиночество.
– С каких же пор я одинок? – забродил в голове неожиданный вопрос. – Впрочем, с моею целью я не буду одиноким. Ведь замыслил горы сровнять, историю обернуть анекдотом. Известить мир о величайших ошибках и должном исправлении.
Он тихо улыбнулся, видимо утешая себя, встал, прошел два шага и опустился на кровать. Потом снова встал, сиял шинель и снова лег, прикрывшись и согнув ноги.
Ему вдруг ясно показалось, что кто-то действительно стоит за дверью, что, кроме него, благополучно пребывающего у себя в комнате, в самом натуральном одиночестве, есть еще кто-то, кто стоит за дверью, и дверь сейчас откроется, вот сию минуту, и кто-то непременно войдет…
– Там кто-то дышит и смотрит. Да, да! Вот дверь задвигалась… – перебирал он губами. Он действительно увидел, как дверь будто отошла в намерении раскрыться… Он спрятал лицо под шинелью и задрожал так, что кровать затряслась и скрипнула. Под шинелью стало теплее и покойней. Федор Михайлович длинно и устало вздохнул. В мыслях снова задвигались испытующие взгляды Василия Васильевича и пронеслась бичующая речь его.








