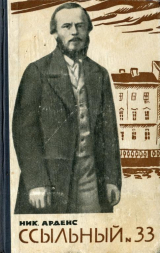
Текст книги "Ссыльный № 33"
Автор книги: Николай Арденс
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
В самый разгар французских событий, за которыми так пристально следила петербургская образованность и чиновный мир, по городу разнеслась весть о кончине Белинского. 29 мая утром к Федору Михайловичу прибежал юный фурьерист студент Филиппов и, задыхаясь, с волнением произнес:
– Не стало Белинского.
Федор Михайлович вскочил с кровати и мигом оделся.
Филиппов рассказал о приезде из Москвы Грановского, который вчера был у одра умиравшего и слышал последние слова Виссариона Григорьевича: «Прощай, брат Грановский, умираю».
Федор Михайлович был потрясен.
Вместе с Белинским провалились в тьму времен его сладкие дни первой славы. Он вдруг сразу вспомнил все… Все, до мельчайших тонкостей: как прибежали к нему среди ночи Некрасов и Григорович с похвалами «Бедным людям», как привели его к Белинскому, как о н, задыхаясь от кашля, допытывался, понимает ли молодой сочинитель и чувствует ли, что он такое написал… Пронеслись вихрем первые дни и месяцы его нового пути, усыпанного цветами и оглушенного хвалебными гимнами… И вот сейчас ушел уже тот, кто вознес его. Вместе с ним ушли и бурные надежды молодых лет, затерявшиеся в первых тревогах обольщенной души. И как удары молота отозвались в памяти наставления и предвидения Белинского о грядущих судьбах человечества и социальном переустройстве.
Федор Михайлович припоминал, как он был встревожен Белинским и социальными идеями и как много порывов воспринял от него.
– Да ведь это же мой к о р е н ь! Мой! – думалось ему. – Ведь на этом же корне и ни на каком другом росло и все м о е… – Он не мог поверить, понять и примириться с тем, что е г о уже нет, – его, которого он с такой тревогой всегда слушал, который был и остался для него изначальным словом, которым он так одушевлялся и так… пренебрегал, – е г о уже не было… Это было для Федора Михайловича «великое несчастье» – так он определил. Он пытливо и почти с отчаянием смотрел в глаза Филиппову:
– А может, и вовремя он скрылся из этого мира… Предвидел беду и вот… как бы сам решил свою судьбу.
На похороны Белинского Федор Михайлович решил идти обязательно и в должный час направился к Лиговке. Было ветрено и облачно. Столица шумела под серым майским солнцем, шепталась о последних событиях на Западе, о новых восстаниях в Австрии, Пруссии, Италии и об аресте в Париже Бланки и Барбеса, пытавшихся разогнать реакционное Национальное собрание. Говорили промеж себя, кто со страхом и трепетом, кто с нетерпением и жаждой победы пролетариата… Улицы охранялись усиленными командами полиции, узнавшей о похоронах Белинского. Федор Михайлович дошел до Знаменской площади и направился по Лиговке. У дома Белинского стояла траурная колесница, и толпились немногие собравшиеся проводить тело до Волкова кладбища.
Федор Михайлович остановился у какого-то крыльца, невдалеке, и посмотрел вперед. Никто более не шел туда, во двор огромного дома, где лежало все, что осталось от н е к о е г о к р и т и к а. Столичная молодежь все расхаживала по панели и заглядывала во двор, но всякий раз полицейские чины строжайше предупреждали: «Проходите! Не останавливаться!» Полицейские взоры весьма предостерегающе встречали смельчаков, решившихся войти в запретное место. Но Федору Михайловичу было не до них – он презирал и пренебрегал ими. Другое нечто скользнуло в его мозгу: да ведь там и они наверно – Некрасов с Панаевым. При этой мысли он упорно задержал свой ход у крыльца и решил обождать. Панаева и Некрасова он избегал и даже переходил дорогу, когда издали показывались их шляпы. Он никак не мог забыть того разбора Голядкина и Прохарчина, какой его недавние благожелатели допустили в «Современнике».
– У меня с ними покончено, – частенько уже думал он о них, – пусть себе благоденствуют со своим высоким долгом и накапливают фортуну. Мне до их катехизиса нет дела! – Федор Михайлович желчно усмехался, когда кто-нибудь восторженно расписывал порядки в редакции «Современника». – Не верьте им, – кружились в нем раздраженные мысли, – когда они преграциозно расшаркиваются перед вами, как у фонтанчика под плеск струй, и проливают слезы умиления… И все со священнейшим видом, словно в рай приглашают… Не верьте…
Послышалось робкое похоронное пение. Тревогой и тоской отдались юные голоса во мгле столичного полдня. Вынесли гроб. За ним пошли десять – пятнадцать человек. Направились по широкой Лиговке осторожно и тихо… По обеим сторонам улицы суетился полицейский надзор.
Федор Михайлович следил за шествием издали, идя по панели. Солнце уже стояло над морем, и подувал гниловатый ветер. Панель была грязная, а там, где начинались деревянные мостки, грязь становилась еще более липкой. По грязной мостовой медленно, словно нехотя, везли гроб, и холодно, и сыро, и как-то незаметно было все кругом…
Федор Михайлович остановился и задумчиво поглядел на удалявшуюся колесницу; потом вдруг поворотил обратно и ускорил шаги. Он ужасно продрог.
«Пятницы» в Парголове. Федор Михайлович призывает на помощь ПушкинаЛетом жители Парголова стали замечать часто прогуливающегося между дач незнакомца с толстой палкой, в плаще и необычайно широкой шляпе. Это был Михаил Васильевич, поселившийся здесь для летнего отдыха. Он устал после зимних хлопот и неудач в своем имении, а в Парголове было безмятежно и бесшумно… На это лето в Парголове поселились и Некрасов с не менее поэтической Авдотьей Яковлевной и много субтильных столичных обитателей, которым никак не хватало воздуха в городских кварталах. Сняли себе квартиру также и Федор Михайлович с братом.
К Михаилу Васильевичу сюда направлялись каждую пятницу молодежь и его завсегдатаи, а особенно часто ездили Толль, Плещеев, Ханыков и новый его посетитель, старый холостяк и неутомимый спорщик-балагур Иван Львович Ястржембский, который теперь по случаю каникул был свободен от занятий в Технологическом институте и Дворянском полку, где он читал политическую экономию. Он все хаживал в Апраксин двор, выискивая там Фурье, Туссенеля, Консидерана и прочих иностранных теоретиков, пробивавших себе запретные пути в Россию. Иван Львович по роду своих научных склонностей весьма заинтересовался запиской Михаила Васильевича о реформах в земельной области. Такая записка была составлена Михаилом Васильевичем еще в феврале, отлитографирована им и роздана дворянам. Называлась она «О способах увеличения ценности дворянских или населенных имений» и была подписана: «Дворянин С.-Петербургской губернии, землевладелец и избиратель М. Буташевич-Петрашевский». Михаил Васильевич в ней обращал внимание на то, что ценность населенных имений гораздо ниже действительной их стоимости, и для поднятия оной предлагал ряд мер, в том числе предоставление права приобретения населенных имений купцам, права выкупаться крестьянам на волю за определенную сумму и кое-что другое.
Иван Львович никак не мог понять, в чем был секрет механизма Михаила Васильевича. Тем не менее записка уже ходила по дворянским рукам и, как рассказывали, попала и в жандармские руки. И те и другие выискивали разные смыслы, заложенные в ней с такой благонравной и хлопотливой мудростью.
Однако среди постоянных гостей Михаила Васильевича его проект, с которым он совершенно неожиданно выступил перед столичными дворянами, породил немалые толки. Иные спрашивали друг друга, что это за новый припадок Михаила Васильевича, другие же просто вскрикнули:
– Да это измена!
Плещеев же – уже на что не был больно дальнозорок – громогласно и саркастически заявил, что никакой тут измены нет, так как якобы и изменять было нечему. Михаил Васильевич, однако, всеми этими разговорами не был смущен ни капельки. Он никогда не обижался на друзей, стоя гораздо выше насмешек, выдававших человеческую слабость.
Федор Михайлович навестил его однажды в Парголове, в одну из «пятниц». В просторной комнате Михаила Васильевича, с деревянными стенами, было весьма шумно, – видно было, что спор достиг зенита. Разбирались самые последние новости, а новости эти были до чрезвычайности внушительные и касались июньских происшествий в Париже. О них поведал собравшимся Сергей Федорович, после долгого отсутствия посетивший Михаила Васильевича:
– Вы знаете, господа, что еще пятнадцатого мая французская революция была ранена насмерть? Теперь она скончалась. Да, именно скончалась. Генерал Кавеньяк размозжил ей череп. Республика погибла под костями революционеров…
– Она будет жить, республика! – нетерпеливо воскликнул Филиппов, перебивая Дурова.
– Погодите! – остановили его.
– Но я говорю о французской республике, господа, и она уже не существует. Что будет в Австрии или Италии, мы еще не знаем. А в Париже сейчас диктатура генерала Кавеньяка. После ареста Бланки и Барбеса правительство постановило распустить национальные мастерские. Не шутка, господа, если принять в расчет, что эти мастерские насчитывают 130 тысяч парижского пролетариата. Рабочее население восстало и кинулось к оружию и на баррикады. Началась беспримерная по своей жестокости борьба. Весь город превратился в лагерь. Сен-Дени, дю Тампль, площадь Пантеона – все главные места были заняты Национальной, гвардией и восставшими. Теперь все кончено, и Кавеньяк торжествует. Мобильные и национальные гвардейцы расправляются с пролетариатом в подземных тюрьмах Тюльерийского сада. В подземельях судьи-победители произносят свои приговоры в виде одной лишь фразы: «На чистый воздух!» Это означает: смерть. Ночи напролет на площади Карусели щелкают ружья, и все население знает, что это означает. Вешают на крюках и оконных переплетах. Врываются в дома. Неугодных и подозрительных жильцов, особенно в блузах, гвардейцы сбрасывают из окон на улицы, заявляя при этом, что они не стоят и одного заряда пороха. Никто не знает, скоро ли это кончится, но одно несомненно: над Францией носятся призраки бонапартов.
– И все-таки да здравствует республика! Вечная! Нераздельная! Perpétuelle! Perpétuelle! – не замолкал Филиппов.
– А я, господа, не хочу такую республику, которая будет целые столетия пахнуть кровью! – воскликнул Сергей Федорович. – Обезумевшая чернь недостойна республики и не понимает революции. Она способна в своей ненависти лишь разрушать, но не созидать.
Некоторый одобрительные голоса поддержали Сергея Федоровича.
– Но без крови и без революции история не сдвинется. И не надо тешить себя, господа! Жертвы были и будут, ибо борьба несет их с собой, а без борьбы ни один народ не добьется свободы и прав. И мы тоже без революции ничего, господа, не добьемся, – горячился Филиппов.
– Ну да, вот подите с н а ш и м и революционерами преобразовывать жизнь, – перебили его. – Они вам преобразуют. Так, что у нас самих надолго отшибет охоту заниматься революциями, – слышен был чей-то весьма умеренный голос.
– Не клевещите на н а ш и х революционеров. Я их знаю. Н а ш и понимают свою пользу и б у д у т честными солдатами революции. Вникните в тех, кто живет в нужде и следственно будет отстаивать свои права, – работники, приходящие в города на заработки, извозчики, лодочники, ремесленники, вольные крестьяне, даже мелкие торговцы разных губерний… Не думайте, что эти-то не понимают своих выгод.
– Нет уж, господа, о н а ш е й революции не мечтайте. Нам без монархии не жить, ибо немцы или французы съедят живьем. Нам бы хоть конституцию получить, – послышался тот же весьма умеренный голос.
– Не забудьте и того, что правительство напугано европейскими делами. Царь в бешенстве. Не зря комитет Меньшикова хозяйничал у нас, а сейчас какой-то бутурлиновский, говорят, воцарился над всей печатью и отыскивает коммунизм да социализм и прочие идеи во всех журналах. А в комитете – бароны Корфы да генералы Дубельты, не кто-нибудь.
– Дуб да еще с корой… – скаламбурил кто-то.
– Как хотите, господа, но я своему народу не пожелаю такую революцию, какая сейчас залила кровью Францию, – подтвердил Сергей Федорович.
– А вам подай румяную революцию? Чтоб навевала сны да шенпанское лила в рот? Вам чтоб все было основано на натуре и на чувстве, и было б гладенько и чинно? – не унимался Филиппов.
– Любительская революция?! – подхватил кто-то и расхохотался.
Михаил Васильевич тут подал свой голос.
– Французская революция – нам урок, – сказал он. – Революция – великое дело. Но, господа, прежде чем становиться у баррикад, надо обо всем сговориться с трибуны и в брошюрах, надо держать консилиум, чтоб все определить, когда, как и кто. Вот и видать, что господа французы не определили ничего для своего переворота. Доселе говорили с народом через священное писание, – надо говорить через Фейербаха и Фурье. Их должны понять и уж потом призывать к революции. Нужна подготовка.
– Через сколько ж это столетий выходит? – спросил дальний голос, одолеваемый, видимо, изрядными сомнениями насчет срока прожектируемой Михаилом Васильевичем революции.
– Уж во всяком случае скорее, чем если обращаться к престолу всевышнего, – свернул Михаил Васильевич в другой переулок.
– Ну, нет-с. Был бы сейчас Христос, он бы ускорил дело, – разыскали Михаила Васильевича господа христиане, метнув своим козырем.
– Чего там гадать, господа, – вдруг вспыхнул Ханыков. – Мы еще не революционеры, коли гадаем о сроках. Мы ходим середь тумана. И наш социализм и коммунизм – это только основания для будущего здания, только фундамент. Но надо воздвигать стены. И давайте это делать без гаданья. Вера нужна, а не оракул!
– Браво, Ханыков! – не выдержал Филиппов и захлопал в ладоши.
– Вера нужна, это бесспорно, – подхватил Михаил Васильевич, – но надо хорошо, господа, знать, во что верить. А то у нас вместе с верой путается мечтательство, – глупое мечтательство, без толку, без основания. Люди пылкие, но маломыслящие веруют в призраки, не вникают в жизнь и губят тем все дело.
– Но это люди вышибленные, – заметил тут Федор Михайлович, – это погибающие люди, и их не мало, господа. Их породило все наше зверское устройство; наша земля стала им пустынной и бесплодной, и вот они хотят, чтоб небо спустилось к ним. Это мечтательство, господа, но наш долг – их спасти, придать их мечтательству силу, обратить к умной вере, к надеждам. Это спасает, господа, людей.
Михаил Васильевич, однако, трогательно повторял свое и наперечет выкладывал все предварительные, разъяснительные, заключительные и окончательные данные. И все заметили про себя:
– Тьма знаний, что и говорить! Настоящий Гейдельберг и никак не иначе! И знания все, как травка в садике, строжайше обкопанные и подрезанные…
Михаилом Васильевичем не уставали любоваться: замечательный он был человек, и что особенно было в нем замечательного – это его непосредственность, во-одушевленность и безмерная вера в будущее. То, что для другого было совершенно неосуществимо, в нем возникало с необычайной прямотой, и вообще… он был прелюбопытнейший человек. Как-то, несколько лет тому назад, он возмечтал стать преподавателем в военно-учебном заведении; начальник военно-учебных заведений генерал Ростовцев спросил его, какие же предметы он мог бы читать. Он представил список целых одиннадцати предметов. Когда же его допустили к пробному уроку, он начал свою лекцию предупреждением, что «на этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения», и действительно изложил все двадцать, но в учителя принят не был. За его чистосердечие ему решительно все прощалось, а ум его способен был покорять многих своей разнообразностью и настойчивостью, – до того он был не в уровень другим.
В самую горячую сшибку заговорил и Федор Михайлович:
– Как вы ни судите, господа, о западных событиях, а я думаю все про нас и скажу, что освобождение крестьян – первое, что нам надо. Это ближе всего. Это наш первый шаг.
– И верно, друзья, Достоевский попал в самый центр, – несколько голосов поддержали Федора Михайловича. – Раскрепощение крестьянства – превыше всех парижских баррикад. У нас свои дела, не похожие на Запад. Там – Консидеран, Луи Блан и даже Бланки. У нас же Радищев, Чаадаев, Пушкин, Гоголь, Лермонтов и вообще совсем иной грунт.
– Наше свободолюбие – от Пушкина, господа, – утверждал Федор Михайлович. – Пушкин выразил то, чего мы уж лучше не можем и выразить. И нам нечего искать ума у французов и англичан. Своим жили, своим и проживем.
Федор Михайлович говорил с энергией в голосе, слегка дрожавшем. Губы его чуть-чуть покрывались сухой корой, так что видно было, как он полон волнения и весь напряжен. Заговорив о Пушкине, он не мог уже остановиться и объявил, что Пушкин для России все равно что Гомер для мировой литературы. И кончил тем, что перешел к стихотворению «Деревня», которое все и прочел наизусть. Его выслушали с величайшим вниманием, так резко Федор Михайлович поставил все знаки ударения на выразительные места:
Я твой: я променял порочный двор царей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
Я – твой…
Сидевшие не могли оторвать взора от его лица, вспыхивавшего при каждом новом восклицании. Федор Михайлович то осторожно снижал свой голос, то почти обрывал его, то возвышал до крайнего напряжения, когда ему хотелось представить мысль уж во всем ее значении и величии. Так, он тихо и со скрытым внутренним содроганием произнес:
Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.
И после этого он словно задумался, посмотрел вдаль и, убеждая каждым словом, продолжал… И кончил как бы в экстазе, наполняя воздух страстными восклицаниями:
Увижу ль, о, друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?!
На бледноватых щеках Федора Михайловича выступила краска. Он кончил твердым и звенящим голосом и отступил несколько шагов назад. В комнате застыла тишина. Никто не двинулся. Первым нарушил молчание Филиппов. Он вдруг вскочил и воскликнул:
– Не падет рабство по манию царя! Не падет!
Федор Михайлович, услыхав это, весь затрепетал.
– Должно пасть! Должно! – почти закричал он, взмахнув рукой, и с такой настойчивостью, что все повернули головы в его сторону. – Правда на стороне угнетенных, и она покорит все! Все! – с такой же энергией подтвердил он и зашагал по комнате, заложив руки в карманы. Михаил Васильевич никогда не видел Федора Михайловича в таком потрясенном состоянии; он схватился со стула и крепко сжал его руку.
Но Филиппов продолжал:
– Нет надежды на то, что рабовладельцы освободят своих рабов. Нет! И не надо тешить себя глупыми обманами. Нужны верные средства!
– А если их нет? – раздался голос из-за отворенной двери. – Если никто доброй волей не решится разрушить цепи рабства? Тогда как? Как вы, например, Федор Михайлович, тогда полагаете?
– Тогда… тогда… восстание, господа! – бросил Федор Михайлович, и глаза его налились горячей-прегорячей кровью.
Война и холераДо слуха беззаботных дачных жителей Парголова все более и более доходили вести о холере в Петербурге. Столица, особенно на окраинах, жила в полном смятении и отчаянии: люди умирали, сперва десятками, потом сотнями… Младшие братья Федора Михайловича, приехавшие в Петербург, считали отвозимых на кладбище покойников, и в их памяти складывались страшные цифры: 300—400 в день.
Холера истребляла жителей с жадной и жестокой настойчивостью. Длились дни, недели и месяцы, а она не унималась, несмотря на обещания врачей и успокоительные приказы полиции. Медики утешали народ тем, что эпидемия лишь спорадическая (это слово впервые услыхали тогда), а архиереи протрезвонили все колокола в молебнах всевышним силам.
Пуще всех волновалась маменька Михаила Васильевича. Она неотступно ходила за сыном и следила, чтобы тот не глотнул как-нибудь и где-нибудь ледяной воды. Из деревни ее приходили тоже недобрые вести – там люди вымирали как мухи, – и это повергало ее в отчаяние.
Из кухни Михаила Васильевича были изгнаны соленья, плоды и квас. Маменька специально приезжала на дачу и строго-настрого наказала Марье Митрофановне следить, чтобы в рот к барину не попали невареные овощи и сырое питье.
– Не углядишь – изведу! И креста не поставлю! – предупредила она, повелительно выговаривая Марье Митрофановне. Маменька была характера строгого и не переносила никаких ослушаний.
Марья Митрофановна набралась страху пуще прежнего и уж не спала, не ела, – все глядела за барином. Куда Михаил Васильевич, туда и она, и даже если барин бывал в отлучке, она выходила тихонько в сад и шла за ним по пятам, не спуская глаз с прыгавшей вдали широчайшей шляпы. Боялась, чтоб барин не отведал у мальчишки-разносчика свежего яблока или огурчика.
Судьба, однако, рассчитала все по-своему. Через неделю под вечер Марья Митрофановна слегла, а наутро уже вывезли ее бренные кости в столичный морг. Как и где она достала холеру, Михаил Васильевич никак объяснить себе не мог. Маменька думала-гадала, как заменить пропавшую крепостную душу, да так и не выдумала и с тем уехала в деревню наводить порядки. Порядков было мало. В деревне шло разорение. Наехали чиновники и военные регистраторы и стали производить набор рекрутов.
– Царь требует!
Помещица Буташевич-Петрашевская представила своих рекрутов, выбрав самых хроменьких и слабоумных.
– Матушка барыня! – вопили те вместе с женами и сестрами, ползая перед ней на коленях. – Не загуби! Ужо отслужим тебе. Прикажи, матушка, твоя воля!
Матушка гневалась, слыша подобные мольбы, и приказывала оттаскивать обреченных.
С деревень гнали рекрутов в уезды, а из уездов по губерниям, в батальоны. По дороге десятками гибли от холеры и оставались лежать в степных могилах. По городам и деревням поползли слухи, будто царь гонит солдат в самую Венгрию, где идет война и австрияки не могут сладить с восставшими венгерцами.
– Последние времена пришли, – полагали деревенские прорицательницы.
Федор Михайлович среди лета приехал по делам в Петербург и был поражен его волнением. На окраинах города грузились у интендантских складов провиантные запасы. Огромные обозы тянулись через весь город на Вырицу по большой дороге. Говорили – на войну. Охранные команды обозных солдат, грязные и покрытые по́том и пылью, с самого раннего утра и до позднего вечера сновали у длинных и низких складов, таская мешки и тюки и наполняя воздух бранными криками. Нагруженные фуражом и сухарями, повозки отъезжали от провиантских магазинов непрерывной цепью, подымая облака пыли и громыхая по булыжнику. На Васильевском острове, на Охте и по другим сторонам столицы с такой же точно непрерывностью тянулись к санитарным пунктам подводы с умершими, подобранными в домах и на улицах.
Холера и война соединились в страшный смертоносный союз. Один лишь Невский проспект не изменял давно заведенным обычаям и шумел своим привычным шумом. И те же лица и те же осанки и улыбки – все тут было представлено с невозмутимым спокойствием духа.
Федор Михайлович в шинели цвета вареного шоколада (портной Маркевич успел уже изготовить ее), возвращался к себе домой, как вдруг его нагнал Плещеев с необычайной новостью:
– У Михаила Васильевича вчера в шесть часов пополудни пропала шляпа.
Как это произошло, по каким законам природы – никто в Парголове объяснить не мог. Только в пять минут седьмого Михаил Васильевич уже был без шляпы. Вся она, со своими широчайшими полями и с муаровой лентой в обхвате, исчезла в неведомом пространстве, оставив Михаила Васильевича на произвол ветров и дождей.
– Очень странное, чтоб не сказать более, предзнаменование, – заметил Плещеев, – вроде как бы комета. – Он как-то загадочно посмотрел вдаль, весело улыбнувшись самому себе.
Федор Михайлович реденько посмеивался.
В толках о шляпе приятели подошли к дому Шиля.
Войдя к себе в квартиру, Федор Михайлович услыхал протяжные рыдания. Он бросился на кухню. Там голосил лакей Бремера Иван.
– Пропал я… пропал… Силы моей нету… – слышались вскрикивания.
Ивана забирали в солдаты. Завтра утром приказано было явиться в гарнизонную вербовочную комиссию. Он вспомнил родителей и дальнюю деревню, вспомнил сестер и понял, что никого из них ему уж не видать. Слезы, как у младенца, повисли на щеках. В ночь он не заснул ни часу, – сидел тихо и мучительно о чем-то думал…
Не заснул и Федор Михайлович. Сердце билось трудно и больно. Мысли, тяжелые и серые, как туман, медленно подымались в нем из далей виденного и слышанного. Сельцо Даровое и Черемашня, отцовские выселки с мужицкими слезами и песнями о горе и нужде как живые вырастали перед его глазами. Зачернел гнилыми бревнами сарай – тот самый, куда в дни его детства водили людей на порку, и рыдания Ивана слились со стоном даровских мужиков. И льются сейчас, думал он, эти слезы – по всей земле, и в Даровом тоже. И так же бьют нещадно и так же забривают в солдатчину на четверть века молодых и сильных людей.
В глухую ночь – который раз? – с головной болью, смятый тоской и встревоженный возмущением, торопливо и порывисто шагал Федор Михайлович по комнате, прислушиваясь к стонам одних и беззаботным снам других. Мужик Иван и господин Бремер были для него как два мира.
К этим двум мирам Федор Михайлович стал обращать сейчас свое особое и пристальное внимание. Они издавна уже поражали его фантазию, а сейчас он был вполне захвачен мыслями о них и захвачен потому, что при всей своей мнительности успел страстно полюбить жизнь и дела людей на земле. Однако среди этих дел он строго судил и их благородство, и бескорыстие, и все их низкие черты, воздавая каждому по заслугам. Он уверился в том, как много могут сделать на земле хорошие люди и как много могут наподличать люди дрянные, от которых и собаки прячутся. Из всего этого он сделал вывод, что самое главное на земле – это искусство жить рядом с людьми, это уменье быть человеком: ч е л о в е к о м встречать каждый проходящий день и ч е л о в е к о м глядеть на людей.
Но тут Федору Михайловичу пришло в мысль еще и еще одно совершенно особое обстоятельство, совершенно особое требование, без которого он, сочинитель, никак не мог бы обойтись. Ведь мало одного искусства жить и любить жизнь, любить жизнь ради жизни, – нет, ему, сочинителю, необходимо было знать весь мир, знать чужие жизни и характеры, надо было понимать людей гораздо больше, чем понимают они сами себя, при этом различать тех, которые годятся в люди, от тех, которые в люди не годятся, которые живут ползком и втайне лишь подделывают добро и красоту. Все шире и шире поэтому думал Федор Михайлович о людях и людских характерах и все более старался узнать людей самых разных занятий и понятий, начиная с высоких чинов и шумных и зовущих молодых людей и кончая всякими бездельниками, прощелыгами и процентщиками, у которых (увы и увы!) частенько приходилось и ему брать под залог недостающие средства для своего беспокойного земного бытия.
Мысли о людях все сильнее и сильнее влекли его к себе, поражая вихрем разнообразнейших дел и желаний… Люди думают о будущем и… пакостят в настоящем… И всюду люди и людские дела… И как их понять? Как примирить себя с ними? Это требовало от Федора Михайловича решительного ответа и наставляло его переходить за черты всего обыкновенного и всем присущего: крайними и необычными характерами и поступками измышляемых им лиц, исключительностью их намерений и особой выраженностью натур он рассчитывал открыть и яснее показать самые настоящие и действительные черты человеческих нравов и страстей и на том достичь наивысшего эффекта в реальном изображении жизни и людей.
Так Федор Михайлович ж д а л свою жизнь, полную творческих затей и утешительных предчувствий, ждал нетерпеливо, ждал, как скованная река ждет солнца, ждал, расточая людям все свое внимание и боясь умереть, не узнав всего своего будущего.







