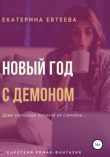Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
– Это ты в первый раз об этом вздохнула, а сейчас о чем?
Наташка долго молчала, а Гришка с терпением, которого у него раньше было очень мало, ждал ответа.
– Сердце мучается, что нельзя из двоих слепить одного… Взяла б я от Вани его доброту, а от тебя бы силу и лихость…
– А что из моего матерьяла на отброс пошло бы? – скупо усмехнулся Гришка.
– Настырность и жадность…
Гришка давно уже смотрел на стоявший около лампы винтовочный патрон, тот самый, который Наташка несколько часов назад нашла в кармане Петькиных штанов и поставила сюда, чтобы отдать свекру.
– Настырность и жадность вот этим из нас вышибать будут, – указал он на патрон. – Может, этот как раз и угораздит по моей башке… Ну, да не об этом речь. Я захотел быть только с тобой. Какой есть, такого или принимай, или прогоняй! – и с присущей ему решительностью, он с силой схватил ее за руку повыше кисти, а свою костистую щеку плотно прижал к ее щеке.
– Пусти, хоть пологом-то закроюсь от Петьки, – глухо проговорила Наташка и, натянув полог, прикрутила лампу.
Сначала Наташка была почти убеждена, что, приняв Гришку Степанова, никакого особого преступления не сделала. Она считала, что осудить ее за это мог только Ванька. Но Ванька сам виноват – забывает про свою веселую и ласковую жену. А Гришка даже по такому времени рискнул побыть с нею, а там хоть трава не расти!
Гришка настойчиво спрашивал:
– Можешь еще крепче поцеловать?
И Наташка целовала еще крепче.
Нетерпеливое, томящее желание ласки у Наташки прошло, и она сразу же вспомнила про Ваньку. Представилось, что он уже вернулся из поездки с обозом и уже узнал, что Гришка побывал у нее в гостях. В мыслях Наташка смело спорила с мужем о том, кто из них больше виноват в случившемся. Она ждала момента, чтобы наедине объясниться с мужем… Но Ванька оказывался то в окружении людей, пришедших по делам в совет, то в школе выслушивал нужды учителей, то с активистами ходил по кулацким дворам, то выезжал на борьбу с бандитами, то снова отправлялся с хлебным обозом в холодную и опасную дорогу…
«А что, если бы пришлось оправдываться перед мужем при его товарищах? – с ужасом подумала она, лежа рядом с Гришкой. – С первого же слова они бы стали на сторону Ваньки, посмотрели бы на нее ледяными глазами и отвернулись. Совсем бы отвернулись… Куда же я тогда одна подамся?..»
И удивительно, что не успела она так подумать, как Филипп Бирюков сейчас же ответил на ее немой вопрос:
«Иван, ты пристрой ее к бандитам в кухарки. А то они все время на сухомятке…»
«Верно! Гришка Степанов тоже не нынче-завтра к ним подастся!» – услышала она голос мужа…
Наташке стало тесно на кровати и трудно дышать, а Гришка, не догадываясь о ее душевных тревогах, покуривая, умиротворенно рассказывал:
– Ты нынче мне хороша, как крепкая водка: любую тоску можешь заглушить. А то, что вы тут все красные, – так это будто еще лучше: в самом пекле бушую с тобой – интересно! – Он засмеялся и кинул окурок с огнем куда-то в передний угол.
– А ну, отважный, подайся-ка, – угрюмо сказала Наташка и, оттолкнув Гришку, встала. Она сунула ноги в калоши, накинула ватную кофту и шерстяной шарф и направилась к двери.
– Ты куда это?
– На холод, остудиться – нехорошо стало…
– С чего бы? – спросил Гришка.
Наташка не ответила. Во дворе было тихо, не сильно морозило: мороз сразу охватил Наташке лоб и вместе с густым чистым воздухом освежающей струей проник в грудь; снег под калошами заскрипел каким-то ворчливым скрипом… Наташка зашла к овцам, зажгла висевший на низком перерубе фонарь: три овцы и две козы, должно быть, по привычке, не удивились ее появлению… Но Наташка больше беспокоилась по такому морозу не об овцах, а о свинье, которая вот-вот должна была опороситься. Свинья повернула голову в сторону фонаря, но вставать не захотела. Серовато-синий живот в темных пятнах вздрагивал то в одном, то в другом месте.
«Похоже, что сегодня будет», – подумала Наташка и решила принести свинье побольше соломы. За низкой скирдой, сложенной в тридцати – сорока шагах от Андреева амбара, Наташка столкнулась с самим Андреем, и он сказал ей так, будто давно собирался сказать это:
– Ты, соседка, – никогда он так не называл Наташку, – гостя принимаешь в свое удовольствие, а я мерзну около амбара. Зерно в нем государственное, а гость у тебя – ненадежный…
Наташка заметила, как Андрей, говоря о ненадежном госте, сунул поглубже под мышку приклад винтовки.
– Дядя, я сейчас выпровожу его. Ты зайди во двор, чтобы он видал в окно…
У Хвиноя в сенцах было совсем маленькое окошко. Его прорубили для того, чтобы видеть гумно, но так как на гумне не было ничего, о чем стоило бы тревожиться, об окошке этом давно забыли. Давно уже из него вытащили стекло и раму. И остался один проем. Зимой его затыкали жгутом соломы, а летом, для прохлады, оставляли открытым, и он служил лазом для беленького Хвиноева кота, которого за любовь полежать на мягком прозвали «Господин важный».
Гришке Степанову, завидевшему в окно Андрея, стоявшего с винтовкой около крыльца, пришлось срочно воспользоваться лазом Господина важного. Но бедра у Гришки были куда шире и толще, чем у беленького кота, и он немало покрутился, пока пролез сквозь тесную дыру. Положение у него, пока он вылезал, было настолько нелепым, что Наташку несколько секунд душил смех. Но вдруг именно то, что вызывало смех, обернулось к ней своей унизительной, грязной стороной, и она зарыдала. Лампа, которой Наташка присвечивала Гришке, задрожала, замигала у нее в руке.
– Что же мне теперь делать? – кинулась она к вошедшему в сенцы Андрею.
– Теперь-то уж ясно, что делать, Заразу выкурили, я пойду домой отогреваться и спать, иди и ты… Сон не будет приходить, посматривай на амбар… А слезы у тебя правильные. Ваньку мы с тобой не станем расстраивать, А ты уж твердо держи нашу линию…
– Ну, спасибо тебе, дядя! Спасибо, – сдерживая слезы, говорила Наташка уходившему Андрею.
* * *
Уже третьи сутки Андрей Зыков жил в большой тревоге. Особенно одолевала она его по ночам, когда дневные хлопоты не мешали размышлениям… Думал он, что телефонная связь с округом почему-то оборвана, что амбары с реквизированным хлебом могут поджечь местные кулаки и подкулачники, осмелевшие оттого, что на хутора стали делать налеты небольшие бандитские шайки.
Но больше всего томили Андрея думки об обозе с хлебом, отправленном на далекую станцию, да еще на волах.
«Волы не подкованные… Дорога там теперь прикатанная: не одни наши везут хлеб…», – размышлял он, стараясь отогнать от себя мысль о возможности нападения бандитов на обоз. Но она все кружилась вокруг Андрея, а к полуночи завладела им полностью. Он живо представлял себе, как бандиты нападали на обоз. Нападали они конной лавой, внезапно, и вовсе не с той стороны, откуда их ожидали.
«Конечное дело, бандиту, ему не дашь совет: наступай только с этой стороны – мы приготовились, дескать, встречать тебя отсюда… Он попрется с любой стороны, было бы ему выгодно…» – вздыхал он.
В воображении Андрея схватка с бандитами неизбежно кончалась поражением наших. Храбро дравшийся Иван Николаевич Кудрявцев оказывался распростертым на снегу, а молодое, почти юношеское лицо его, безжизненно устремленное в зимнее небо, было страшно обезображено ударом палаша.
«Видать, моя голова плохо устроена. Ну почему же обязательно их верх, а не наш?.. Почему обязательно им удастся изрубить Ивана Николаевича?..»
В глубине сердца у него был ответ на эти вопросы: сила в казачьих хуторах была на стороне богатых. Стоило десятку надежных советских активистов уйти с обозом, как уже Андрею не с кем было и поговорить по душам: одни из оставшихся были его врагами, другие боялись быть друзьями, потому что не знали, уцелеет ли молодая, не совсем еще понятная им советская власть, третьи тоже были ненадежными, потому что, рассчитывая на помощь советской власти, сами не хотели помогать ей…
«В такой стае весело не загогочешь, – подумал Андрей. – Вот и лезет в голову одно плохое… Лучше, если б обоз снарядили в два раза больший. Сразу подняли бы почти весь хлеб, поднялись бы и сами с ним. Или доставили бы его до места назначения, или полегли бы за него, а это, считай, за советскую власть… Было бы так – был бы и я с ними в дороге. В хорошей компании и помирать веселей…» И он снова вздохнул и заворочался.
– Видать, печь здорово нагрелась, крутишься ты на ней, как укушенный, – заметила со своей кровати Елизавета Федоровна, жена Андрея.
– Да нет, печь ничего… Мысли мои около обоза, – сказал Андрей, поднялся и, свесив ноги, стал крутить цигарку.
Жена помолчала и только после того, как он зажег спичку, прикурил и открыл заслонку, чтобы не надымить в комнате, начала рассказывать мужу все свои новости.
Эта грузноватая сероглазая женщина со смуглым лицом, с вечно засученными по локоть рукавами, была ловкой и подвижной в работе, быстрой и живой в походке. Но в компании она больше любила слушать, чем рассказывать новости. А слушая, никогда не вмешивалась, если даже новость явно перевиралась, лишаясь своего смысла.
– Федоровна, да так ли было? – обращались к ней за подтверждением женщины.
– В точности все так и было! Пронькина жена задралась с его ухажеркой под самым окном, а Пронька, чтобы разогнать их, плеснул из окна сметаной, прямо из горшка плеснул, – говорила Елизавета Федоровна и делала поправку: – Только сметана-то попала не ухажерке на голову, а законной жене… Все остальное истинная правда: сметана белая, плывет с головы на нос, на уши… Собаки вылизывают ее на земле…
После такой поправки все рассказанное словно наизнанку выворачивалось: ведь одно дело всласть похохотать над ухажеркой, облитой сметаной, и совсем другое, если сметана оказалась на голове законной супруги! Над чем тут смеяться? Да и ведерный горшок сметаны погиб ни за грош. Двойной урон семье!.. И женщины, расходясь по домам, скупо усмехаются, благодарят Федоровну, что все рассказала, как надо, а то поползла бы брехня по дворам.
Елизавету Федоровну уважали не только за то, что она не была болтливой, не любила замечать мелких недостатков своих знакомых, но и за то, что в серьезных случаях жизни умела сказать правду в глаза любому человеку.
– Идет с утра переулком Федор Евсеев, – говорила она сейчас мужу. – Я на гумне – сено беру овцам. Он мне кричит: «Андрей дома или ушел в совет?» Спрашиваю: «На что он тебе так срочно потребовался?» А он и говорит: «Хочу, чтобы из хвонда пшенички дал. Все равно никто не будет брать ее из советских рук, потому что бандиты колесят вокруг и около. Боятся люди. А я возьму без оглядки…» И смеется, нос совсем в крючок изогнулся. Не стерпела я и сказала ему: «Не боишься ты потому, что сам приплясываешь под бандитскую дуделку». Осклабился и заковылял в совет… Это тебе утрешний удой, – усмехнулась Елизавета Федоровна.
– Пока не поймали – не вор… А пшеницы я ему не дал, – заметил Андрей с печи.
Помолчали.
– А вот тебе вечерний удой, – веселей заговорила Елизавета Федоровна. – Перед заходом солнца погнала скотину к проруби на речку. Из церкви, от вечерни, Матвеева жинка идет и прямо ко мне… И начала нашептывать: «В церкви-то слыхала, говорит, что на хлебный обоз обрушились в дороге те, что с красной властью несогласные… Такого там содома-гоморра наделали… И будто, говорит, Хвиноя наповал зарубили». А я ей и говорю: «С мертвым дело ясное: привезут – похороним. А что, говорю, будет потом, когда приедет из округа отряд милиции и за одного с десятерых спросит?..» Поглядел бы ты, Андрей, как она после этого домой заспешила! Все швыдче и швыдче, и хоть бы раз оглянулась…
Андрей слушал жену и думал: «В самом деле, многое говорит о том, что за последние дни враги советского порядка в хуторе заметно оживились. Вот и Гришка Степанов! До того осмелел, что к Наташке заявился… Матвеева жена стороной обходила нас, а теперь вплотную подходит. Очень уж придуривается Федор Евсеев… Да разве только это?..» И у него явилось желание как-то заявить недоброжелателям советской власти, что власть на месте есть, что она еще крепко держится. Об этом он сказал жене.
Елизавета Федоровна встала, надела юбку и кофточку, сунула ноги в валенки и зажгла стоявшую на столе лампу. Просторная комната с обструганными вербовыми стенами, украшенными небольшим зеркалом и полковыми фотографиями, осветилась. На одной фотографии казаки проходят парадом, на другой – проездку делают, на третьей – просто стоят около своих лошадей… Но самой заметной была та, на которой Андрей сфотографировался с младшим урядником Кочетовым. Вахмистр Андрей Зыков был здесь стройным, молодым, кучерявым, и казалось, что вот-вот он подаст зычную команду. А скуластое лицо Кочетова улыбалось, и руку он держал на плече Андрея. На обратной стороне этой фотографии, на побуревшем от времени картоне, крупно, с ученическим нажимом и старанием было выведено:
«Вахмистру Андрею Зыкову. Век буду вспоминать про тебя добрым словом. Младший урядник Кочетов Елисей».
На глинобитном полу комнаты лежат два недавно родившихся ягненка и уже подросший телок. Они улеглись зигзагом – по линии дымохода, который проходил под землей и обогревал пол.
– Хочу для порядка пройтись по хутору… Чего молчишь? – спросил Андрей.
– Делай, что надо, только делай с оглядкой, чтобы не ухлопали тебя из-за угла… А я пойду соломы принесу, чуть протопить подземку: телок и ягнята, видишь, как разлеглись – мороз чуют.
Под подушкой у Елизаветы Федоровны лежала для ночных выходов к скотине ватная кофта и шерстяной платок. С привычной ловкостью она оделась и вышла из дому.
Андрей слез с печи, взял лампу и прошел в соседнюю, меньшую комнату. Когда-то в ней жила старшая дочь, потом это была комната сына, а теперь отец и мать хранили здесь вещи, которые напоминали о сыне Василии. Около опрятно убранной кровати, в узком простенке между окнами, висела фуражка Василия с синим верхом, желтым кантом и красным околышем. Он носил ее, когда учился в реальном училище. Чуть пониже повесили серую солдатскую папаху с прорезами и застежками на боках. Если их расстегнуть, из папахи получится ушанка. Эту папаху Василий носил в одном из саратовских отрядов Красной гвардии, куда сбежал в 1918 году, оставив реальное училище, оставив Дон, где тогда бродили белогвардейские банды.
В другом простенке стоял треугольный столик под вязаной скатертью со стопками аккуратно сложенных на нем книг. Но самым ценным из того, что было на столике, родители считали деревянную шкатулку с письмами от Василия. Письма эти были для отца и матери каким-то свежим, животворным ветром, который, прилетая издалека, распахивал в их небольшом доме двери и окна и словами Василия говорил им:
«Папа и мама, если эти строки попадут к вам, не ругайте, что я такой скупой на слова: у нас на Белой горячие денечки – бьемся с колчаками за правду-матушку, за дела народные…»
«Погиб наш Чапай в быстрых волнах Урала… Как теперь дорожить нам своей жизнью, если он ради народа лишился ее?..» – писал Василий позже.
С весны 1920 года письма приходили уже из Москвы, из военной академии, где теперь учился Василий. Письма были пространными, они доставлялись почтой на освобожденный от белоказаков и белогвардейцев Дон. В одном из них сын, подшучивая над отцом, писал:
«Папа, вы с Хвиноем от красных отступали, должно быть, как самостийники-казаки!.. Не подумали вы, что Суворов, Кутузов, Багратион не были казаками, а какие казаки!.. Если бы вы видели в деле красных командиров Фрунзе, Чапаева, Буденного, сразу бы приняли их в самые почетные донские казаки!»
В этой же комнате, как раз около двери, за пестрой занавеской, была устроена вешалка для верхней одежды.
Одеваясь, Андрей думал о письмах сына, которые были дороги ему тем, что звали на широкий простор.
С овчинной шапкой в руках он вернулся в переднюю. Елизавета Федоровна уже растапливала печку: стоя на коленях, она подсовывала в пламя пучки белой соломы, пахнущей гумном, полем и изморозной свежестью.
– Ну и морозяка! Ну и жмет! – покряхтывая, повторяла она.
– Бабка, – обратился Андрей к жене, – ты бы шкатулочку да шапки Васины прибрала куда подальше…
– Ай правда, что дела пошатнулись?..
Елизавета Федоровна поднялась и стояла теперь против мужа, державшего под мышкой винтовку.
– Может, жена Матвея правду сказала про обоз и про Хвиноя?.. Ты что-нибудь знаешь об этом? – допытывалась она.
– Если и есть урон у наших, то все равно кто-нибудь вот-вот должен вернуться. На быках-то еще не скоро дотащатся, а те, что на лошадях, должны уж быть.
Видя, что муж готов уйти, Елизавета Федоровна взяла у него шапку, нахлобучила ему ее на голову поглубже, подняла воротник шубы и сказала:
– Ну, вот и готов в поход чернобородый казак, – и застенчиво, ласково улыбнулась.
– О бороде поговорим после, когда наши возвернутся домой живыми и здоровыми, – отшутился Андрей и вышел из хаты.
* * *
Ночь скоро разломится пополам. На дворе безветренный мороз. Матовое покойное небо густо пронизали звезды. Они мигают в недосягаемой высоте не то очень весело, не то очень грустно. Полная луна сегодня спустилась низко к земле и, не мигая, глядит в балки, в лощинки. Кажется, она хочет спросить: «А куда же девались сидевшие здесь хутора?.. Вербы и сады темнеют, а построек не видно. Где же они?..»
Издавна говорят, что луна недогадлива. И в самом деле, уму непостижимо: вечно бродя в спутниках у земли, она все еще не поняла, что если на землю ложится снег, то он ложится и на крыши белостенных хат, домов, сараев, амбаров, и тогда все сливается в однообразный белый простор. На этом белом просторе, под луной и звездами, вспыхивают крошечные серебряно-голубые огоньки изморози; на этом белом просторе все не белое кажется одинаково черным – и незаметенная снегом острая полоска льда на речке, и обрывы невысоких берегов, и голые сады, и вербы в большой леваде Аполлона, и медленно шагающий к вербам человек… Если луна и звезды умели бы думать и завидовать, то они с завистью бы подумали об этом человеке: «Хорошо ему в такую ночь!.. Не улежал в постели – вышел полюбоваться январской степной красотой!»
Но у человека, черная фигурка которого уже начинала сливаться с чернотой верб в Аполлоновой леваде, под мышкой была винтовка. Человек этот был Андрей Зыков. Он и в самом деле любил такие ночи и рад был полюбоваться их красотой, но оценить в полной мере прелесть сегодняшней ночи не мог. Ему мешала тревога, как бы жизнь не свернула на старую дорогу… Свернет – и самая светлая ночь станет для простых людей непроглядной и самый зеленый май не принесет радости!
А Аполлону как раз нужно, чтобы старая жизнь вернулась, и потому Андрею хочется знать: почему в этот поздний час над крышей Аполлонова куреня вьется такой проворный дымок? И почему из горницы, сквозь ставню, тонкой паутиной пробивается свет? Нет ли в этом угрозы для советского порядка?
С большой осторожностью, боясь разбудить собак, ходит Андрей по саду до тех пор, пока ему не удается выяснить, что в горнице Аполлона, около настольной лампы, сидит над книгой Сергеев. Сидит и поглаживает своей узкой, как у женщины, ладонью широкую лысину. Но кто сидит по другую сторону стола? Кому, отрываясь от книги и пощипывая каштановую бородку, поддакивает Сергеев, – этого не видно, да и по голосу не узнать, плохо слышно сквозь окна и ставни.
Андрей осторожно подходит со стороны сада к самому крылечку: может, в коридоре есть кто-нибудь?..
Дверь в коридор плотно закрыта, у крыльца стоят салазки, а поперек них положена увесистая палка. Ничего примечательного…
Тихонько выбираясь из Аполлонова сада, Андрей думает о Сергееве:
«Живется ему на этой квартире, видать, неплохо: на сковороде недоедена яичница, а в стакане – молоко не допито… И зачем это прислал его сюда окрисполком – убей, не пойму!.. Книжки, что ли, читать?.. И то сказать: читает он их, как жернов муку мелет… Зайдет в совет, скажет: «Так, мол, и так… Продотряд вам не присылали и не пришлют, потому что выполняете задание… Но учтите, что по советскому законодательству продналог надо брать с учетом едоков и запаса семенного зерна… Нет ли у кого книжечки почитать?» Остолоп или прикидывается таким? Ему же известно, что хлеб мы доставали из кулацких ям! Ссыпали его кулаки без учета едоков, – так же и забираем. И без всяких скидок!..»
Андрей вышел на улицу, единственную Осиновскую улицу, делившую хутор пополам, и шагал теперь не как человек, присматривающийся и выслеживающий подозрительное и опасное, а как тот, кто имеет право в открытую проверить, все ли в хуторе на своем месте. Он шел неторопливо, и хотя прихрамывал слегка, но поступь его была уверенной, твердой, а винтовку он нес уже не под мышкой, а на ремне за плечом.
Из двора вдовы Максаевой, еще молодой женщины, чей муж полег где-то в Восточной Пруссии в 1915 году, на Андрея простуженно залаял маленький кобелек и, будто устыдившись, тут же убежал за хату. Андрей знал, что Мавра – так звали вдову – ушла с хлебным обозом, и он невольно подумал, что ей и ее детишкам надо бы помочь в первую очередь, не дожидаясь, когда попросит.
Тянулись дворы с колодезными журавлями, с сараями и базами, с домами и хатами. С тыла к ним черной толпой подступали или яблони и груши, или густой вишенник. О людях, живущих в этих дворах, Андрей думал разно. Этот, например, по его соображениям, бреднем хочет поймать большую рыбу, но так, чтобы и портки не намочить. А сосед его будет принюхиваться к новому порядку, пока сзади кто-нибудь не стукнет по затылку. А стукнет – рванется вперед… Эти хоть и оступаются, все же идут навстречу нашей власти…
Вот в низинке, упираясь вербовой левадой в подножие крутой горки, лежит «усадьба» Кирея Евланова, а дальше, на горке, подворье Федора Евсеева. Киреева хата стоит далеко в стороне от улицы, узким переулочком до нее около сотни саженей. Но Андрей, не колеблясь, сворачивает в переулочек. Только сейчас он вспомнил, что Кирей, часто заходивший или в комбед, или запросто к нему домой, вдруг куда-то исчез, и исчез, именно с той ночи, когда был на собрании в Забродинском, у Наума Резцова.
«Тогда он малость перетрусил, только и твердил «будто бы»… Да и то сказать – строевой выучки Кирей не проходил».
С этой мыслью Андрей свернул к низенькой, изогнувшейся, как гусеница, хате. Около порога его, как старого знакомого, ни разу не брехнув, встретил желтый Шарик. Отстранив собаку, Андрей звякнул дверной цепочкой.
Послышался сонный и тревожный голос Киреевой жены.
– Кто это?
– Я, Еремевна…
– Да кто «я»?
– Богат буду – не угадываешь… Андрей Зыков.
– Чего ж ты так поздно? – чуть извиняющимся голосом спросила Еремевна, все еще не открывая двери.
– Давно хозяина не видал. Захотелось спросить: живой ли?
– Живой, да не особенно: три дня прохворал, а сейчас уснул, как в воду провалился.
Андрей понял, что ему не обрадовались. Но почему?.. В первые минуты не стал об этом думать, а потом загадка разгадалась сама собой.
Через полчаса Андрей стоял в приреченских тополях. Надо было бы пройти улицей еще сотни две шагов, перейти речку и уже левым ее берегом идти дальше по хутору. Но ему показалось подозрительным, что слева, за пустырем, около стены степановского задворного и недостроенного амбара, чернели чьи-то фигуры. Иногда оттуда доносился едва слышный свист – такой ровный, протяжный, будто ветер нашел какую-то дырочку и подолгу дул в нее. Несколько позже справа отозвались коротким свистом. Повернувшись, Андрей увидел, что от речки к амбару тяжеловато двигались двое. Потом он разглядел, что они тянули за собой чем-то здорово перегруженные салазки.
«Вот это номер! В цобах салазки везет Федька Евсеев, а цобэ – Кирей с длинной палкой! Значит, это их салазки и палку видал я у Аполлона на крыльце!..»
Андрей плотнее приник к тополю.
От амбара отделились двое и пошли навстречу саням.
– Пусто или густо? – звонким шепотом спросил Гришка Степанов, которого Андрей узнал и по говору и по размашистой походке.
– Густо, Григорий Степанович… По полному мешку насыпал чистейшей гарновки, – ответил Федор. – У хромого комбеда да у Андрюшки Зыкова до третьего пота просил нынче подсобления. Получил шиш с маслом… А тут – с полслова договорились…
– Да ты не дери глотку-то зря! Еще подслушает кто… – обеспокоенно прервал его Кирей.
– Некому подслушивать! Андрюшка один остался. Топчется, как хромой гусак, около амбара с награбленным хлебом, – успокоил Кирея Гришка Степанов.
«Кто же с ними четвертый?» – напряженно всматривался Андрей.
Попыхивая раскуриваемой цигаркой, этот четвертый запросто сказал:
– Есть слушок, что ваших красноштанников, этих, что пошли с обозом, всех порешили под Дубовым яром.
Но и по голосу Андрей не узнал этого человека.
– Стало быть, из свата Хвиноя холодец сделали? – спросил Федор Евсеев, и нельзя было понять, что прозвучало в его голосе – удивление или злорадство.
Кирей, отмалчиваясь, все оглядывался по сторонам. Потом стал торопить своего соучастника:
– Нечего раскуривать и тары-бары разводить. Поехали!
Гришка Степанов заметил:
– Ты, Кирей, здоровенный, как колокольня, а боязливый. Говорю – нечего бояться: красная власть последний дух выпускает…
Почувствовав, что наступил момент заявить о себе от имени советской власти, Андрей выскочил на пустошь и закричал:
– Кто сказал, что красные дух выпускают? Гады! Брешете! Советская власть живая и здоровая! – И, приложив винтовку к плечу, выстрелил раз и другой.
В ночной тишине вербы затрещали так, будто их разодрали сверху донизу. Как и рассчитывал Андрей, пули пролетели над головами четырех собеседников, и их словно ветром сдуло куда-то за амбар. Только салазки черным пятном выделялись на сверкающем снегу.
В разных концах хутора долго и дружно брехали собаки, потом лай их заметно пошел на убыль и вовсе смолк. С минуту стояла глухая тишина, и вот с заречной стороны, из степной заснеженной дали, донесся едва внятный, рассыпающийся перезвон бубенцов. Андрей, сделавший несколько шагов к салазкам, которые ему нужны были, как улика, остановился. И тогда из-за амбара Гришка с торжествующим озлоблением крикнул:
– А-а, осекся! Слышишь, громышки гремят? А ну-ка, скажи, какая власть ездит с громышками?
Андрей понимал, что этим вопросом Гришка напоминал ему о слухах, будто по чирским степям разъезжает какая-то банда с бубенцами. Он вправе был подумать, что этот перезвон будет последней музыкой в его жизни. Но немыслимо было показать Гришке затылок.
– Улепетывай, пока не поздно! – продолжал выкрикивать тот. – Красная власть с громышками не ездит! Улепетывай!
– А ведь и в самом деле гремят! С нежностью гремят! – прокричал Федор Евсеев и засмеялся.
Даже Кирей вдруг осмелел, хотя в грубом голосе его отчетливо прозвучала просьба:
– Не упорствуй, Андрей, зазря: дай салазки взять – и домой… А то с громышками подъедут и дадут сею-вею и тебе и нам! Право слово!
– Пошел ты под такую-растакую, кулацкий прихлебатель! – выругался Андрей. – Не будет, чтобы я по вашему расписанию жил!
И те, что прятались за амбаром, услышали, как он закладывал новую обойму, как подавал патрон.
Федор Евсеев и Кирей замолчали. Не унимался только Гришка Степанов:
– Упреждаю: красная власть с громышками не ездит! Улепетывай!
Андрей молчал, приготовившись к самому худшему… А бубенцы уже позванивали значительно ближе, уже где-то там, где по белоснежному пологому взгорью рассыпались звезды, чернели неуклюжие ветряки, и месяц, зацепившись за макушку кургана, застыл, как лодка на мели. И вдруг оттуда, вместе с перезвоном бубенцов, донеслась песня. Ее повел сначала один голос – несильный, глуховатый, но четкий и уверенный в каждом переходе. Так петь эту песню мог только один человек!
Запрягу я коника в железные дроги…
– Ванька Хвиноев! Он! – изменившимся голосом выдохнул Гришка.
– Ну, бандит! Чья это власть едет с громышками? – закричал Андрей.
Но Гришке некогда было отвечать на вопросы. Под его быстро бегущими ногами и под ногами другого, которого Андрей так и не узнал, резко и отрывисто скрипел снег, потом трещали промерзшие ветки вишенника в саду, потом стебли срезанного подсолнуха в огороде.
– Кто едет с громышками?! – не унимался Андрей.
Из-за амбара вышел вихляющей походкой длинный и неуклюжий Кирей, а за ним прямой, как столбок, Федор Евсеев. Подойдя к Андрею, Федор сказал таким голосом, будто ему решительно не в чем было виниться:
– Едут-таки… Теперь нам, конечное дело, как бедному люду, к этому берегу надо прибиваться… – И засмеялся.
– Ждали и дождались, – сказал Кирей и облизнул пересохшие губы.
А песня уже была недалеко за речкой. К довершению радости Андрея, он узнал теперь и другие голоса – Ивана Николаевича Кудрявцева, Филиппа Бирюкова, еще кого-то из мужчин. Подпевали и два женских голоса. «Сяду я, поеду, где милка живет…» И уже от самой речки донеслось:
– Но, рыжие! Едем туда, где милка живет!
Это кричал Хвиной…
– Ну, вы, прихлебатели Аполлона, – обратился Андрей к Кирею и Федору Евсееву. – Забирайте салазки с пожитками – и с глаз долой. Не портьте людского праздника.
И, закинув за плечо винтовку, прихрамывая, он по-строевому зашагал навстречу землякам и товарищам.