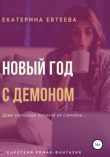Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)
Удалившись на середину пыльной, широкой улицы, они остановились. Аполлон, оказавшись в середине этой маленькой кучки, схватил Матвея за пуговицу пиджака и нравоучительно зашептал:
– Знытца, понять не могу, чего ты ревешь, как зверь? «Не надо, не надо!» Знытца, бестолочь ты, и все. Надо тебе земли в Зыкове – возьми у меня по своей цене. Возьми десяток десятин, а Обнизову и Мирону Орлову Степан уступит по пяти десятин… Знытца, постановим: рабочих посылать с души, а не с рогатой скотиняки… И выйдет, что не горела и не болела, а померла. Вы же ревете с дурна ума…
Матвей молчал.
Вмешался дед Степан. Разглаживая пшеничной желтизны бороду и важно покашливая, он сказал:
– Тугодумы, вот и ревут.
Матвей обиделся, но не сильно.
– Что давно об этом не сказали?..
– Может, и ругни не было бы, – заметил Мирон Орлов.
Стоя за столом, поставленным среди двора, на зеленом гусятнике, атаман звал стариков:
– Чего же разбрелись? Будем продолжать.
– Знытца, пойдемте, а то как бы не стало заметно, что сговариваемся, – многозначительно посоветовал Аполлон.
Старики медленно подходили к столу.
– Так вот, господа старики, – снова заговорил атаман. – Прямо надо ответить на этот вопрос: будем прудить пруд или нет?..
Рванув фуражку на самые глаза, с табурета поднялся Аполлон. Он хотел отвечать на вопрос, он хотел говорить со всеми присутствующими, но не мог на них смотреть. С давних пор он усвоил манеру не глядеть на людей.
– Пруд прудить надо, – отделяя одно слово от другого, сказал он. – Только нерадей с этим не согласится.
– А вот, по-моему, не надо, – помешал ему Ковалев.
– Ты – нерадей, и тебе ничего не нужно.
– Пруд мне не нужен! – настаивал Ковалев.
– Ты, знытца, нерадей. Мозгов, знытца, у тебя нет…
– А твои мозги чужими горбами умеют работать! – поддержал Ковалева Андрей Зыков, кум и сосед Хвиноя.
Однако Аполлон по-прежнему был спокоен, и никакие колкости его не смущали. Все так же глядя в землю, он настаивал на своем:
– Только лентяй не согласится со мной. Вы, знытца, спросте Хвиноя, Федора, Кирея, и они вам скажут, что пруд прудить надо. Люди бедные, а понимают. Знытца, правду я говорю или нет?.. Хвиной, Федор Евсеев, отвечайте!..
Наступила минута замешательства. Хвиной и Федор, встречая выжидательные взгляды присутствующих, растерянно молчали. Но вот, собравшись с силами и покачиваясь из стороны в сторону, Хвиной выговорил:
– Правду сказал Аполлон Петрович…
– Правду! Правду! – дважды выкрикнул Федор Евсеев.
Аполлон опросил по одному больше половины присутствующих, и каждый с обреченной неизбежностью признал, что пруд прудить необходимо.
Самодовольно улыбнувшись, он спросил:
– А кто же против?
– Я против, – заявил Андрей Зыков.
– И я против! – крикнул Ковалев.
– Двое – обществу не указ, – засмеялся дед Степан.
– Как двое?.. А Матвей? А Обнизов? – кричал Ковалев, озадаченным взглядом окидывая Матвея и Василия.
Но те молчали, стараясь показать свое безучастие ко всему происходящему.
– Мое последнее слово: пруд прудить будем? – настойчиво спросил Аполлон.
– Будем!
– Будем!
– Не будем! – возражали Ковалев и Зыков, но их голоса звучали одиноко.
– Ковалев и Зыков не хотят прудить! Всем нужно, а им, знытца, не надо, – посмеиваясь, заметил Аполлон и опустился на стул.
– Всем не нужно, да вы им глотки позатыкали… Руки надо посчитать, – злился Зыков.
Поставили на голосование. Голосовали сначала «за».
Первыми подняли руки Аполлон, Степан, затем Хвиной и Федор, а потом уже, как бы нехотя, Матвей, Обнизов и за ними все остальные.
Не голосовали только Ковалев и Андрей Зыков.
Хвиной и Федор Евсеев подняли руки выше других, стараясь, чтобы Аполлон и Степан заметили это.
«Их больше… Вот сволочи!» – подумал Ковалев и тоже поднял отяжелевшую руку.
Атаман улыбался, а Матвей и Василий стояли перед столом суровые. Можно было подумать, что они голосовали по принуждению.
– Господа старики, – заговорил атаман. – Теперь о том, как будем наряжать рабочих на пруд – или с души, или с рогатой скотиняки?..
Он точно и в самом деле хотел быть беспристрастным и не знал, как лучше, интересовался мнением большинства.
– На мое, атаманово, усмотрение, стоило бы не иначе, как с души. Скорей запрудим, и выйдет, как говорится, баба с возу – кобыле легче. Так я думаю, и думаю не плохо.
– Чего-то криво у атамана выходит!.. – крикнул Андрей Зыков. – Пить воду будут быки, а не люди, У Аполлона восемь пар, у Степана десять, у Федора Ковалева и у Василия по шести, а все они малосемейные. Значит, за них будут работать другие? Умное дело! Дураков нашли! Стыдно! Мошенство!..
– С рогатого скота посылать рабочих! – сказал кто-то.
– А то как же! – поддержали его.
– С души надо! – вставил и Мирон, приподнимаясь на носки начищенных сапог.
– С быков!
Крик нарастал. Ковалев своим грубым басом поддерживал атамана и тех, кто предлагал посылать «с души».
– Лучше, знытца, голосовать и не переливать из пустого в порожнее, – резонно заявил Аполлон, и атаман, не медля ни секунды, поставил вопрос на голосование. Оказалось, что большинство соглашалось наряжать рабочих с души. Таково было мнение и Хвиноя, и это особенно обозлило Андрея Зыкова.
Подойдя к Хвиною, он неожиданно заявил ему в упор:
– Ты дурак!
– За что?
– За все! Дурак – от земли не поднимешь!
Расталкивая стариков, Андрей покинул собрание.
Он не слышал, как Аполлон ругал его в спину, как Степан успокаивал Хвиноя. Но все сразу забыли и о Хвиное и об Андрее, когда раздался голос Обнизова:
– Господа старики! Теперь будем требовать от Степана и Аполлона магарыч.
– Уж, верно, не откажут? – вопросительно поглядывая на сидящих за столом, подхватил Матвей.
– Пущай только попробуют!..
– Мы будем требовать, кричать!
Гул голосов нарастал, перекатывался от стола к задним рядам, и вот наконец кто-то крикнул отчаянно громко:
– Магарыч!
Федор Ковалев, сорвав с головы шапку, взмахнул ею в воздухе и заревел глухим басом:
– Три ведра дымки!
К нему присоединилось десятка два голосов.
– Три ведра!
– Два!
– Магар-р-р-ыч! – оглушал всех раскатистый бас Ковалева.
А Обнизов, толкая его локтем в бок, шептал на ухо:
– Штаны с натуги не загуби. Они у тебя суконные.
Аполлон, поднявшись, небрежно махнул рукой. Все замолчали. Лишь Федор Ковалев, точно с цепи сорвавшись, гаркнул:
– Магарыч!
Аполлон снисходительно улыбнулся:
– Знытца, дошло дело до магарыча, и Ковалеву не конфузно больше других драть глотку. Нет у меня, знытца, денег на магарыч.
Встал со стула и Степан. Он негромко кашлянул, но все услышали его кашель и притихли. Глядя серыми, выцветшими глазами из-за пшеничных косм бровей, он оказал:
– Кричите вы, как грачи. Магарыч и магарыч. О чем толковать? Не раз уж вам ставил магарыч дед Степан и теперь поставлю. Я старинный человек, и скупость мне не сродни. Только сделайте добросовестно!
Кто-то закричал:
– Качать деда Степана!
– Качать!
– Ура!.. – поддержали с разных сторон.
В толпе задвигались, заволновались. Тут же схватили старика на руки и стали подбрасывать кверху. Большая борода Степана развевалась, как флаг на атаманских воротах во время сильного ветра. Галуны на воротнике и рукавах поблескивали тусклым серебряным блеском, надувались широкие темно-синие с красными лампасами шаровары, а фуражки на голове давно не было – ее снесло порывом ветра.
Потом качали Аполлона и Василия, затем Матвея и, наконец, Ковалева.
Окончилось чествование. Хвиной и Кирей ладонями вытирали мокрые, вспотевшие лица, а Федор Евсеев шумно посапывал, – никак не мог отдышаться.
– Мишка Мотренкин, скорей за стол постановление писать! – позвал атаман, и около стола возник маленький казачишка с кучерявым чубом, с праздничной улыбкой на угреватом лице и в серых, глубоко сидящих глазах. – Садись и пиши покрасивей, потом помагарычимся немного, – сказал атаман Мишке, который, усевшись рядом с ним, вооружился пером и начал писать.
* * *
Пили магарыч у Степана, в просторной горнице, сидя вокруг раскладного длинного стола, уставленного пестрыми графинами, тарелками с яичницей и нарезанным пшеничным хлебом, чашками с кислым молоком и с квашеной капустой.
Рады были старики и самогону и тому, что белая армия продвигается вперед: атаман читал в газете про «третий звонок на Москву». Присутствовали на выпивке и два фронтовика – Гришка Степанов и старший зять Мирона Орлова. Они рассказывали о геройских делах своих частей и командиров. Аполлон и Степан убеждали всех, что пришел настоящий конец войне и большевикам.
Была и еще одна радость – не общая, а скорей только Аполлона и Степана, но ей радовались попутно все присутствующие: зыковский пруд после беспрерывной недельной работы был закончен.
Магарыч распили. Пошла складчина. Остались только те, у кого были деньги. Выпив пару рюмок, Хвиной отправился домой. Огибая леваду Степана, он вышел на выгон, к воротам Бирюковых. Старик Бирюков, стоя у ворот, поманил его сухим пальцем. По тощему, узкобородому и бритому лицу его было заметно, что он собирался сказать что-то важное.
Хвиной подошел к нему и спросил:
– Петрович, что не пошел на магарыч? Степан посылал за тобой…
Иван Петрович засмеялся, пряча лицо в ладони.
«Видно, пьяный», – подумал о нем Хвиной.
Как бы угадывая мысли приятеля, Иван Петрович почти шепотом ответил:
– Я и языка самогоном не мочил, а вот пьяный. – И еще тише зашептал: – Без водки Филипп напоил… Пойдем-ка вместе, опохмелимся. У Степана водка хороша, а мой первак не хуже и дешевле.
Приятели прошли на крыльцо. Хозяин усадил Хвиноя на нарах.
– Услужить нам некому. Ты теперь вдовец – мою петлю на шею накинул. У меня она уже десять годов. В одно время с твоим Иваном Егора забрали на фронт против большевиков. Как убили Егора, сноха ушла к своим жить. Филя был со мной, и он удрал. Один я, как сурок в сурчине.
Иван Петрович усмехнулся и вышел в сенцы, откуда вынес краюшку хлеба и щепотку соли.
– Чайная чашка тут? Ага, вот она…
Он почти до верха наполнил чашку и, вытерев тыльной стороной ладони губы, как это делают любители спиртного, поднес ее Хвиною.
– На, Хвиноен.
– Сперва хозяин, а потом уж гости.
– Пей, говорю, за Филю пей.
Хвиной долго тянул из чашки и крякнул лишь тогда, когда самогон был выпит до капли. Закусывая, он улыбнулся и сказал:
– Диву даюсь, как это глотка на людях подводит? Сейчас вот ничего, а у Степана поперхнулся.
– Затюканные мы, как собаки. Пушинки мы. Степан и Аполлон дуют, а мы и летим, куда им надо.
Иван Петрович опять засмеялся и приложился к чашке.
– Ты толком скажи, Петрович, что случилось?
Сгущались ранние сумерки. Мыча, с горы шли коровы. С хутора им откликались телята. Уже и гурт прошел к ночному стойлу…
Иван Петрович, наклонясь к Хвиною, раздельно шептал:
– Филипп был ночью. До зари беседу вели. Послали его красные казаков убеждать бросить братскую войну… Не за что, мол, изводить друг дружку… Говорил Филипп: «Нам тычут в нос, что там одни мужики. Брехня! Там есть и такие бравые казаки, что похлеще других. Форма – ни дать ни взять старинная. Только песни новые». Думают постановить жизнь так, чтобы пруд в Зыковом за рюмку водки не прудить, чтобы у Хвиноя и у Ивана на столе стояла своя полбутылка.
В наступившей темноте Иван Петрович старался разглядеть Хвиноя, а Хвиной, почесывая затылок, угрюмо молчал.
– Не молчи. Хвиной. Вижу, что хочешь сказать. Ну и говори, – возбужденно настаивал старик Бирюков.
– Казачество остается нерушимым, – начал Хвиной, как бы разговаривая с самим собой. – Форма и прочий обряд казачий – тоже остается… И это не плохо. Насчет прав всяких спорить не приходится. Зацепка только насчет бога. Не зацепка, а прямо – крюк. Тут умного не получается. Солнце, травка, разные звери – кто их придумал?.. Бог, Петрович! Крути, не крути – бог!
И чтобы обосновать свою правоту, Хвиной начал рассказывать знакомую осиновцам притчу о юдинском помещике Константине Лазаревиче: как он в июньскую пору выехал по степи покататься на серых в яблоках жеребцах. Сел с ним в легкие дрожки и его сын Евгений, студент. Катаясь, они любовались высокими хлебами.
«Боже мой, какую благодать ты послал!» – сказал Константин Лазаревич.
«Папа, какой там бог – нет его…»
Отец замолчал и молчал до тех пор, пока не собралась туча, не грянул один удар грома за другим… От третьего удара упали кони, и Евгений испуганно закрестился: «Боже, сохрани и спаси!..» И тогда отец, ударив его по щеке, крикнул: «Мерзавец, чего крестишься, если бога нет?!»
Под ливнем, под новыми грозовыми ударами Евгений со слезами попросил у отца прощения…
Закончив рассказ, Хвиной молча улыбался, в упор рассматривая своего зажурившегося собеседника.
Иван Петрович думал. Руки его застыли, как в тисках сжимая плохо скрученную цигарку. Думал он с сожалением, что нет сейчас Филиппа, который сумел бы подсказать, как надо ответить Хвиною, чтобы остаться победителем в споре.
А Хвиной радовался, что озадачил собеседника. Улыбка довольства не сходила с его лица, а пальцы уверенно крутил цигарку.
– Полковник, пан, знающий человек Константин Лазаревич, а бог для него все-таки есть. В этом деле, Петрович, как говорится, без бога ни до порога.
– Не трогай бога, Хвиной! – возбужденно заговорил Иван Петрович. – Сами будем разбираться в мирском. Пахать надо, если не хочешь с голоду помереть?.. Надо. А плуг где? А где быки?.. У Аполлона, у Степана, у Мирона, у Матвея, у Федора Ковалева… У них и сеялки и косилки… Им к быкам надо других быков. А другие быки – это мы с тобой, Филя, Ванька, Петька… Погоняют нас Степан и Аполлон, а бог этого не видит. То ли нет интереса у него к мирскому, то ли, может, соображения не хватает рассудить…
– Про интерес, Петрович, говори, а про соображение помолчи, не гневи его, всевышнего, – строго заметил Хвиной.
– Выпей остатки. Мы с тобой столкуемся, – настойчиво проговорил Бирюков.
Остаток решили выпить пополам.
– Ты возьми, Петрович, любое дело, – снова начал Хвиной. – Ганке моей жить бы да жить, а она взяла и померла…
– Хворала, вот и померла.
Хвиной засмеялся тем добродушным смехом, который овладевал им, когда водка согревала тело и язык развязывался.
– Ну, а хворость откуда взялась? – спросил он.
– Простудилась, и от жизни такой… А вовсе не по божьему указу, – твердо отвечал Иван Петрович.
– Затейник ты, Петрович, – усмехнулся Хвиной. – Ты же сам сибирку с комчугом лечишь молитвой. Фершалы и доктора не помогают, а ты помолишься, наговоришь нашатырь и в кувшин с водой его… Болячка проходит. А почему? Тут одна причина – бога умеешь просить, нравится ему твоя молитва…
Иван Петрович неожиданно для Хвиноя весело рассмеялся.
– Постой, – сказал он. – Постой, я тебе расскажу, как вылечил сибирку Митрию Пономареву… Схватила она его за Бабковым логом. Мы там докашивали ячмень, а Митрий в полверсте от нас жито из копен забирал. Гляжу – мчится он на гнедой кобыле. Косилка у нас чужая, и что-то не ладился покос. Два косогона сломали на двух десятинах. Ругался я вовсю… Так слушай: несется он прямо на нас, а у нас быки, что ходили передом, молодые. Глядь они на него, а он без шапки, куделя десять годов не чесана, морда красная, рубаха парусом… Хватили быки, что было сил, и в сторону. Летят как оглашенные. Мы – тпру! Мы – стой!.. Ничто не помогает. Спасибо, поблизости бугор. Косилка в бугор, а косогон – возьми и лопни. Бычата молодые, маломощные: попрыгали, попрыгали, да и остановились. Рассердился я на Митьку не хуже цепной собаки, шепчу: «Откуда ты ко мне? Черт тебя принес! Сдохни ты, гад! Косогон у меня лопнул!»
А он упал на валках и одно, знай, кричит:
– Иван Петрович, христом-богом молю: спаси! Сибирка на затылок села. Век бога молить буду за тебя и за детей, век тебя не забуду!
Взял я кувшин с водой, отвернулся и подбираю слова молитвы. Но подходящие никак не попадаются. В конце концов шепотом запустил крепче крепкого, потом плюнул и нашатырь бросил в кувшин. «На, говорю, должно стать лучше…»
Хвиной молчал, а Иван Петрович, сдерживая смех, продолжал:
– На третий день встретились в переулке. Снял Пономарев шапку и ко мне: «Спасибо, Петрович. Дай бог тебе здоровья. Будто и не хворал. Просо у меня рядом с твоим: буду косить свое и твой клочок скошу». – «Ладно», говорю, а сам готов лопнуть от смеха.
Хвиной казался озадаченным. Он не понял того, что рассказал Иван Петрович. Они сидели несколько минут, не проронив ни единого слова. Хвиной не поднимал взгляда. Казалось, никогда он не видел собственных чириков и теперь впервые решил как следует рассмотреть их. Наконец, вяло подняв голову, сказал подавленным голосом:
– Не надо больше об этом. Бога, Петрович, не уничтожишь. А уничтожишь, на кого тогда надеяться?..
На крыльце было тихо. Из левады доносился дрожащий шелест тополей, где-то близко трещали сверчки. В высоком и темном небе зыбились редкие звезды. Хвиной бросил за крыльцо окурок. Брызнули искры, в набежавшем ветерке покружились секунду и погасли.
– Засиделся я, Петрович. Завтра рано с гуртом надо. Пойду.
Разговор с Иваном Петровичем заставил Хвиноя впервые подумать о том, о чем он никогда не думал. Замедляя шаги, он подошел к речке и в нерешительности остановился.
«Не надо так… Слова его – пустые, без пользы. Дьявола ими только тешить… И никакого Филиппа не было. Мерещится это от скорби…»
Из куреня Степана донеслась пьяная песня.
– А… «Калинушка-размалинушка»… – усмехнулся Хвиной. – Ванькина любимая. Любила ее и Гапка-покойница. Подтянуть, што ль?
И запел пьяным, срывающимся голосом:
Не пускай листок по синю морю,
Как по синю морю корабель плывет…
Хвиной – «кадет»
Поздним вечером в декабре, когда стояли жестокие морозы, Ванька пришел в двухнедельный отпуск. В хату он вошел неожиданно. Хвиной на радостях растерялся, но Наташка не смутилась: заметив на погонах Ванькиной шинели три белые нашивки, удивленно всплеснула руками:
– Гляди, урядника заслужил! Вот анчихристенок! – и засмеялась.
Ванька не мог развязать озябшими пальцами башлыка.
– Наташка, что стоишь? Помоги служивому.
Маленькая, проворная Наташка рванулась к мужу, сняла с него башлык.
Ванька по привычке перекрестился на прадедовскую икону, что висела в темном углу, и поздоровался:
– Здорόво живете. Здорόво, батя.
– Слава богу, сынок…
Ванька и отец поцеловались, и вдруг совсем неожиданно Хвиной виновато обронил:
– Вот матери, Ванька, нету. Провожала, а встретить не довелось… – И он потер рукой сухие, бесцветные глаза.
– Ничего, батя, не поделаешь. Горевал и я…
– Правда, Ванька, от смерти никто не увильнет.
Поздоровался Ванька и с Наташкой. Уцепилась жена за шею урядника и три раза поцеловала его.
– Могла бы служивому и в ноги поклониться. Муж он, – заметил Хвиной.
– Забыла. В другой раз сделаю, как надо, – сказала Наташка, и ее нарумяненные щеки полезли к задорно вздернутому носу.
– А где же Петька? – спросил Ванька.
– Петька – вон. На печь забрался, – ответил Хвиной.
– Тю, а я и не вижу. Здорово, Петро!
– Слава богу.
– Давай поцелуемся.
– Давай.
– Ты, Петька, здоровый стал.
– Только зубы скалить больно умен, – не то серьезно, не то шутя заметила Наташка.
Петька недовольно скривил физиономию и огрызнулся:
– Молчи! Будет тебе на пряники от Ивана. Всех ухажеров по пальцам могу посчитать.
– Ну-ка, уймись. Заплелся! – ругнулся Хвиной.
Ванька сел на вербовый обрубок, поближе к печке, и улыбнулся в сторону Петьки:
– Ничего, Петро, дадим Наташке, если заслужила. Только потом. А сейчас, батя, давай закурим служивского табачку.
И он достал из кармана шаровар большой, сложенный вчетверо кисет.
– Дьяволенок! Никак не мой это? – дернула Наташка из рук мужа кисет. – Мой был зеленый и расшитый стеклярусом, а этот – черный и вышитый. Милашка подарила?..
Ванька не без удовольствия усмехнулся. Хвиной с родительской гордостью взял у Наташки кисет и начал его внимательно рассматривать. На нем вышиты были две замысловатые буквы, веточка и сидящая на ней птичка.
– Батенька, что там написано?
– Да мы с тобой, Наташка, одинаково учены. Не по-нашему тут писано. – И, продолжая самодовольно улыбаться, Хвиной заявил: – А как разукрасила! Сидела, верно, бог знает сколько ночей. Жалко, Ванька, что матери нет: порадовалась бы она… Честь ведь нам большая – сын урядник.
– Скажи хоть, как ее звать? – спросила Наташка.
– Как звать, так и называть. Может, их десять было… – высокомерно отвечал Ванька.
Петька задорно смеялся, а Наташка, схватив Ваньку за плечи, Потянула назад, стремясь во что бы то ни стало свалить его с обрубка.
– В другое время будете баловаться, – остановил Хвиной сноху и, обратившись к Ваньке, спросил: – Скажи лучше, Иван, надолго приехал?
Ванька не сразу ответил. Отстранив Наташку, он глянул на печь, на дверь, подтянул повыше голенища сапог и тогда только нехотя обронил:
– На две недели.
– Плохо, Ванька, что зимой ты пришел. Если бы летом, помог бы в работе. Тяжеловато нам… Когда уже красным конец придет?.. Ты ближе, сынок, к начальникам. Небось они знают?..
– На полковом празднике был у нас из корпуса войсковой старшина. Говорил, что скоро побьем большевиков.
– Войсковой старшина? Старый или молодой?
– Уж седой. Лет под пятьдесят. Усы большие такие.
Наташка вмешалась:
– А отчего же у тебя, Ваня, усы не выросли?
– Послужу – вырастут…
– Без усов ты, Ваня, и на героя не похож.
– Ты, Наташка, баба и не понимаешь, что геройство не в усах, а на погонах, – вразумил сноху Хвиной.
Не сдержался и Петька. Ему досадно было слушать, как Наташка лезет в казачьи дела.
– Хоть бы понимала, – сказал он. – Из Ванькиных одногодков никто не приходил урядником на младшем окладе, а он – на старшем.
Наташка смутилась и, прищурив глаза, недовольно бросила:
– Подумаешь, тоже, казак нашелся! За живое его взяло!..
– Казак! Так и есть, Наташка, – вступился Хвиной. – Петьке придется по мирному времени служить. Обмундирование будет тогда другое. Теперь вот Ванька – старший урядник, а как его узнаешь издали? Погоны защитные, галунов нету и мундира тоже… В старину галуны на шее, галуны – на рукавах, фуражка с кокардой… Идет служивый и земли под собой не чует.
– Ты, Иван, счастливый. Все же добился, заслужил урядника, – завидовал брату Петька.
– Заслужил, Петька, а все-таки последнее время не радуюсь этому… – Он помолчал и со вздохом добавил: – Вот допустим, что война кончилась, кадеты взяли власть в свои руки… А что нам с того?.. А то, что бери опять кырлыгу[2]2
Кырлыга – длинная палка овчара.
[Закрыть] и гоняйся за чужими овцами. Помнишь, батя, ты говорил мне, как от деда отделялись. «Возьмем, Ванька, кырлыгу на год или на два, соберем деньжат, оборудуем кое-какое хозяйство и заживем». А как вышло?.. Двенадцать годов она у нас подряд. Крепко за нее ухватились. А отнимет кто – тогда либо побираться иди, либо всей семьей к Аполлону или к Степану в работники.
– Никто, Ванька, кроме бога, человеку ничего не даст. Другие все только и знают, что отбирать. А большевики, так эти и вовсе всякому воровству и грабежу учат…
Ванька прервал отца:
– У нас, батя, кроме кырлыги, и брать нечего, можем не опасаться. – И он усмехнулся, поглядывая на печь, где сидел меньшой брат.
– Правда, Иван, пущай бы у нас кырлыгу отняли. Осточертела она, – сказал Петька.
– Помнишь, батя, – начал опять Ванька, – когда восстание поднялось против большевиков, все говорили: «Не хотим коммунию, против большевиков не пойдем». А ныне многие раскусили, что коммуния и большевики – одно и то же. Кто не хочет коммунию, тот не хочет и большевиков. Не надо науки большие проходить, чтобы догадаться. Войсковой старшина Греков во время восстания кричал: «Бей коммунистов, а большевиков не трогай». А сейчас он кричит совсем по-другому: «Руби сволочей-большевиков!» Во время восстания офицеры без мыла лезли, куда не полагается, и говорили: «Казаки, станичники, решайте вы, как знаете, а мы – ваши слуги. Нам жалко вас и жалко Дон. Дальше донской границы не пойдем ни шага. Надо Дон очистить». А как освободили Дон, так прямым сообщением пошли на Воронеж и Тамбов. Теперь оттуда пугнули. Я говорю, батя, нашего мнения им не потребовалось.
– Ванька, – перебил его Хвиной. – Да ведь казаки все тут, а не на той стороне.
– А Россия, батя, там. Есть там и казаки.
– Должно быть, дураки! – заметил Хвиной и недовольно отмахнулся.
– Нет, батя, хоперских и усть-медведицких казаков и там много, и командует ими полковник Рубцов. Сбруя и обмундирование у них казачье.
Хвиной невольно вспомнил слова Ивана Петровича. Тот тоже еще недавно говорил, что казаки есть и у большевиков. И он задумался.
На столе загремели ложки: Наташка готовила вечерять.
– Нынче у нас, Ванька, одни щи. Завтра наготовлю лапши и пирожков с картошкой. Садись… Батенька, что задумался? Служивый пришел, надо радоваться, а ты нос повесил.
– И в самом деле! Садись, Иван. Петька, слазь с печи. Что людям, то и нам…
* * *
Отпуск Ваньки близился к концу. Неожиданно прошел слух, что большевики находятся в тридцати верстах от хутора. Не завтра, так послезавтра они должны были прийти в Осиновский.
В поздний обед у ворот Матвея собрались старики и молодые парни. Среди них стоял атаман Иван Богатырев. Разговаривая, все смотрели на шлях, за хутор. Пришляховая целина, окутанная снежным одеялом, спала мертвым сном. Сероватой от конского помета, извилистой полоской на этой целине обозначался шлях.
– Знытца, всем, всем до одного выезжать надо! Думать много не приходится! Казаки мы, и всех нас под метло на тот свет отправлять будут! Мужичье дело другое: им большевики свои! – кричал Аполлон возбужденно и сильно заикаясь.
– Говорить об этом много не приходится, – сказал Матвей.
– Через два часа все должны быть готовы. Как пойдут обдонские подводы по шляху, живо запрягай. Запасись хлебом, салом! – отдавал распоряжения атаман.
– Господа старики, – начал Степан. – Мужикам под низом лежать. Не писано ни в каких книгах, чтобы казаков кто-нибудь победил. Поедем и скоро вернемся, а уж если на то пошло, то все помрем.
– Разумеется, один конец всем.
– Что одному, то и другому.
– Всем! Всем!..
Торопливой походкой к толпе приближался Федор Ковалев и Мирон Орлов. Раскрасневшийся, одутловатый Ковалев смотрел на всех злобными глазами.
– Всем! Всем! – набросился он на присутствующих. – А того не знают, что Иван Петрович чистую скатерть из сундука достал: гостей встречать собрался. Глядит в окно и улыбается: мол, конец вам, взяли вас большевики за штаны и вытряхнут из них.
Все воззрились на Федора Ковалева.
– Что вылупились? Правду говорю! Смеется Иван Петрович над вами!
Мирон Орлов шутливо ударил Ковалева рукавицей по плечу.
– Брешешь ты, Федя. Теперь ему не до смеха. Одним махом сбил ты его с ног. Не будь я там, конец бы Ивану Петровичу!
– Знытца, с праздника у него на будни перешло, – засмеялся Аполлон.
– Христопродавца не жалко, – заметил Матвей.
Присутствующие переглядывались, кое-кто ежился и скупо улыбался. Смех Аполлона и Василия, душегубство Ковалева – все это казалось неуместным. Нарастало уныние, вызываемое страхом за собственную жизнь.
Наступило молчание, и вдруг Андрей Зыков захотел поговорить с Ковалевым.
– Откуда ты такой судья сыскался? – твердо и спокойно начал он. – Едешь и езжай себе, а душегубить не имеешь права! Гад!
– А тебе что?
– А мне то!.. – хмуря брови и наступая на Ковалева, вдруг громко закричал Андрей.
Ковалев вытянул шею и корпусом подался вперед.
– Так ты тоже не едешь? – закричал он.
– Мое дело! Ты что за спрос? – Андрей размахнулся, но несколько человек сразу схватили его за руки и оттащили от Ковалева.
– Бросьте!
– Не надо!
– Нашли время!.. – заговорили в толпе.
* * *
Хвиноева хата была по-своему встревожена приближением большевиков. Хвиной и Ванька различно думали о сегодняшнем и завтрашнем дне и горячо спорили. Быстро исчерпав слова убеждения, Хвиной перешел на ругань, и вскоре начался открытый скандал.
– Тебе говорю, езжай, Ванька! – строго приказывал он.
Ванька, стоя у порога, сосредоточенно курил, пуская густые струи дыма в чуть приоткрытую дверь.
– Езжай, Ванька! Не смей рассуждать! Отцовским словом тебе приказываю! Не вводи во грех. Не самоуправничай, чтоб отцу потом в глаза тыкали.
– Ты, батя, как маленький рассуждаешь, – спокойно отвечал Ванька. – Я, батя, гляжу, где лучше, где правда, а ты только боишься: не тыкали б тебе в глаза. Нам всю жизнь тыкают, а ты того не видишь. Сколько раз в году ходишь к Аполлону?.. Триста шестьдесят раз! Триста шестьдесят раз стыд выедает тебе глаза. Придешь оттуда: «Ванька, голова разболелась», – а у самого веки красные…
– Ты доктором-то не прикидывайся! – кричал Хвиной.
– Что мне прикидываться? Ты мне отец, твое горе все до капли знаю.
– Большевики убьют!
– Это еще как сказать. А отступать, искать смерти за сотни верст – не хочу.
Вспотевший Хвиной набросился на куму Федоровну – жену Андрея Зыкова, которая решила поддержать Ваньку в споре с отцом.
– Астах со своим Семкой тоже говорили, когда за Дон отступали: «Езжайте, дураки, а мы вернемся». Вернулись вот! Ухлопали их обоих.
Хвиной замолчал. Скорой, покачивающейся походкой он сновал от стола к печке, злобно оглядывая углы хаты, будто впервые заметил их.
– Кому как, Павлович, – обратилась к нему Федоровна. – Мне вот, к примеру, ничего не сделали. Сначала, как пришли, страшно было, озноб брал. Вошли в хату, шум подняли: «Жрать давай, кадетская морда!» Я им вынесла все кушанья, наготовила. Наелись и притихли. Тот, кто больше всех ругался, и говорит мне: «Ты, тетка, не бойся, мы за таких заступаемся». А я думаю: «Не заступайтесь, но хоть не трогайте». Другой говорит: «Богачам мы печенки выкидываем». И правда, Павлович, когда отступали, бедных не обижали…
– А кто Алешке Нюхарю хату-завалюшку сжег? – сердито спросил Хвиной, остановившись у стола.
– Слыхала я, Павлович, по-другому про это говорят. Говорят, что Матвей ее поджег.
– Матвей поджег? На что она ему?
– Ты, Павлович, не кричи и не ругайся. Все равно драться не будешь. Ты сам этого не видал и не говори.
– Нет, видал!
– Значит, глядел без очков, – пошутила Федоровна.
Ее шутка оказалась некстати. Хвиноя взорвало окончательно. Остолбенев, он вдруг с кулаками пошел на Ваньку:
– Отцовского приказа, гад, не слушать?
Наташка и Петька подняли рев.
– Батенька! – кричала Наташка, хватая свекра за руки.
– Иван, уйди! Не надо драться! – упрашивал брата Петька.
– Зачем так? Ты, Павлович, сам собирайся и езжайте с Андреем, – успокаивала Федоровна кума.
Хвиной никого не слушал. Размахивая кулаками, он рвался к Ваньке:
– Вон из моей хаты! Вон!
– Батя, я уйду, и никто не будет знать куда. Никто тебе глаза не станет колоть. Только одно прошу – не отступай.
Он вышел в сенцы и, постояв немного, спрятался за высокую кадушку. Дверь на крыльцо оставалась открытой, и ему видно было стариков и парней, собравшихся около Матвеевой левады. В гуще толпы стоял атаман. Он громко о чем-то говорил, указывая на шлях. Несколько человек, отделившись, побежали в хутор. И тут же Ванька услышал строгое распоряжение атамана: