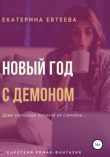Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
В небе пели жаворонки…
Шла вторая неделя марта. Под солнцем, обдуваемая посвежевшим восточным ветерком, земля понемногу начинала просыхать. На лужках и пригорках, между дворами и левадами стал выползать изумрудно-зеленый гусятник. Речка Осиновка неохотно входила в свои берега, но пруды, котловины, лощины и лощинки были до краев наполнены мутноватой водой.
Над голыми, чуть зарумянившимися вербами крикливыми стаями кружили грачи, обновляя старые гнезда. На солнцепеке, развалившись и зажмурившись, дремали осиновские собаки, а по первозеленью Дедовой горы бродили кучки овец, еще не согнанных в гурт. Во дворах стучали топорами и молотками: ладили бороны, арбы к севу.
В затишье, за хатой, Хвиной и Наташка пересевали семенную пшеницу. Наташка исподволь подсыпала ее из мешка в решето, а Хвиной осторожно просеивал. От умелых движений ости половы и черноусые зерна овсюга сбивались в самую середину решета, и Хвиной, снимая их пригоршнями, отбрасывал на расчищенное место, а пшеницу ссыпал на разостланную полсть.
Вороватые куры незаметно подкрадывались, чтобы клюнуть.
– Кши, проклятые! Оголодали! – сердился Хвиной.
– Папаша, пущай отсев клюют. Яиц больше нанесут, – заметила Наташка.
– Ты замолчи, яичная барыня! Не знаешь, с каким трудом добывали зерно?!
– Папаша, а дядя Андрей посулил прибавить пшеницы. В общественном амбаре осталось больше сотни мер… После обеда соберутся делить.
– Как же, непременно надо прибавить, а то у Наташки куры плохо несутся! – не без раздражения сказал Хвиной, перестав кружить решето.
– А если лишнее есть? – упорствовала Наташка.
– Бестолковая! У советчика под боком греешься, а ничего не понимаешь!
– Заплелся, Хвиной Павлович… Гляди – лапти сплетешь, – съязвила Наташка.
– А ты, секретарша, умей понимать: мы вот получили и на сев и на еду, а кое-кто еще и на сев не получил… Им дадут в первую очередь. Кум Андрей сам это хорошо знает… Иван Николаевич тоже об этом говорил.
– Когда это он с вами так длинно разговаривал? – рассчитывая снова уязвить свекра, спросила Наташка.
– Три дня назад, когда я ему с рук на руки сдавал Сергеева, этого шкодливого, лысого козла!.. Вот тогда товарищ Кудрявцев и сказал мне: «Хвиноен Павлович, глядите, чтоб семенами были обеспечены те, кто должен быть обеспечен». Это тебе понятно?
Наташка притихла.
Когда пшеница была пересеяна, из совета вернулся Ванька. Наташка помогла ему вскинуть на плечо мешок с пшеницей, и вместе они понесли его в сенцы.
Хвиной остался убрать решето. Согретый работой и солнцем, он присел на завалинке отдохнуть. Вглядываясь в сизые дымки кизячных костров, разведенных маленькими овчарами на Дедовой горе, и угадывая, где чьи овцы, невольно подумал о том, что скоро эти небольшие кучки овец сгонят в большой гурт и отдадут под опеку наемного овчара. Почти полжизни Хвиной проходил в хуторских овчарах, – неудивительно, что он думал об этом.
«Хорошая зеленка взялась на Дедовой горе. Овцам ее хватит на несколько недель. Не было бы засухи, не подули бы суховеи, – корма хватит на этой стороне речки до самого покоса. Снимут, уберут траву, тогда можно перебраться в Осиновский лог, пока по жнивью не вырастет отава… Хорошо, если в конце июля выпадут дожди. Тогда Зыковский бугор порастет густой брицей. Овцы будут плавать в ней…»
Хвиной удивился, что в первый раз так легко подумал о том, о чем раньше думал с тяжелой тоской. Каждую весну именно в это время сердце его переполнялось злой досадой и одолевали думы. Хотелось найти выход из бедности. Но сколько бы он ни думал, выход был один: придется и в этом году пасти гурт овец. И в памяти оживали знойные летние дни, дети, надоедающие одними и теми же вопросами:
– Батя, а половина дня уже прошла?
– Батя, а скоро повернем гурт к хутору?
Тяжело было слышать эти вопросы, а еще тяжелее было утром, затемно будить детей. За длинный день они расходовали свои неокрепшие силы и с вечера засыпали как убитые, часто не дождавшись ужина. Короткой летней ночи было им мало, и, поднятые отцом на ноги, они часто снова падали в постель и, не открывая глаз, просили:
– Батя, дай еще немножко поспать.
Виновного около Хвиноя не было и, злобно ополчаясь против детей, он начинал топать ногами, ругаться. Дети пугались, и сон бежал от них прочь.
А через час, в поле, Хвиной был особенно ласков с детьми, будто старался загладить свою вину.
Сегодня прошлое не приходило ему в голову, а может, оно просто казалось другим?
– Чуднό! Должно быть, это потому, что теперь нет неволи и вера есть, что в обиду не дадут, поддержат в правде, в нужде… Овчар я лучший во всей округе. После сева возьмусь опять за гурт, – говорил Хвиной все громче и громче и, привстав, начал размахивать руками: – Ванька, и вы, Петька и Наташка, не мешайте мне заниматься своим делом. Особенно ты, Наташка, не влезай не в свои сани. Ты все болтаешь, что стыдно мне теперь ходить за овцами. Так это ты по глупости так… А помнишь, как в первый раз со мной заговорил товарищ Кудрявцев? «Ты, говорит, был овчаром?» – «Я». – «А сколько лет?» – «Пятнадцать». – «Трудовик, говорит, должен быть опорой советской власти». Наверное, Иван Николаевич меньше Наташки понимает?!
Хвиной засмеялся и отмахнулся от тех, с кем сейчас спорил.
– Батя, ты сам с собой, как в песне: «Сама с собою рассуждала и тем довольна я была», – усмехнулся Ванька, вернувшийся вместе с Наташкой за отсевом.
– Это овцы заморочили ему голову, – заметила Наташка.
Хвиной недовольно посмотрел на сноху и решительно сказал сыну:
– И сам с собою рассуждал, и с тобой, Ванька… И выходит, что бросать гурт мне не стоит, не нужно…
– Ты слышишь? – И Наташка удивленно уставилась на мужа. – Он и теперь не понимает, что нам бесчестье будет…
Хвиной не дал договорить снохе. Уже этих слов было достаточно, чтобы он взлютовал против нее.
– Решето у тебя на плечах вместо головы! Решето! – тыкал он пальцем на висевшее решето и указывал на лоб снохи.
Последний раз Ванька видел отца таким злым в день его отступления с белыми. Тогда большая обида мучила Ваньку, а теперь он внутренне радовался возбуждению отца и был доволен, что Наташка по справедливости попала под настоящий огонь. И все-таки он сумел остановить отца на полуслове.
– Батя, подожди! Постой! Да никто тебе не запрещает браться за гурт! Только после сева! Уж если так хочешь, то и берись!
– Что же ты о бесчестье ничего не говоришь? – крикливо спросил Хвиной.
– Да я тебе об этом и не собирался говорить. За Наташкины грехи с меня не спрашивай.
– Наташка – твоя жена, а у мужа с женой одна голова! Или жена твоя только плясать ловка?
– Этого ты ей в вину не ставь, – улыбнулся Ванька.
– Тогда и она пусть подальше со своими разговорами… Вот на этом и порешим, – снижая голос, заключил Хвиной.
Наташка не предполагала, что муж станет в этом споре на сторону свекра. Она была сильно озадачена и не стала возражать ни мужу, ни Хвиною. Подтянув потуже концы шали, она сердито принялась собирать подстилки, ссыпать с них отходы в железную коробку. Потом они с Ванькой и подстилки и коробку с отходами унесли куда-то во двор.
Совсем утихомирившись, Хвиной от жердей, составленных высоким костром, отвязал решето и понес его в сенцы. Вешая его рамой на гвоздь, он по неосторожности столкнул с соседнего гвоздя кырлыги. Одна из них, ударившись о косяк двери, как-то попала ему под ноги и сломалась на самой середине. Хвиной поднял обломки и, внимательно разглядывая, стал прижимать один конец к другому, да так сильно, что место излома становилось незаметным. Но, убедившись, что кырлыгу не исправить, он бросил обломки в угол, покачал головой и с видом человека, которого секунду назад могло постигнуть большое несчастье и только по случайности он отделался легким ушибом, сказал:
– Хорошо, что так. Хорошо, что вербовая сломалась, а не кленовая. Эта мне пятнадцать лет прослужила. Срубил молоденький клен за Доном…
Он снял с гвоздя кленовую, любимую кырлыгу и круто загнутым концом ее стал двигать в воздухе, будто ловил за ноги овец.
– Эка ловка! Эка легка! – восторгался он.
Неслышно появившаяся на пороге Наташка смутила его. Укоризненно покачав головой, она сказала:
– Забавляетесь, папаша, на старости лет? – Она всегда называла его на «вы», когда хотела унизить или пристыдить.
– Ты за своим носом хорошенько присматривай, а за мной нечего. Я над овцами профессор, как ты в пляске. Понятно?
В ответ Наташка только громко хлопнула дверью.
– Ух, и зелье ядовитое! Не мешало бы такой маленькую встрепку дать, да Ванька смирный, – с сожалением заключил Хвиной и, повесив кленовую кырлыгу на прежнее место, вышел. Едва ступил он на крыльцо, как услышал голоса хуторян, собравшихся за двором около общественного амбара.
– Тебе, кум Хвиной, особое приглашение нужно? Заставляешь ждать! Поскорей иди! – недовольно позвал его Андрей.
– Иду, иду!
И, раскачиваясь, он заспешил к общественному амбару.
* * *
Наташка и вернувшийся из школы Петька латали мешки для посевного зерна. Они расположились около плетня на толстенном вербовом обрубке, который десятки лет заменял им лавочку для посиделок. Плетень защищал от прохладного восточного ветерка, а солнце пригревало сбоку. Это место удобно было еще и тем, что отсюда было слышно все, о чем говорили на собрании, проходившем около общественного амбара. Если, там поднимались оживленные разговоры, Наташка и Петька отбрасывали мешки в сторону и приникали к узеньким щелям в плетне так плотно, что Наташка даже нос себе поцарапала.
Они видели, как Филипп, раскрыв газету, долго читал собравшимся материалы об отмене продразверстки и введении продналога. Они слышали, как Филипп, отрываясь от газеты, громко повторял:
– И тут то же самое: посей лучше, убери хорошо, сдай государству по закону, а остальным распоряжайся по усмотрению – одевайся, обувайся, стройся… Так рассудили на десятом партийном съезде, так рассудил товарищ Ленин…
– А чего же они раньше так не рассудили, а без рассуждениев забирали у нас хлеб? – спросил Мирон Орлов, дергая пышными усами и блестя серыми насмешливыми глазами.
Андрей ответил:
– Некогда было рассуждениями заниматься, надо было бить белых генералов, помещиков… В газете точно отвечают на твой вопрос.
Чернобородый старик Обнизов, глядя из-под большого козырька фуражки куда-то в сторону, будто про себя заметил:
– Крестьянам собирались давать облегчение после того, как полностью «облегчили» их…
При всеобщем молчании собравшихся голос Андрея прозвучал очень отчетливо:
– В газете, Обнизов, разговор идет не о кулаках… Мы старались «облегчить» кулаков, а они нас хотели голодом уморить, государство советское… Расплачивались за меру мерой.
Прошел чуть слышный смешок, и Филипп снова заговорил – теперь уже о том, что до сева остались считанные дни и надо быть готовыми выезжать в поле…
– Слушай, председатель этой самой новой власти, – хрипло и громко обратился Матвей, – а ты дозволишь спрашивать, как и что?
Наташка и Петька, приникнув к плетню, видели, как Филипп, твердо стоя на камне, который служил трибуной, со сдержанной усмешкой ответил:
– Видно, Матвей Кондратьевич, тебе очень трудно запомнить, как называется наша власть… Запомни: власть наша – советская! А спрашивать, понятное дело, разрешается.
– А что будет, ежели я раньше других захочу выехать? – спросил Матвей.
Наташка и Петя смотрели Матвею прямо в его красное, бугристое лицо.
– Выезжай раньше других. Только посей, сколько положено, и так, чтобы хорошо уродилось… Сколько ему надо посеять? – обернулся Филипп в сторону рядом стоявшего Ваньки.
Ванька открыл записную книгу и прочитал: «Четырнадцать десятин пшеницы и шесть десятин мягкого хлеба».
Но эти сведения, видимо, не особенно интересовали Матвея, и он продолжал задавать вопросы:
– А если я позднее захочу выехать? А ежели я что-сь другое?..
И после каждого своего едкого вопроса Матвей почесывал поясницу.
– Что у него там, чиряк, что ль? – спросил Петька.
– Скребет здорово, – согласилась Наташка. – Это он от неудовольствия на советскую власть…
– А если «что-сь другое», то придется ответить перед властью за невыполнение обязательств. «Что-сь другое», Матвей Кондратьевич, не годится, – усмехнулся Филипп.
Собравшиеся тоже стали посмеиваться. Кое-кто говорил, что нечего Матвею и Обнизову придуриваться. Федор Евсеев осуждающе взглянул на смеющихся:
– Чего вам весело? – спросил он. – А может, и я «что-сь другое»?
И вот Наташка и Петька услышали голос распалившегося Хвиноя.
– Ты, сваточек, черт нас с тобой спутал в недобрый час, всю жизнь хочешь «что-сь другое»! И потому хочешь, что лодырь из лодырей, прихлебатель!
Хвиной смело пошел на Федора Евсеева, на своего свата, но с двух сторон ему навстречу двинулись Матвей и Обнизов с Мироном.
– Что ты вылупился на него? – спрашивал Матвей.
– Ты чистого прулетария Федора Евсеева хочешь в яму свалить? Да ему, может, полагалось раньше Бирюкова стоять у власти по теперешнему времени?! А еще сват! – наседал на Хвиноя чернобородый Обнизов.
Но Ульяшка Лукина, Мавра Максаева и зареченские бабы, плечами и руками отталкивая от Хвиноя Матвея, Обнизов а и Миронова, кричали каждая свое.
– А вы Федьку Евсеева возьмите к себе! – услышали Наташка и Петька.
– Пущай он вами в доме командует. А чтоб хутором командовал, – на черта он сдался!
– Хвиной – трудовик! Не сравнивай его с Федькой Евсеевым, с кочерыжкой.
Наташка побагровела от стыда и, оттянув Петьку от плетня, сказала:
– Нечего там разглядывать. Бери мешки… давай дело делать…
Латали и тихо разговаривали:
– С молодых лет Федька такой вот… Ему бы все выпить, закусить, полежать, – вздохнула Наташка.
– Сваточка послал нам господь, – смеялся Петька. – А ты, Евсевна, на него ни капли не похожа.
– Правда? – обрадовалась Наташка.
– Если бы по батюшке не была Евсевна, то были бы вроде чужие…
– Я на маму похожа: чуть курносенькая, веселая… А он, Федька-то, – чистый батя: черный, крючконосый и притворный… Они с батей и овцами и быками торговали. Что заторгуют, то и пропьют. Напьются и дерутся. А мама только и веселилась, только и радовалась, когда их не было дома… Ты же знаешь, как батя помер?
Петька, не задумываясь, ответил:
– Пьяный с дрог свалился под кручь Будного лога. Там часовня стояла…
– А Федька тогда уцелел…
И Наташка надолго умолкла. Понял Петька, какие мысли могли сейчас ее тревожить, отзываться болью в сердце, и не стал спрашивать о свате Федоре, а обращался к снохе с другими вопросами:
– Евсевна, так я подворачиваю края латки? А тачаю не редко?
Наташка охотно и старательно учила деверя, как еще лучше, прочней положить латку на мешок.
…А собрание, пожалуй, самое большое из всех хуторских собраний, шло своим чередом. Оно не случайно проводилось на лужайке около общественного амбара. Сейчас распределяли оставшееся семенное зерно. Ванька зачитывал фамилии и тут же называл количество пудов, прибавляя «пшеницы», «ячменя» или «проса»…
– А зачем же вы даете Игнату? Какой он бедняк? – послышался голос Мирона Орлова.
– Знаем, что середняк, – уверенно ответил Андрей. – Мы и середняку готовы помочь, раз он обещал побольше посеять!.. Власть ему сейчас поможет, а он ей после! Игнат, не стесняйся! Никакого подвоха тут у нас нет!
И опять тихо, и опять только и слышно, как Ванька называет фамилии, пуды, а Андрей добавляет к этому что-нибудь ободряющее:
– Возражений нет?.. Значит, после собрания смело подводой приезжайте получать…
Но вот поступило возражение.
– А почему это Кирею Евланову и Федору Евсееву нету от вас семенного вспомоществования? – спросил Матвей.
Филипп обратился к Андрею:
– Дядя, ты лучше знаешь почему, разъясни Матвею Кондратьевичу.
Андрей сказал:
– И Кирей и Федор Евсеев получили вспомоществование лично от Аполлона, получили его тайно: перевозили семена на салазках глухой ночью… Кадетский хлеб им больше по вкусу! Но мы можем поставить это дело на голосование.
Матвей, Обнизов и Мирон Орлов настаивали, что надо проголосовать. Но голосование не помогло ни Федору, ни Кирею. Послышались насмешливые замечания:
– Тоже телята – двух коров сосать захотели!
– А этому «что-сь другое», Федьке Евсееву, ни зернинки не давать, – кричал дед Никиташка, грозясь пальцем. – Он же не человек, а спорченная сбруя! На нем далеко не уедешь!
Наташка снова покраснела и, вздохнув, предложила Петьке уйти в хату и там закончить работу. В другое время Петька не согласился бы уходить с солнца, с вешнего простора в тусклую затхлость хаты, но сейчас он уступил снохе и даже слукавил:
– Вешний ветерок – он опасный, может продуть…
Через полчаса они закончили свою работу. Наташка уже собралась достать Петьке из погреба моченого терна, соленой капусты, огурцов, когда вдруг у общественного амбара стал нарастать скандальный шум. Женские голоса сначала заглушали мужские, но потом мужские, будто волной, откатили их в сторону и заставили вовсе смолкнуть.
– Не бери, Игнат, чужого хлеба! Не взойдет! – кричал Мирон.
– Игнат, не верь ему! Брешет он! Наш хлеб всегда всходил на его пашне, взойдет и этот на твоей! – убеждал Игната Филипп.
– Мавра, подумай и ты, прежде чем сеять!
– Думаешь, что черт попутает?.. А я покрестю лоб и посею! Уродится!
Когда Наташка с Петькой выскочили на крыльцо, а затем, пригнувшись, подбежали к плетню, бешеная ругань Хвиноя превзошла все, что до сих пор происходило на собрании. Все замолчали и следили за ним, а он, размахивая кулаком, выкрикивал:
– Порублю! На мелкие кусочки порублю!
– Не порубишь! А порубишь, что тогда будешь делать? Для другой работы у тебя не хватит ума! Без кырлыги тебе не обойтись! Крутил овцам хвосты и опять будешь крутить! – кричал Мирон, бледнея и шевеля усами.
– Ты не делай из меня затычку! То время отзвонило! Отбалабонило! Поглядим, кто из нас на что будет пригоден при советской жизни!
– Кум Хвиной, руби кырлыгу!.. Работа у тебя найдется другая! – поощряюще прокричал Андрей.
Хвиной, выбравшись на простор, на глазах у всех решительно зашагал ко двору. А уж то, что он делал около крыльца, – этого никто из находившихся у амбара не видели, зато хорошо видели Наташка и Петька, сидевшие на обрезке вербы…
Прежде всего Хвиной кинулся под сарай за топором, потом вынес из сенцев свою любимую кырлыгу, служившую ему пятнадцать долгих лет. Подойдя к дровосеке, он немного подумал и, быть может, раздумал бы, если бы от амбара не донеслось:
– Неумному помощь не будет впрок!
Это сказал о нем Обнизов.
Хвиной размахнулся и ударил по кырлыге, потом стал рубить все ожесточеннее. Мелкие обрубки, со свистом описывая полукруги, разлетались в разные стороны.
Наташка торжествовала.
– Так ее! Так ее… мать честная! Руби, Хвиной Павлович! Руби! – приговаривала она в такт топору.
– Батя, она же кленовая! – весело крикнул Петька.
Что-то злобно причитая себе под нос, Хвиной дорубил кырлыгу, потом забрал залатанные мешки и пошел к амбару за пшеницей. В сердитом молчании он перенес домой все пять мешков, с той же озабоченностью забрал со двора конопляные вожжи, взвалил на плечи отцовскую борону, обновленную двумя столбками, и понес все это к Андрею во двор. Проходя мимо общественного амбара, где остались лишь те, кому надо было получать хлеб, он сердито позвал Кирея:
– Пошли! И не строй жалостливую морду, все равно пшеницы не получишь! Пошли супрягу готовить к севу!
Почти до самого захода солнца Хвиной и Кирей работали вместе. За это время Кирею изрядно досталось от Хвиноя, все он придирался к нему: и ходит-то Кирей лениво, и поворачивается неуклюже, и бестолков, и нерадив…
– Хочешь, чтобы люди на охоту, а мы – собак кормить?.. Хочешь, чтобы над нашей сбруей кулачье потешалось? – пилил Хвиной.
И вот в половнике Андрея запашник, по-хозяйски вымытый и насухо вытертый, заблестел краской так, будто вчера только его привезли с торгового склада. Вдоль стены половника стояли в ряд ярма, на них лежали кнуты, налыгачи, вожжи. А вдоль другой стены бороны и зелененький плужок с усеченным отвалом.
Осматривая приготовленный к севу инвентарь, Хвиной и Кирей стояли спиной к открытой двери и не заметили, как зашел к ним дед Никиташка. С трудом свалив с узкой старой спины мешок пшеницы, которую он только что получил в общественном амбаре, дед старательно вытер лысину и весело сказал:
– Загляденье! Вам хоть на парад со своей сбруей! Накажи бог, можно! Разве что снузочки, ремешочки на ярмах чуточку подтянуть бы… Да я сейчас… – И, засучив рукава, дед Никиташка присел на корточки и принялся за дело. – Мне красная власть нынче здорово уважила… Сто раз и я ей уважу…
– А что, дед Никит Михалыч, если мы с Киреем твой мешок отнесем бабке Карпихе? Ничего супротив не скажешь? – спросил Хвиной.
– Ничего супротив не скажу, – усмехнулся Никиташка, – даже хорошо, если вы ей расскажете, кто это дал мне, за что, да как это получилось… На глазах у людей… давали… Может, она поймет, что я что-нибудь хорошее обозначаю собой… А мне она не верила и теперь не поверит… – И он засмеялся, комкая бороду и вытирая подслеповатые стариковские глаза.
* * *
У Аполлона все пока складывалось так, как он того хотел. Рыжих коней в Обрывном он благополучно сдал и вернулся домой через сутки, в полночь, на пегой лохмоногой кобылке, невзрачной, но крепкой и спорой на шаг. Потом наклеил на дверь в коридор листок бумаги с надписью, заготовленной еще в Обрывном: «Аполлон, ты оказался вредоносной гадюкой и взялся помогать краснюкам сеять хлеб. На первый раз мы обошлись с тобой не дюже строго, забрали твоих рыжих коней, а тебе оставили задрипанную кобылку… По Сеньке и шапка… Пока запалили только конюшню, а прослышим, что помогаешь коммунию строить, спалим все подворье, а самому тебе найдем подходящую сурчину».
Привязав пегую кобылку к крылечку, Аполлон поджег камышовую крышу каменной конюшни и уже через десять минут принялся кричать на весь хутор:
– Пожар! Люди добрые, пожар! Не дайте сгореть!
Ближние хуторяне проснулись, прибежали, легко отбили соседний сарай от огня. А днем они заглядывали к Аполлону во двор, чтобы своими глазами прочитать записку, наклеенную на двери, поглядеть «задрипанную кобылку», которая до самого полдня оставалась привязанной к крыльцу…
Аполлон, прикинувшись сильно расстроенным, слег в постель. От Петровны, выходившей поговорить с людьми, он получал хорошие известия.
– Кобылка, говорят, и в самом деле никчемушная. Аполлону, говорят, непривычно будет на такой гарцевать… Смеются, – рассказывала Петровна и сама осторожненько посмеивалась.
Аполлон совсем повеселел только тогда, когда Петровна принесла ему от крыльца самое интересное известие: приходил Ванька Хвиноев, прочитал записку, покачал головой, осмотрел пегую кобылку и, усмехнувшись, сказал:
– Сразу видно, что бандитская выходка. Они на это мастера. Хорошо, что больше нигде в хуторе не нашкодили…
– Знытца, клюнуло! – засмеялся Аполлон и весело сказал жене: – Подавай одежу! Теперь мне некогда разлеживаться…
Он быстро оделся и, зная, что во дворе есть чужие люди, нахмурился и решительно вышел на крыльцо. Отвязав пегую, сел в седло и под сдержанные насмешки соседей уехал в совет. Через два часа он вернулся с двумя бумажками – первая давала ему право выехать на поиски коней, а другая была описью этих коней.
Теперь все было предусмотрено, теперь Аполлон был легок, как настоящий казак. Пегой кобылке он задал корма побольше и посытней. По его непоседливой озабоченности Петровна догадалась, что он собрался ехать, и спросила его об этом.
– Думаю, Петровна, уехать завтра же. Эта весна, посевная весна, или вернет нам потерянное, или опрокинет нас под кручь прямо к чертовой бабушке. Почувствуем, что худо, забросим дедовско-отцовское гнездо и махнем в город искать рая небесного.
И он засмеялся собственным планам на жизнь, которые они составляли в хуторе Обрывном вместе с Гришкой Степановым и его двумя друзьями… Он все ей рассказал: в каком городе безопасно осесть, от кого там можно найти поддержку… Не рассказал только, о чем они, немного подвыпивши, разговаривали с Гришкой Степановым в минуты прощания. Уже ночью, стоя за хутором Обрывным, на степной дороге, раскисшей от талой воды, Аполлон с сожалением признался Гришке:
– Беда у нас, Гриша, в доме… Я не про пшеницу, какую отрыли в яме. Прошлого не вернешь… Я о Гашке… Здорово потянулась она к Фильке Бирюкову, а ведь в душе я соблюдал ее для тебя… Начал думать об этом в ту еще пору, как твоя Дашка померла… Ну да, как знать, может и выиграем… А не выиграем и успеем удрать благополучно, там породнишься с ней.
– Не опоздать бы породниться, – заметил Гришка.
– Это верно… Положиться на нее твердо нельзя, возьмет да удерет к Фильке, – согласился Аполлон и тут же обнял Гришку, попрощался и уехал.
И не случайно, перескочив с мысли о легком багаже, который Петровна должна приготовить на случай бегства, Аполлон с настойчивостью в голосе спросил жену:
– А Гашка, как она?.. Не будет с ней много возни?.. Не сгибнем из-за нее?..
– Не могу ничего твердого сказать про нее. Проснется – и бежит на супряжный двор к Ульяшке Лукиной… Туда перевела быков с упряжью, туда перетянула запашник и сеялку… Там и днюет. Меня никак не называет; ни я ей мама, ни я ей чужая тетка…
– Думаешь, что клятва не помогла? Думаешь, знытца, что опять ее может потянуть к красному?
Петровна не привыкла вздыхать и жаловаться, а тут вздохнула и через стол сказала мужу, торопливо жевавшему пирожки с картошкой:
– Чую, рушится наша семья… Если и не уйдет к нему, то и с нами не склеится.
– Ну-ну, будя тебе… «Не склеится»! А мы ее склеим! – заключил Аполлон и, похлопав Петровну по спине, спросил, давно ли она проверяла, как поживают «желтенькие»… «Желтенькими» он называл золотые деньги.
– Вчера. Лежат все сто пятериков.
– Половину возьми – схороним в землю, а остальные держи поблизости.
К вечеру у Аполлона нашелся новый повод для радости. Ветер переменил направление: теперь он тянул не с востока, а с северо-запада. Там появлялось все больше и больше толкающихся темно-серых, темно-желтых облаков. Сливаясь и раздаваясь в ширину и толщину, они сплошной грядой шли на хутор, и вечер пришел значительно раньше своего времени. На потемневшую землю хлопьями посыпался снег.
«Весна портится. Сев отодвинется. Нам можно лучше подготовиться к стычке. Больше хуторов успею объездить. Разбужу тех, кто не вовремя заснул. Нечего сидеть и ждать у моря погоды. Чертовы пеньки дубовые! Сами стары, так ведите лучших коней, готовьте в скрытых местах убежища, готовьте харчи, фураж… Разносите нужные вести дальше и шире! Вихрями полетят тогда по степи наши кавалеристы! Туда-сюда! Туда-сюда! И не дозволят сеять хлеб…»
Думая так, Аполлон чистил под сараем пегую. В азарте своих размышлений он, видимо, сильно нажимал на скребницу, потому что кобылка то и дело вскидывала голову, плотно прижимала уши и со свистом отмахивалась хвостом.
Утром попеременно шли снег и дождь. Накинув брезентовый плащ с капюшоном, Аполлон сел в седло и выехал прямо в степь.
* * *
Вчера вечером в школе прошло собрание бедняцко-середняцкого актива. Договорились завтра же, как поднимется туман и солнце обогреет землю, а ветерок подсушит дороги, выезжать супрягам на сев.
И вот сегодня с раннего утра хутор наполнился озабоченными людскими голосами. В тумане не разглядеть самих людей, но и по голосам легко догадаться, кому сегодня было особенно некогда, кого и что волновало в первую очередь.
Откуда-то издалека слышался громкий разговор Филиппа Бирюкова с дедом Никиташкой. Филипп спрашивал:
– В Ульянином дворе все в порядке?
– Она сама вон идет. Спроси ее! – отвечал дед Никиташка.
– Нечего спрашивать! И так своими спросами да расспросами голову продолбил, – сказала Ульяшка.
Хвиной, видимо, хорошо слышал этот разговор и, не видя из-за тумана Филиппа, кричал ему:
– Где ты там? О других печалишься, а в свою супрягу ни разу не заглянул… Неси колесную мазь! Из-за тебя в хвосте поплетемся!
Туман все ниже приникал к земле. Обнажились порозовевшие верхушки верб, садов. На взгорье стали видны крылья ветряков и крыши хуторских хат, над которыми тонкими, прозрачно-синими столбиками стояли дымки… Это были те особенные дымки, по каким легко догадаться, что у хозяек многое давно уже сварено и пожарено, что завтрак они готовы подать на стол в любую минуту. Неудивительно было в такое время услышать голос Андрея Зыкова:
– Ванька, иди и ты завтракать с отъезжающими в поле. Иди. Моя Федоровна затирки наварила на Маланьину свадьбу!
А через минуту голос его звучал уже тише и наставительней:
– Ты останешься в совете один. Ключи от общественного амбара возьми вот… Если кто придет из тех, что не успели получить зерно, отпустишь по списку…
…Время близилось к обеду. День давно уже распогодился, и ветерок, гуляя под вешним солнцем, точно жадными губами, вытягивал сырость из черных зяблевых пашен. По Зыковскому бугру, насколько видел глаз, в легких волнах белесо-голубого марева маячили воловьи упряжки, посевщики с мешками через плечо, медленно шагающие за волами погонычи…
Андрей и Филипп давно уже сбросили полушубки и размеренно шагали один за другим. Ступив на правую ногу, они опускали правые руки в подвешенные сбоку мешки, доставали зерно; ступив на левую, бросали зерна, стараясь как можно сильнее выворачивать ладони. И пшеница косым дождем ложилась на черную пашню. Сделав несколько концов, они присели около арбы отдохнуть.
Потянули бороны. Кирей и Петька управляли быками, а Хвиной шагал сторонкой и, часто оборачиваясь, присматривался, хорошо ли идет дело. И если на зубья какой-нибудь бороны нанизывались корни трав, он торопливо поднимал ее за угол, встряхивал и кнутовищем отбрасывал сорняк в сторону, чтобы не попал он под зубья бороны, идущей сзади. Работа у него была суетливая, но он успевал еще и кричать на грачей, слетавшихся поклевать рассеянные зерна.
Андрей, покуривая, наблюдал за кумом и рассказывал Филиппу:
– Всю жизнь любил я гульливую воду и весенние работы на поле. Кто его знает, почему?.. Вода бунтует в речке, как угорелая, а у меня на сердце одно веселое… Так и глядел бы на эту воду, на ее причуды всякие… А уж на севе – сеял бы и сеял…
Филипп понимающе улыбнулся и добавил:
– Немного отдохнул бы и опять сеял бы и сеял…
– А что думаешь?
– Думаю то же самое, что и ты, дядя Андрей!
Они сидели под арбой, на мешках пшеницы, сложенных на полсти. В десятке шагов стояла повозка. К кольцу, ввинченному в грядушку повозки, поводом недоуздка была привязана серая лошадь. Пофыркивая в торбу, она жевала своими сильными челюстями пряно пахнущий овес.
План у Филиппа с Андреем на сегодняшний день был такой: засеять две пашни, запрячь лошадь, проехать по супрягам – посмотреть, как они работают, и вернуться в совет… Пора бы уже вставать и приниматься за дело, но Андрей снова заговорил: