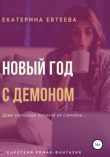Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
– Я, Петро, вижу и другое: у обоих у них автоматы. Если придется убегать, то они, сволочи, могут подстрелить.
Помолчав, старик спросил:
– Почему думаешь, что толстый непременно солдат Мокке? У всех фашистских начальников холуи жирные.
– У него вон и лицо как тыква. Я к нему хорошо присмотрелся. Когда Мокке входил в дом, он оставался на крыльце и сейчас же начинал переступать с ноги на ногу и спать то одним, то другим глазом. Вон, посмотрите, как он переступает. Видите? – настаивал на своем Петя.
– Да, переступает. Тогда, Петро, имеем право на девяносто пять процентов считать, что это машина Мокке.
– А почему не на сто?
– Из предосторожности.
Петя на минуту вспомнил о Коле и Диме. Он с ними расстался на окраине города. Какие-то незнакомые женщины встретили тачку, разобрали мешки и понесли в город. Коля и Дима повезли за ними почти опустевшую тачку, а Петя с Иваном Никитичем повернули сюда. С тех пор прошло около двух часов. С завистью Петя подумал, что друзья теперь дома – отдыхают и греются.
Петя давно уже чувствовал, как за воротник и под подошвы промокших сапог проникали холодные мурашки. Взбегая на спину, они мелкими искрами рассыпались по всему телу. Он усиленно сдерживался, чтобы не задрожать. Но через три-пять минут после того, как неуклюжий и толстый солдат, получив от другого какой-то сверток, ушел с ним опять во двор, Петя внезапно ощутил, как ноги его рвануло коротким и сильным рывком в разные стороны, а голова мелко-мелко затряслась, и он долго потом не мог справиться с приступом озноба, стыдливо ожидая, что старый плотник вот-вот спросит его: «Ты что, совсем замерз?»
Но странно – Иван Никитич не говорил ни слова. Дождавшись минуты, когда озноб стих, Петя обратил несмелый взор на старика и немало удивился, что тот уже спал, поддерживая маленький подбородок узловатой рукой, упиравшейся в колено.
– Иван Никитич, что же вы делаете? – с опасением и сочувствием спросил Петя.
Старик открыл глаза и усмехнулся:
– Хотел поспать, как солдат Мокке, то одним, то другим глазом, а они оба, как ставни, захлопнулись.
В тишину сада от стегачевского двора проникли звуки рояля. Иван Никитич, сердито прислушиваясь, долго не мог уловить их.
– Неужели и теперь не слышите? Это же мама сонату Баха играет полковнику. Он еще при мне заказывал ее маме. Опять не слышите?
Теперь уже и Иван Никитич услышал наконец густое звучание неторопливых аккордов.
– Почему думаешь, что Марья Федоровна играет то самое, что ей заказывал Мокке.
– Эту музыку я знаю.
Иван Никитич быстро встал, вскинул на плечи мешочек с пшеницей и велел Пете, как хозяину, вести его за собой. Следуя за Петей, старый плотник негромко говорил:
– Если потребуется про меня что-нибудь сказать им, то лучше не досказать, чем лишнее сболтнуть… Скажешь, что ты ни за что не донес бы мешок, если бы не помог этот старичок, он и сам, – укажешь на меня, – выбился из сил. А разыгрывать бессильного мне нынче очень просто. Еще спросят о чем, повтори им то же самое, только с другого конца. С выбившегося из сил, может, и спрашивать будут меньше.
Петя, шагая впереди, оглянулся и немало удивился той перемене, какая произошла с Иваном Никитичем за эту минуту: старый плотник под небольшой тяжестью так согнулся, так расслабленно ступал ногами и так много усталости выражало его сухонькое, распустившее мышцы лицо, что Петя невольно остановился, готовый спросить: «Иван Никитич, это вы?!»
– Что, как баран, уставился? Иди! Вон один нас уже заметил! – почти крикливо проговорил старик, и Петя, увидевший в эти мгновения его пепельно-серые опасные глаза, наполненные горячей силой, смелее пошел к дому, ничуть не сомневаясь, что за ним следует самый настоящий плотник Опенкин.
Высокий щеголеватый солдат, вылезший из машины, поправил пилотку, сидевшую сбоку его рыжего чуба, достал из футляра бинокль и уверенно навел его на Петю и Ивана Никитича.
– Иозеф! – крикнул щеголеватый солдат. – Иозеф Монд! – снова позвал он, а когда из калитки вышел Монд с автоматом, висевшим на шее, он отнял бинокль и спросил его: – Ты, Иозеф, не скажешь, почему эта парочка идет прямо сюда? Может, они решили вместе с полковником послушать музыку?
Петя видел, что ноги Монда стали переступать чаще и нетерпеливей.
– Хальт! Стоп! – крикнул он.
– Мне можно! Я живу в этом доме! Я сын этой женщины, что играет на рояле! – подыскивая немецкие слова, сбиваясь в произношении и стараясь ненайденные слова нарисовать руками в воздухе, громко объяснял Петя, ускоряя свой шаг.
– Стоп! – громче выкрикнул солдат, и лицо его стало почти багровым.
* * *
С утра к полковнику Мокке зашел капитан Штреземан доложить о том, что произошло минувшей ночью на береговых постах, расставленных к востоку от Города-на-Мысу.
По словам капитана Штреземана, ночь прошла вполне благополучно. Только перед рассветом из камышей вышел пожилой русский. Это произошло на семнадцатом посту. При свете ракет его неосторожно обстреляли.
Мокке улыбнулся, поняв, что русского убили.
– Убитого надо было подтащить поближе к дотам, но я разрешил это не делать. Зачем мертвому русскому портить настроение нашим солдатам.
– Согласен, – сказал Мокке, и они оба немного посмеялись.
– Вы еще больше будете смеяться, когда узнаете, что мертвый сбежал от нас.
Но Мокке не стал смеяться.
– Ясно, что убитого украли русские. Он что-то, видно, нес с той стороны фронта. Очень досадно, что вы его не обыскали как следует. Теперь партизаны за нас это сделают.
Мокке лежал в постели, облокотившись о подушку в хорошей наволочке с вышитыми на ней березовыми листьями. Шелковое стеганое одеяло накрывало его до пояса.
Штреземан сидел в старинном кожаном кресле и, откинув назад голову с изжелта-светлыми волосами, осматривал лепку высокого потолка. Откуда-то из-за стены пустой соседней комнаты, которую тоже занимал Мокке, доносился едва уловимый стук передвигаемой мебели, и больше ничто не нарушало тишины: так осторожно и робко жили теперь владельцы квартиры – семья старого врача Зубова, сбившаяся в третью, тесную комнату.
После длительного раздумья полковник суховато заметил:
– Берег длинный. Охрана расставлена редко. Пополнения мне не дают… Русские проникают сюда. Ночью, конечно…
Будто убеждая прежде всего самого себя, а потом полковника, Штреземан сказал:
– Все равно доносить об этом случае штабу командования группой нет никакого смысла; ведь даже по следам нельзя искать тех, кто утащил русского покойника, – следы сначала размыл дождь, а потом их накрыло снегом. Смысла нет доносить, а неприятности тогда обязательно будут и у меня и у вас.
Перестав интересоваться лепкой на потолке, капитан Штреземан взглянул на полковника и, не поняв по его лицу, скроет ли его начальник от командования ночное происшествие, решил подействовать на него с другой стороны.
– В доте, господин полковник, совсем иная обстановка, – усмехнулся он. Но тут же, будто подытоживая невысказанные, но и без того понятные полковнику мысли, Штреземан настойчиво проговорил: – Нет, нет, я не мог не уступить просьбе обер-лейтенанта семнадцатого поста. Вы его знаете: он человек не из трусливых, но он просил меня, чтобы мертвый остался лежать подальше от дота… Не будем больше говорить об этом. Вы сделаете так, как найдете нужным… Да, между прочим, сегодня утром я о вас немного позаботился.
– Как это получилось? – чуть удивленно спросил Мокке.
Прежде чем ответить на вопрос полковника, капитан Штреземан несколько секунд оглаживал свои мягкие, в меру обветренные щеки и не в силах был погасить улыбки, глубоко запрятавшейся в его светло-синих глазах.
– А, да что там говорить, – всякий германский офицер с настоящим вкусом непременно остановился бы на таком объекте, как фрау Стегачева!
Штреземан вскочил с кресла и с закинутыми за спину руками стал ходить взад и вперед по комнате.
– Ты, Вальтер, верь моему вкусу, моему слову, – говорил он. – Мне вкус прививали, как ни говори, в семье прусских баронов. Я, ты знаешь, этим не горжусь, а все-таки… Правда, Стегачева несколько полновата. Ты не находишь этого?
Штреземан иногда переходил на «ты» со своим начальником и чаще в тех случаях, когда разговор касался узколичной жизни того или другого из них.
Мокке приятно было, что дружеский разговор с капитаном как-то сближал его с прусской знатью.
– Что же ты такое сделал для фрау Стегачевой? – спросил полковник.
И Штреземан рассказал, что он запретил посыпать обрезками жести вокруг двора Стегачевых.
– Благодарю, – улыбнулся Мокке и, чтобы отвести разговор в сторону, сказал: – Обрезкам жести я придавал только одно значение: всего склона к заливу и к морю минировать нельзя, потому что самим приходится ходить там, а солдатам даже бегать, да еще ночью, – обрезки жести будут звенеть под ногами русских. Береговая охрана будет слышать, будет пускать в дело ракеты и автоматы… А вот командование иначе смотрит на обрезки жести. В штабе говорят, что русским надо позволить существовать, иначе мы лишимся базы, рабочих рук… Среди голодных русских, особенно в городах, вспыхнут эпидемии, и мы сами можем стать жертвой их.
– Я не пойму, при чем здесь обрезки жести? – спросил Штреземан.
– А вот при чем. Чтобы дать возможность русским существовать, надо им разрешить передвижение из городов в села и обратно, надо рыбакам разрешить плавать, но это можно сделать только тогда, когда будут уничтожены партизаны. Командование обязывает нас ловить партизан живыми. У пойманных в гестапо найдут способ узнать, где находятся партизанские гнезда.
– Мы же одного послали им, – заметил Штреземан.
Говорят, что мы прислали подорвавшегося на мине. Гестаповцы ничего не могли у него выпытать. Сам Вунд, гестаповский полковник, сказал, что тот русский, какого мы им прислали, собирался и без того уходить на небо, ему нечем было рисковать, и он ни в чем не признался. Присылайте, говорит, товар неиспорченный.
– Это тот Вунд, что из Мюнхена, с лошадиной челюстью? – спросил капитан.
– Именно тот. Волевой субъект, – покачал головой Мокке. – Требует неиспорченных, а от нас и мертвые русские научились убегать.
И они оба опять посмеялись.
– Конечно, русских партизан легче убивать, чем ловить «в неиспорченном виде», но придется это делать, придется возлагать надежды на звенящие обрезки жести, на резвость наших солдат, – сказал полковник.
Штреземан догадался, что о пропавшем мертвом полковник никому в штабе не скажет, догадался также, что последние слова Мокке были для него приказом на будущее. Непринужденно выпрямившись и обращаясь к Мокке уже как к своему начальнику, капитан сказал:
– Я вас понял. Пойду отдыхать.
Мокке еще с полчаса лежал в удобной постели. Наверное, удобство постели, короткий интимный разговор со Штреземаном толкали его сегодня на размышления о послевоенной личной жизни. Война, по мнению полковника, была уже выиграна. Скоро командирам национальной германской армии предоставится выбор служебных мест, высоких положений. По неуловимой связи он вспомнил о Стегачевой и решил с утра же съездить к ней.
* * *
Петя не знал, что полковник Мокке запретил Йозефу Монду впускать кого бы то ни было в дом Стегачевых. Не знал он, что ему, мокрому и измученному, положено стоять во дворе, куда его вместе с Иваном Никитичем загнал Монд, стоять около забора столько, сколько это нужно будет полковнику Мокке. Петя, возмущаясь, стал угрожать солдату:
– Ты не имеешь права задерживать нас! Ты не притворяйся, что не знаешь меня!
Подавая вперед приподнятое плечо и намереваясь смело обойти солдата, Петя сделал шаг к порогу дома, но Монд, ухватив его за воротник пальто, дернул назад и долго внушал, что он, Петя, должен понимать, с кем разговаривает, и должен стоять, где указано. При этом выбритое и красное лицо солдата с каждым словом становилось напряженней, хотя он все время говорил подчеркнуто тихо и медленно.
– Я вот крикну! Мама и твой полковник услышат, и тебе знаешь что будет?!
Негодуя, горько обижаясь на свое положение, Петя наполовину перезабыл немецкий язык, но Монд понял, что хочет сказать сын фрау и по отдельным немецким словам, а больше по побледневшему и озлобленному лицу, по черным глазам, засветившимся гневом.
– Надо понимать, с кем разговариваешь, – важно повторил Монд и хотел уже уйти от забора к крыльцу флигеля, но тут Петя, надеясь на то, что мать наконец услышит его голос, закричал на Монда:
– Ты должен сказать, кого ты не пускаешь!
А Монд как раз больше всего боялся, что голос Пети может быть услышан матерью, и он толстой ладонью шлепнул Петю по лицу.
Немецкие фашисты в Мартыновке били Петю куда больней и больше, но тогда чувство ответственности за порученное ему дело подавляло боль и кипевшую в нем обиду. Тогда он сознательно шел по трудной дороге, был готов все это перенести. Теперь же он вместе с Иваном Никитичем хотел войти в свой дом, встретиться с матерью, поесть и отдохнуть. Для этого ему оставалось сделать лишь несколько шагов по своему двору и переступить порог родного дома… И именно в это время он получил пощечину от фашиста!
Иван Никитич, стоя за спиной Пети, из-под приспущенной на глаза треушки наблюдал за ним. Заметив, что плечи мальчика вздрогнули, как крылья, а шея покрылась красными пятнами и неестественно вытянулась, старик опасливо схватил Петю за руку чуть выше кисти.
– Успокойся, Петро. Военному надо подчиниться, – почти ласково заговорил Иван Никитич, почтительно кланяясь Йозефу Монду, а тем временем его сухонькие пальцы с силой вдавились в руку Пети. Петя понял, что старик готов разорвать его на куски, если он не сдержит гнев.
– Вот слушай, что тебе говорит старший, – с укором сказал Монд и пошел к крыльцу.
– Петро, – зашептал старый плотник, – ты можешь погубить себя, мать… навредить делу…
И старый плотник, сильнее сдавливая руку Пети, продолжал горячо шептать:
– Сдержи гнев. Пусть он в тебе, как огонь в горне, останется. Он нам еще пригодится… Мать выйдет на крыльцо, надо встретить ее весело…
Глубоко вздохнув, Петя сказал:
– Теперь отпустите руку: я уже знаю, что сказать маме, если она выйдет.
Иван Никитич медленно разжал свои скрюченные пальцы. Петя глубже натянул на голову мокрую треушку. И опять для него и для старого плотника потянулись минуты молчаливого испытания. Ивану Никитичу легче было переносить их не только потому, что у него с годами накопилось больше выдержки, но и потому, что он не понимал, о чем все время переговаривались шофер с Мондом.
– Иозеф, как ты думаешь, эта музыка скоро кончится?.. Конечно, полковнику там веселее, чем нам с тобой: он слушает и смотрит на фрау, – говорил шофер через открытую калитку.
И Монд охотно отвечал ему с крыльца:
– Он на побережье самый старший.
Шофер, появившись в самой калитке, снова заговорил, кивнув на Петю и на Ивана Никитича:
– А эти – зачем они шли к фрау Стегачевой?
– Старого я не знаю. Молодой – сын фрау… Подождут на воздухе, им не к спеху.
Петя утешал себя только тем, что соната скоро кончится, и она шла к концу: аккорды становились спокойней и легче; неторопливые трели все чаще врывались в плавный, сосредоточенный музыкальный рассказ.
У Пети даже хватило терпения и выдержки, чтобы утешить стоявшего позади Ивана Никитича:
– Осталось немного – через две-три минуты мама закончит игру.
Рассказав напоследок о чем-то сурово-ясном, будто подытоживающем пройденную дорогу, рояль неожиданно замолчал.
Мокке все еще не выходил. Из флигеля иногда доносились его слова. Чуткое ухо Пети улавливало, что полковник сейчас благодарил мать за внимание к нему. Он и сам обещал быть внимательным к ней.
– В вашем положении мое внимание для вас очень полезно! – сказал он.
Потом его голос послышался в коридоре. Петя видел, как Монд, придерживая висевший на животе автомат, медленно спустился с крыльца, и на крыльце сейчас же появились Мокке и мать.
Полковник продолжал говорить:
– О вашем муже я не нашел удобным вас расспрашивать. Знаю, что он должен быть по ту сторону фронта. Наивно верить, что он вернется домой. Но если даже останется жив, при новом порядке он не сумеет позаботиться о вас так, как вы этого заслуживаете…
Мокке стоял спиной к Пете и Ивану Никитичу и, поднимаясь на носки начищенных сапог, чтобы удлинить свой рост, очень пристально рассматривал Марию Федоровну.
– Посмотрим, посмотрим, господин Мокке, что потом будет. Мне не хочется решать сейчас такие большие вопросы…
Петя видел, что мать, разговаривая, все время немного отворачивалась от полковника вправо, а они с Иваном Никитичем стояли влево от крыльца, и поэтому она их не замечала. Мать была в темно-вишневом просторном платье, в том платье, в каком она любила ходить в театр и на концерты. Правая щека ее была такой же вишневой, как и платье. Мать чуть вздрогнула и настороженно распрямилась, когда Мокке поцеловал ей руку.
– Иван Никитич, давайте скорей назад, за угол дома. Скорей, пока она нас не увидела! – встревоженно прошептал Петя, схватил старого плотника за рукав и потащил его за собой. – Скорей, чтобы они нас не заметили!
Мокке продолжал пожимать руку Марии Федоровны. Иозеф Монд, наученный полковником несуетливому, вежливому поведению, стоял и глядел перед собой. Шофер, сметая веником снег с кузова машины, успевал украдкой взглянуть на то, что происходило на крыльце… Некому было поинтересоваться, куда же вдруг пропали эти двое русских – щуплый старик с мешочком и сын фрау Стегачевой?.. Никому не пришло в голову спросить, что заставило этих русских внезапно покинуть то место у забора, которое им было отведено.
А Петя и старый плотник уже две долгие минуты стояли за углом дома. Они не разговаривали и не смотрели друг на друга, а только прислушивались. Первое и очень важное, что они услышали в напряженном молчании, – это шаги полковника. Жестко просчитав подошвами четыре ступеньки крыльца, он уже от калитки сказал по-русски, видно, специально заготовленную фразу:
– Я вас не забуду, заеду точно.
– Как вам будет угодно, – ответила Мария Федоровна.
Затем Петя и Иван Никитич услышали, как захлопнулась сначала калитка, потом дверца машины и застучал заведенный мотор и тут же стук его стал быстро удаляться. Когда он затих где-то за окраиной сада, Иван Никитич негромко сказал:
– Мария Федоровна уже вошла в дом. Иди и ты…
– А вы? – с беспокойным удивлением спросил Петя.
– Я осмотрюсь и зайду.
После торопливого ухода Пети Иван Никитич недолго осматривался. Пойти вслед за Петей его заставил плачущий голос Марии Федоровны и тут же наступившая тишина.
Не стало ли ей плохо?!
Старый плотник привычно вскинул мешочек на худые плечи и заспешил во флигель. Переступив порог комнаты, он увидел Марию Федоровну: она стояла около стола, левой рукой обнимая сына, а правой вытирая слезы.
– Вы были мне так нужны! Так нужны! И ты, и отец… – говорила она сыну, но, увидя вошедшего с мешком на плече старого плотника, она, улыбаясь сквозь слезы и протягивая ему руки, сказала: – И вы, и вы, Иван Никитич, так мне были нужны! Да скорей снимайте мешок.
Затем она начала опять плакать:
– Я даже не могу сказать, почему еще две минуты назад мне так страшно было без вас!
И тогда Петя, успокаивая мать, с лаской в голосе сказал:
– Мама, нас фашист поставил около забора и дальше не пустил. Он нас толкал, но мы с Иваном Никитичем сдержались, потому что надо… Успокойся.
* * *
Ночью прошел дождь. От первого снега не осталось и следа. Красный приазовский суглинок раскис. Даже там, где почву густо переплели корни сухой травы, ноги вязли, размокшая обувь становилась тяжелой и скользкой. Над заливом медленно тянулись облака, снизу желтые, а сверху темные, будто заметенные угольной пылью.
Город-на-Мысу тонул в сыром тумане. Даже хорошее настроение могло испортиться от такой погоды, но у Марии Федоровны с возвращением Пети и с приходом Ивана Никитича на сердце стало веселей, легче дышалось. С удивлением она окинула взглядом давно не прибранные комнаты и озабоченно стала наводить порядок.
Прежде всего Мария Федоровна вспомнила, что уже несколько дней назад решила сложить в диван лучшую одежду Павла Васильевича.
«Когда теперь потребуется ему вот это драповое, в елочку, пальто? Или этот черный костюм? В нем он ездил в Ростов, на открытие выставки».
Думая о муже, Мария Федоровна вспоминала все то новое, что рассказал о нем Петя. Она уже все знала наизусть, но желание говорить о муже не уменьшалось.
Иван Никитич, меся сапогами грязь, выкапывал во дворе остатки картошки, а Петя ведром переносил ее на кухню и дальше через ляду в погреб.
Заслышав шаги Пети в коридоре, Мария Федоровна звала его из гостиной:
– Петя, Петька, родной… Зайди на секунду! Что-то спрошу…
– Ну, что ты еще? У меня же сапоги в грязи! – приоткрыв дверь, отвечал сын.
– Ничего, я ведь все равно генеральную поломойку буду делать.
– Если не можешь подождать, то сама подойди сюда.
И мать подбегала к порогу. В руке у нее оказывались или фетровая шляпа отца или кашне.
– Ты не сердись, ведь женщины любознательны… Скажи, а тепло он одет?.. Скажи, а и в самом деле он меня пожалел? – с покрасневшими щеками, чуть прищурив черные, светящиеся смущением глаза, спрашивала сына Мария Федоровна.
Петя снова повторял уже рассказанное.
– Петька, отец у нас немножко грубоват, но по-своему интересен. И даже очень интересен… Ну, а как он нарисовал Гитлера, еще буду спрашивать. Не открутишься.
– Только, мама, не сейчас, а то Иван Никитич ждет, – уходя, говорил Петя.
Непоседливому старому плотнику легко было найти работу во дворе Стегачевых. Он то укреплял стояки в заборе, то подшивал обвисшие доски, то стачивал узловатую веревку на вороте у колодца.
Мария Федоровна старалась вовремя накормить его, но старик большей частью отказывался от угощения. Пете, всюду следовавшему за ним, Иван Никитич с веселой усмешкой говорил:
– Мы же вчера вечером почти все дары германского полковника помаленьку съели. Правда, продукты эти наши: селедка азовская, икра тоже азовская… Ну что о них плохого скажешь? Вкусные продукты! – смеялся старый плотник.
Мария Федоровна намочила белье, надеясь, что завтра или послезавтра должно же распогодиться. Но на следующее утро пал такой густой туман, что у Стегачевых даже не заметили, какими путями к ним пришел полицай. Он был высокий, курчавый, в черном драповом пальто. Прочно усевшись за письменный столик Пети, он закурил и начал задавать вопросы: кто живет здесь, чем занимаетесь, есть ли коммунисты, кто у красных?
Мария Федоровна терпеливо отвечала, вытирая мокрые, облепленные белой пеной руки. Петя стоял рядом с матерью.
Старый плотник, в одну минуту непостижимо постаревший, сгорбленный, с повисшей головой, молчал, сидя у порога. Он нашел сапожную лапку и все надевал на нее и снимал с нее свой грязный сапог.
Полицай захотел осмотреть и другие комнаты. Осматривая их, он сказал:
– Мадам Стегачева, стулья, какие получше, мы у вас заберем в кабинет старосты. Заберем и диван… Ну, а рояль отправим береговому германскому начальству. Полковник Мокке большой любитель музыки.
– Зачем вы мне говорите, куда денутся наши стулья и рояль?.. Ведь все равно у нас их не станет? – просто спросила Мария Федоровна.
– Чтобы знали, что вас не грабят. Чтобы знали, что теперь единственная и прочная власть здесь германская.
Взяв два-три аккорда, полицаи заметил:
– Инструмент лучший из беккеровских. Полковнику обязательно понравится.
– Да, он уже говорил, что рояль ему нравится. Он заходит к нам, и я играю ему. Полковник Мокке вот даже фотографию подарил, – глазами указала Мария Федоровна и, будто не обращая внимания на озадаченного полицая, вытянувшего шею и начавшего правой ногой легонько подрыгивать, продолжала: – А, пожалуй будет хорошо, если заберете рояль. Полковник перестанет сюда ходить, и мне, семейной женщине, станет легче. Вы его сегодня заберете?
– Мадам, вышло недоразумение, мы рояль не возьмем. Мы ничего отсюда не возьмем, – проговорил полицай, у которого пятнами покраснело чисто выбритое лицо, а пронзительные глаза, тускнея, заулыбались. – Полковник Мокке лучше знает, где стоять этому роялю. А нам лучше бы договориться, что я к вам никогда не приходил… Сам больше не буду вас беспокоить и помощникам велю не заходить сюда… Договорились?
Полицай протянул руку. Мария Федоровна, не будучи подготовленной к такому обороту дела, покраснела. Она не знала, как ей быть.
Иван Никитич, недавно названный здесь дядюшкой с материнской стороны, подошел к Стегачевой, со старческим добродушием попросил:
– Племянница, возьми его руку, подобру оно будет лучше.
Выпроваживая любезно улыбающегося полицая, старый плотник говорил ему:
– Стоит ли заводить ссору между своими да еще в такое время?
Полицай ушел, а у Стегачевых оживленно и долго разговаривали о нем.
– Будто уж обязательно надо было жать ему руку? – спрашивала плотника Мария Федоровна. – Вы захотели быть с ним уж очень вежливым.
Петя, сообразив наконец, почему Иван Никитич возился у порога с сапогом, который не нуждался в ремонте, покачал головой и, усмехнувшись, сказал:
– Иван Никитич вон для вежливого разговора сапожную лапку приготовил.
– Неужели? – тихо спросила Мария Федоровна.
– Так ведь это, если бы он дозволенную границу перешел, – уклончиво ответил старый плотник.
– А он не перешел. Как мотоциклист с фотоаппаратом, что в Яблоневой котловине… – заметил Петя, и они обменялись с Иваном Никитичем понимающими взглядами.
К половине дня туман поднялся. Стало видно, откуда дымный чад приходил во двор и частично проникал в комнаты. На Сортировочной станции бушевал пожар. Столбы дыма стояли и над городом.
Иван Никитич и Петя вдруг стали беспокойными. Казалось, что им трудно было отыскать во дворе такое место, где можно было бы поговорить по душам. Подходя к окну, Мария Федоровна видела их то около колодезного сруба, то около молодых голых кленов (недалеко от сарая), то в самом дальнем углу двора, приникшими к узким щелям в заборе.
– Туман, Петро, нашим на руку, – вырвалось из глубины сердца у старого плотника, когда он заметил пожар.
– Хороший туман, – сказал Петя.
Мария Федоровна поняла, что Иван Никитич и сын были уверены, что подожгли Сортировочную наши. Она видела, как томились старый плотник и Петя, не знавшие, что с теми, кто поджег.
«Вон Петя заглядывает старику в глаза, а тот смотрит в землю. Нет, они скоро вырвутся отсюда. Хоть и обещали быть со мной, а уйдут», – подумала Мария Федоровна и решила большой стирки пока не делать, постирать только для Пети и Ивана Никитича, а потом отремонтировать кое-что из сыновней одежды.
«Воротник у пальто отпоролся. Пуговицы наполовину растеряны. Брюки на коленях совсем ненадежные», – вспоминала она, выполаскивая белье своими маленькими руками, для которых стирка была трудным и непривычным делом.
…Они ушли оба сразу. Это случилось на третью ночь. Мария Федоровна помнит, что ее разбудил дробный, беспокойный, но осторожный стук в окно. Она спала в гостиной на диване, а Петя и Иван Никитич в Петиной комнате, прямо на полу… Она хорошо помнит, что, очнувшись, немного полежала, чтобы уяснить себе – в самом ли деле стучали или это ей только приснилось?.. Стук больше не повторился. В комнатке, где спали Иван Никитич и Петя, горел ночничок. Там была какая-то суета, шепот. Помимо голосов Ивана Никитича и Пети, Мария Федоровна уловила еще незнакомый женский голос и сочла нужным, прежде чем выйти, хоть наспех привести в порядок волосы. Когда она вошла туда, Ивана Никитича и Пети там уже не было. Невысокая женщина лет двадцати семи, с миловидным лицом, со строгим выражением в живых светло-карих глазах, вернувшись со двора, запросто, с облегчением сказала:
– Проводила. Хоть бы успели до полуночи дать знать нашим… Чалый, Чалый собрался завтра утром объявиться ихнему начальству. До утра надо успеть схватить предателя, иначе он многих погубит, – говорила она, развязывая серый козий платок, снимая короткий ватный жакет и стаскивая сапоги.
Мария Федоровна, озадаченно присев, не спрашивала эту молодую русую женщину, кто такой Чалый, куда ушли Петя и Иван Никитич… С каждой минутой она делалась все задумчивей. Пришедшая, женщина по ее лицу угадала, что она ждет ребенка.
– И второй у вас будет мальчик? – спросила она, доверчиво положив руку на плечо Марии Федоровне. – И такой, как этот?..
– Нет, такого мне не надо… Как вас звать-то?.. А то неудобно.
– Пелагея, Поля.
– Поля, так вот, другого такого мне не надо.
Стегачева обняла свою новую знакомую и заплакала у нее на груди.
– Не пойму, чем плох ваш сын? Я его знаю, хороший он парень, – говорила Поля.
– Какой он хороший, если не надел чистые шерстяные чулки, не переменил белье, а ведь все у него еще с вечера лежало на стуле.
– Он выправится, выправится, – успокаивала ее Поля, а успокоив, объявила: – Строго приказали мне переселить вас в город. Тут оставаться больше нельзя. Давайте увяжем самое необходимое, а потом и другое. Если к утру придет тачка – заберем побольше, а нет – отправимся налегке.
И, засучив рукава, Поля с чисто хозяйской свободой в движениях открыла шифоньер и сказала:
– Расстилайте, Мария Федоровна, простыню, и начнем укладывать.
– Начнем, – вздохнула Стегачева и подошла к старинному комоду, где было сложено постельное белье.
…Текли часы глухой ночи. По закрытым ставням и по железной крыше флигеля стучал мелкий дождь. Порывистый ветер на секунды отгонял его в сторону. Становился ясно слышен прибой изможденного непогодой моря. Прорывалась недружная автоматная стрельба – береговая охрана фашистов, боясь заснуть, будоражила темноту… А в комнате мигала маленькая керосиновая лампа, для большей предосторожности поставленная на пол.
– Мой Павел Васильевич все лишнее в доме называл цепями и всегда легок был на подъем… Сын в него… И что я еще заметила: самый легкий из них – Иван Никитич. Не зря Петька души в нем не чает. Чистосердечно признаюсь тебе, Поля: я похожа на старую гусыню, – трудно мне в полет.
– Ничего, будет не будет подмога – утром все равно улетим. Доставлю вас живую и здоровую. Только не волнуйтесь.
Заскрипела ставня. Гулко заходил по крыше ветер, но он, верно, не справился с напором осенних туч: дождь не отступил и застучал настойчивей, громче.
* * *
Поговорка «в такую погоду хозяин и собаку не выгонит из дому» с приходом фашистов потеряла свой смысл. Если Мария Федоровна в такое ненастье собиралась покинуть дом и искать приюта в чужой квартире, то для Ивана Никитича и для Пети эта неприветливая ночь прошла в походах и волнениях. Они успели побывать в Мартыновке и переселить Дрынкина в город. Уже перед зарей они долго плутали по городским дворам, их вел к себе старый железнодорожник. Через единственное маленькое окно, затянутое густой решеткой, с пятого этажа им удалось увидеть Чалого. В компании с фашистами он стоял в ярко освещенном вестибюле комендатуры, угощался папиросами и был испуганно весел. Он все теребил полушубок на груди и, опаздывая вовремя засмеяться, потом смеялся широко и неестественно, запрокидывая преждевременно полысевшую голову. Иван Никитич сказал тогда сутуловатому старику железнодорожнику: