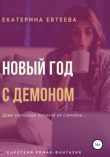Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
– Обязательно скажу! – ответил старик.
Через полчаса пещеру покинул и Ваня, а последними из нее вышли Василий Александрович и Петя. Когда они закрывали и маскировали вход, во влажной темноте осенней глубокой полночи послышался чуть внятный жужжащий рокот самолетов. Он доносился с востока и мгновениями, под напором западного ветра, обрывался, чтобы снова возникнуть ближе и ясней.
– Петя, а ведь это доносится оттуда, где вон те облака!.. Вон они – разорвались, клубятся… Видишь, там звездочки моргают?.. Слышишь, там жужжат?..
Сдерживаемое волнение Василия Александровича передавалось Пете.
– Там же Мартыновка. Может, над вербовой рощей кружатся? – успел проговорить Петя, и вдруг осветительные бомбы люстрами повисли в небе, белым пламенем обожгли края облаков, обнажив и стремительно приблизив к Василию Александровичу и к Пете и мартыновские хаты, и в стороне лежащую криничную балку, и за балкой, в низине, вербовую рощу, и белобокие холмы речного прибрежья.
Вслед за тем раздался такой грохочущий треск, что Пете представилось: земля рвется на клочья и под Мартыновкой и далеко вокруг нее.
– Там же наши! Их убьют! – хватая командира за руку, взмолился Петя.
Командир крепко обнял его.
– Головой ручаюсь, что нет! Вербовая роща в стороне и в низине! В низине роща!.. Нет, ты уж, пожалуйста, не мешай нашим летчикам ссыпать бомбы на головы захватчиков и на их технику… Ведь ради этого и ты немало перенес!..
И они стояли и смотрели, как вербовую рощу обхватывали изгибы молний, как над ней вскипали клубы темного дыма. Они слушали, как земля ухала, гудела и дрожала, словно зыбкий мост над страшной пропастью. С Бочковатого кургана им видно было, что по самолетам начали бить фашистские пушки из Города-на-Мысу. Но они опоздали.
Когда в вербовой роще все стихло, Василий Александрович, поцеловав Петю, вручил ему коробочку чуть больше спичечной и стал подробно объяснять, куда ее отнести, когда и в чем быть осторожным.
Потом они долго шли вместе. Начало рассветать. Вдали смутно стал вырисовываться серый грейдер, что вел в Город-на-Мысу. Перед ними внезапно легла лощина с кустарниками сибирька. Кто-то протяжно, еле слышно просвистел.
– Вот и развилка. Теперь мы с тобой не знаем друг друга. Ты шагай направо, а я пойду, куда мне надо.
И они расстались, не ведая, когда и где встретятся вновь.
* * *
Было позднее осеннее утро. Ветер, покружившись, стал тянуть не с моря, а с северо-запада. Небо потускнело. Низким, сплошным заслоном повисли над степью мутно-серые, неподвижные облака. Срывались одинокие снежинки и, кружась, неохотно опускались на землю, бесследно исчезая в почерневшем жнивье.
Впереди, сзади, рядом с Петей шли люди. Они несли за плечами сумки, мешочки, а в руках чайники, ведра, чемоданчики.
Люди были унылы, как обезлюдевшая степь, как вон тот тракторный стан, от которого остались лишь снятый с колес трактор, покоробленные железные бочки из-под горючего дм полуразваленная печка из кирпича… И удивительно, как быстро на месте стана выросли высокий бурьян и донник. Из этих сорняков торчит одичалый тракторный вагончик и кажется очень приплюснутым и постаревшим.
Люди унылы, как развороченный железнодорожный мост через крутую балку, как разоренные колхозные гумна, от которых доносит горечью сожженного хлеба и соломы. Люди унылы, как уныл свинцово-серый день – предвестник голодной зимы, лишений, которые не прекратятся до тех пор, пока фашисты не будут изгнаны, пока их машины будут сновать по грейдеру, пока их пушки будут бить, как они бьют сейчас где-то за Зареновкой.
Но у Пети есть повод к большой скрытой радости. На коротких привалах люди, – и те, что возвращаются в город, и те, что идут из города в села, – обмениваются новостями. Больше всего разговаривают о бомбардировке мартыновской рощи.
Вот кучка людей собралась на дне крутобокой лощинки, где не так ветрено. Тихо разговаривают, поглядывая в сторону грейдера, забитого быстро движущимися фашистскими машинами.
– Они нынче очень сердиты. За Мартыновкой ночью здорово их бомбили. Грохотало так, что земля приплясывала, – рассказывала пожилая женщина, туго повязанная серым шерстяным платком. Под ременным широким поясом ее, обтягивающим мужскую спецовку, засунут порожний мешок. В ее ведерке нет еще ни пшена, ни луку. Там у нее чашки, тарелки, вилки, ножи, которые она в селе обменяет на хлеб.
– Вы уже близко к городу. Сворачивайте с главного въезда. Идите в боковые. Лучше не попадаться на глаза фашистским офицерам, – сказал широкоспинный старик и, пряча неуловимую усмешку в подстриженных сивых усах, продолжал: – Видать, и в самом деле в Мартыновке здорово разворотили их улей…
– Значит, разведка хорошо поработала, – заметил старику Петин попутчик, с которым они лежали рядом на бурой и жесткой траве.
Петя слушал и старался подавить радость.
Петиного попутчика звали Антоном Григорьевичем. За два часа совместной дороги Петя только и всего узнал о нем, что он любит разведчиков, что родился в рыбацкой семье. Левая рука у него выше кисти изуродована. Одной правой, костистой и широкой, он играючи перебрасывал с плеча на плечо свою сумку с грузом… И этот мужественный широкоскулый человек говорил сивоусому старику:
– Такой разведке, старик, в аттестат надо поставить пятерку. И, может, этот разведчик сейчас еще на этой стороне. Молчит, бедняга. Молчит. Тут ему не с кем поделиться, как это у него получилось: командира тут нет, товарищей тоже нет… Тут ему надо молчать…
Антон Григорьевич глубоко затянулся дешевой папиросой, и долго в его глазах светилась понимающая улыбка.
– Тут он за разговор жизнью может поплатиться, а еще больше – своей же армии нанести урон…
– Как пить дать, может нанести урон, – согласился с Антоном Григорьевичем сивоусый старик и торопливо стал собираться в дорогу.
Неожиданно быстро поднялся и Антон Григорьевич и, кинув одной рукой перевязанный посредине мешок на плечо, объяснил женщине в сером шерстяном платке:
– Зажигалки сбудете на селе. Спичек там нет. За ножи и вилки тоже что-нибудь съестное выменяете. Многие люди там понимают наше положение. – И сейчас же крикнул молодой женщине в запыленных сапогах: – Лида, ты свой фургон направляй левее. И в самом деле, какой нам смысл входить в город главными улицами? Не будем открывать шествия…
Лида впряглась в оглобли тачки на велосипедных колесах и потащила ее из крутой лощинки. Антон Григорьевич кинулся помогать ей здоровой рукой. Из мелкого ящика тачки на подъеме стали сыпаться зеленые и чуть побуревшие помидоры. Петя с другими попутчиками проворно подбирали их и забрасывали обратно в ящик.
– Хорошее у нас занятие! – лукаво усмехнулся Антон Григорьевич и Пете на ухо шепнул: – У разведчиков, у тех, что дали летчикам работу, занятие куда интересней. Так ведь, Петрусь?
Вопрос этот был для Пети беспощадным испытанием, но он выдержал его.
– Петрусь, что же ты молчишь? – спросил Антон Григорьевич.
– Ну конечно, интересней, – согласился Петя и, вздохнув, возбужденно добавил: – Теперь им, разведчикам, надо молчать и молчать. Молчать до тех пор, пока не придут в свою часть.
Антон Григорьевич заметил, что голос Пети прерывисто задрожал.
– Оказывается, и ты очень любишь разведчиков? – с теплой усмешкой спросил он.
Петя, нахмурившись, отвел взгляд в сторону. До самого города они не разговаривали, были заняты каждый своей мыслью.
– Лида, бери еще немного левей, – громко посоветовал Антон Григорьевич и опять замолчал.
Петя, поправляя заплечную сумку с мукой, думал, какой дорогой ему удобней, а главное – безопасней пройти на Стрелку, найти Каменный, 92, и, передав лекарство, направиться в рабочий поселок – на Заводскую, 60, – к Коле Букину, или на Огарева, 37, – к Диме Русинову… Конечно, напрямую, Через центр, он не пойдет… Но надо было решить, какой улицей – Загородной или Спортивной – безопасней войти в город? И вдруг, точно в плохом сне, повторилась мартыновская история: на толпу пешеходов, заметно выросшую при приближении к окраине города, набросились фашистские мотоциклисты. Они вырвались сбоку, крики их смешались с треском моторов и стрекотом автоматов. Охватывая разбегавшихся пешеходов в кольца, они начали теснить их к невысокому курганчику. С этого курганчика отдавал команду своим подчиненным обер-лейтенант в каске, в мышасто-сером френче. Был он маленький, черненький и будто совсем не похожий на рыжего долговязого Шмухера, на прямого, как жердь, Зольдке. И все же этот эсэсовский обер-лейтенант чем-то страшно напоминал Пете и Шмухера и Зольдке.
«Чем?» – старался догадаться Петя.
А черненький обер-лейтенант кричал:
– Сволочь партизан не убежаль и будет расстреляйт!
Потом он кричал подчиненным по-немецки, чтобы они у русских выбирали из мешков все сладкое и вкусное. Он все чаще повторял слово:
– Зюсигкайт! Зюсигкайт! (Сладость!)
И он взмахивал правой рукой, в которой держал револьвер и на которой у него было до полудесятка сияющих перстней.
– Петрусь, ты сдурел? – услышал Петя сердитый голос Антона Григорьевича. – Ты хочешь попасть в кольцо, а потом отправиться к гестаповцам в гости?
Антон Григорьевич вел себя так, будто Петя целиком был ему подвластен и как будто выручать его из беды можно только строгостью. Отталкивая Петю все левее и левее, в лощинку, куда уже скатилась тачка, он в самом ругательном тоне говорил ему:
– На кой черт они тебе сдались?.. Ты первый раз видишь эту картинку?.. Тебе больше не о чем думать?.. Некуда спешить? – И он толкал убегающего Петю в спину.
– Антон, ты что делаешь? Попридержи руку, не смей толкать Петруся, ведь мы уже скрылись, никто нас теперь не видит… Не смей!.. Я бы тоже онемела от этого кино! Ты ж мне чуть руку не оторвал.
Тоненькая, проворная Лида смело набросилась на Антона Григорьевича, отбила его от Пети с такой настойчивостью и быстротой, что Антон Григорьевич и Петя неловко усмехнулись и молча побрели за тачкой. Они отворачивались, когда на них оглядывалась Лида. Вид у этой тоненькой женщины в запыленных сапогах по-прежнему был воинственным: крохотными молниями над прямым носиком изламывались ее темно-русые брови, пестрая шерстяная шаль, завязанная узлом на шее, сбилась назад, обнажив светлые волосы с желтоватым отливом… На тесемке, перекинутой через плечо, у нее болталась узенькая, почти детская рукавичка. Петя хорошо помнил, что она сняла ее в ту секунду, когда бросилась ему на выручку. Кстати сказать, Петя считал свирепые толчки Антона Григорьевича полезными и не думал, что надо защищаться. На какую-то секунду он вспомнил, что за такую ошибку ему уже досталось от Виктора Гавриловича Дрынкина. Лида своей гневной защитой поставила Петю в неловкое положение перед Антоном Григорьевичем, да и сам Антон Григорьевич чувствовал себя пристыженным.
После долгого молчания Петя тихо спросил:
– Антон Григорьевич, вы на ней женаты?
– Да. А что?
– Вам из-за меня здорово от нее достанется?
– Может, и достанется.
– Антон Григорьевич, а почему вы на ней женились?
– Она у меня не такая уж плохая. Тоже из рыбаков. Очень самостоятельная и за справедливость на нож не побоится…
– Хорошая, а вас ругает…
Пете хотелось, чтобы Лида знала, что во всем виноват он сам, а не Антон Григорьевич, и он громко заговорил:
– Антон Григорьевич, мне казалось, что я отбежал от них далеко в сторону. Забыл, что от них надо еще дальше. Спасибо, что вы не забыли…
– Спасибо ему, что не забыл, только плохо, что долго помнил. Должно быть, и сейчас спина побаливает? – обернувшись, резонно заметила Лида.
– Да нет, – не признался Петя.
– Терпеливый же ты, – усмехнулась она.
…Через час в Западном поселке, на окраине города, Петя прощался со своими недолгими спутниками. Его приглашали зайти в беленький кирпичный домик с зелеными ставнями, но он отказался.
– Тогда, друже, клади свою руку вот сюда, – и Антон Григорьевич протянул Пете свою костистую, сильную ладонь. – Пусть наша встреча будет не последней, хотя ручаться теперь ни за что нельзя… Видишь, в переулке никого нет, а тесно мне в нем. На море, погляди, пусто – выехать туда нельзя, запрещено. Ой, хочется развернуться! – И он сокрушенно покачал головой.
– Будешь проходить мимо, – сказала Лида, – стучи в любое окно, спрашивай Лидию Матвеевну – меня. Я тебя в спину не толкала и найду чем вкусным угостить, – шутливо добавила она.
– Спасибо, – охотно ответил Петя.
А еще через час Петя постучал в ставню другого беленького домика, на фонарном столбе которого было написано: «Каменный переулок, 92, М. К. Попова». Петя постучал сначала часто и коротко, а затем медленно и внятно отстукал три удара. Он знал, что ему придется в этом домике разговаривать с женщиной-врачом. Он вспомнил, что о ее приметах говорил Василий Александрович, и ждал, когда она, приоткрыв дверь, скажет ему: «Доктор не принимает», и тогда он попросит: «Примите, все просили, чтобы приняли».
И вдруг за дверью сразу завозились с цепочкой, потом вхолостую защелкал замок, и затем послышался страшно знакомый заспанный голос:
– Черт их знает, как они его отмыкают?.. Сроду замков не любил, а теперь поздно понять в них толк. Ты, Петро, заходи за угол, там увидишь калиточку. Я тебя через нее пропущу. Так у нас получится верней.
«Кто же это за дверью?!» – удивился Петя и зашагал к калитке.
* * *
Калитку Пете открыл Иван Никитич Опенкин. Глаза у него были заспанные, на ногах, поверх белых шерстяных чулок, были стоптанные чувяки, а за узкой спиной плотника болтались ветхие, латаные-перелатаные сапоги. Ушками сапоги были надеты на палочку, а палочку плотник держал в левой руке.
В чужой кухне Иван Никитич вел себя так свободно и так уверенно, будто в собственном доме: из духовки достал кастрюльку не то с кашей, не то с распаренной картошкой, заставил Петю вымыть руки и сесть за стол… Правда, за полотенцем ходил он на цыпочках в соседнюю с кухней комнату. Петя, следивший за ним, заметил, что в соседней комнате стояли стол со стопками грузных, дорогих книг, большой диван и зеленые фикусы…
– В той комнате никого нет?.. Тогда скажите, пожалуйста, что случилось с другим разведчиком? – спросил Петя.
– Сорокин в пути обессилел. Я нашел его в первомайском саду и скрыл у вас. Опасно для Марии Федоровны, но иначе нельзя было. Через три-четыре дня он сам уйдет, – тихо, но сердито бросал слова Иван Никитич, подавая Пете нарезанный темный хлеб, солонку с дырочками в крышке.
Плотник все делал правой рукой, а левая привычно держала палочку, на которой висели сапоги.
– Иван Никитич, вы с сапогами и спали? – с усмешкой спросил Петя.
– Ага, вон на том топчане.
– Зачем они у вас?
– Продавал на базаре.
– Не покупают? Цены хорошей не дают?
– Да нет, сегодня один фриц подходящую цену давал, – усмехнулся Иван Никитич, покрутил головой и, присев на табурет, стал рассказывать. И, пока Петя ел пшенную кашу с распаренной картошкой, плотник рассказал, как трудно было ему раньше семи часов пробраться в город. Часовой ни за что не хотел пропускать его. – Я пошел на хитрость. Бегу к нему прямо на автомат, а сам прикладываю сапоги к сердцу, а потом выставляю вперед: дескать, тебе, дорогой фриц, несу… Тебе в них будет теплей, удобней… Разговариваю с ним так, как будто день и ночь пекся о его здоровье! – тоненько смеялся Иван Никитич.
Дальше Петя узнал, что фрицу при осмотре сапоги очень не понравились, но солдат отнесся снисходительно к русскому старику и, пропуская в город, только подтолкнул его в спину.
– А вы не обиделись на него? – сквозь усмешку спросил Петя.
– Не стал высказывать обиду: могло быть куда хуже…
– А как же вы сапоги не растеряли?
– Не растерял я их, Петро, потому, что без них трудно мне проходить в город. Сапоги эти как пропуск из фашистской комендатуры: посмотрят на них и скажут: «Базар?.. Коммерция?! Айда! Можно!»
И вдруг Иван Никитич, оборвав смех, негромко сказал:
– А ведь день-то у нас, Петро, вовсе не смешной. Ты вот принес лекарство, чтобы помочь Ивану Владимировичу, а ему, оказывается, никакой помощи уже не нужно… Помер человек.
Петя побледнел и вылез из-за стола.
– А чего же врачи смотрели? – спросил он.
– Загноение какое-то, очень серьезное. А нужного лекарства в аптеках нет… Теперь нам надо поскорей схоронить его и уходить из города.
Иван Никитич стал обуваться. Петя смотрел на плотника сначала с печальным недоумением, а потом с нескрываемым упреком. Он не мог примириться с будничной озабоченностью плотника, с суховатой торопливостью, с которой он сообщил о смерти Ивана Владимировича и о его похоронах.
– Что же тут за порядки? Для такого человека лекарства не достали…
Иван Никитич обернулся и, видя, что Петя прерывисто дышит, мягко, но настойчиво проговорил:
– Порядки здесь, Петро, фашистские, и за них ты меня не укоряй. Не укоряй и доктора Попову…
В передней двери защелкал тугой замок. Помедлив, пока не приблизились шаги вошедшего в соседнюю комнату, Иван Никитич проговорил:
– Вот и доктор Попова пришла. Можешь ее спросить, почему вовремя не оказалось нужного лекарства…
У доктора Поповой, грузноватой женщины с густой сединой в черных волосах, был низкий, отчетливый и хрипловатый голос. Смуглое лицо ее с крупным носом, с черными глазами было усталым. Она слышала, что сказал Иван Никитич, поняла, что горько расстроило Петю.
– Это тот, кого вы ждали? – указывая на Петю, спросила она Ивана Никитича.
– Тот.
– Ты окраиной шел в город? – обратилась она к Пете.
– Окраиной.
– Почему не напрямую?
Петя не ответил, потому что вопрос этот считал лишним.
– Вот и мы окраиной искали лекарство – не знали, что гестаповскому врачу Куртке нужны были золотые сережки. Теперь лекарство есть. – И она показала Пете несколько крохотных пакетиков, извлеченных из кармана драпового мешковатого пальто. – Давай и ты свое. Нуждаемся в нем… Да ты что-нибудь ел? – спросила она.
– Спасибо. Наелся, – ответил Петя.
– Что наелся, не верю. У меня тут все на холостяцкую ногу… Иван Никитич, вы уже собрались? Спрячу лекарство, и пойдем на похороны.
– А там-то все готово?
– С трудом, как могли, приготовились, – ответила она из той комнаты, где стояли диван и большой письменный стол с дорогими книгами и зелеными фикусами.
* * *
От Стрелки до городского рыбацкого кладбища, расположенного на крутом прибрежье моря, не очень далеко – семьсот – восемьсот метров, но похоронная процессия вот уже около часу тянется туда и никак не может дотянуться.
Наскоро обструганный длинный гроб вместе с крышкой прикручен телефонной проволокой к крохотной платформе, сбитой из досок, извлеченных из забора. Платформочка поставлена на четыре игрушечных роликовых колеса. В эту похоронную тележку впряжены Коля Букин и Дима Русинов. Лица у них измученные. Шапки они засунули за пояса.
Непосредственно за гробом идут Иван Никитич с болтающимися за его узкой спиной сапогами, врач Попова с маленьким букетом белых и голубоватых осенних цветов, а чуть позади шагает Петя со своей заплечной сумкой.
Петя хотел вместе с Колей и Димой везти гроб, но друзья не дали ему веревки. Если Коля и Дима в этот печально-хлопотливый день порой забывали о смерти Ивана Владимировича, о горестях и трудностях дня, то это было именно в те минуты, когда они смотрели на своего внезапно объявившегося друга.
Иногда Коля и Дима подзывали к себе Петю, чтобы хоть словом обмолвиться с ним о том, что нового они узнали, пока его не было здесь.
– Петька, а Зорик принес твою записку. Ты ж потом нам расскажешь про себя, – заметил Дима.
– Петя, Ивана Владимировича хоронят и вон те девочки. Вон они идут по тротуару. Они нарочно чуть приотстали, так доктор Попова посоветовала, – спешил рассказать Коля.
– Петро, а во Дворце пионеров теперь гестапо и полиция. Модели юннатов они повыбрасывали оттуда. На Фрунзенской на проводах повисла моя «Комета». На областных соревнованиях планеристов она заняла второе место… Жалко. Я бы давно ее снял, так около телеграфа всегда дежурят фашисты… – рассказывал Дима, то и дело подтягивая пересохшие губы.
Петя шел молча. Все, что он слышал и видел, сейчас связывалось в его душе в один тяжелый узел: и почти ползущий по земле гроб с телом Ивана Владимировича, и огорчения Димы, которого он никогда не видел таким печальным и злым, и сердечная озабоченность Коли. К этому душевному грузу Пети присоединялось и то, с чем сталкивалась похоронная процессия при всякой попытке перейти очередную улицу по пути к кладбищу.
На Урасовской полицай долго допытывался, почему гроб везут именно через Урасовскую. И так же долго и терпеливо Иван Никитич доказывал ему, что другой дороги на кладбище нет.
– В двух кварталах отсюда квартиры германского командования, а вы под самый нос к нему с покойником! – багровея, говорил полицай.
– Господин полицейский, а вы укажите, пожалуйста, другую дорогу на кладбище. Проведите нас, пожалуйста, по этой дороге, – говорил Иван Никитич.
– Тут еще надо подумать, кого вы хороните…
– Мертвого, господин полицейский.
– А какой он смертью помер? – допытывался полицай.
– Правильной, хорошей смертью, – точно ученик на уроке, отчитывался Иван Никитич.
– А кто ты такой, чтобы я тебе взял да поверил?
Не скрывая досады, старый плотник нравоучительно заметил:
– Господин полицейский, верь скорей и скорей пропускай, а то и нас задерживаешь и на себя беду накликаешь: сам же говорил, что германское командование где-то тут поблизости…
Полицай, озираясь, заругался:
– Возят тут разных покойников по кладбищам! Живо с ним убирайтесь подальше отсюда!
Петя слушал и смотрел, не отрывая глаз, на гипсовую скульптуру. Она возвышалась над затоптанным газоном, против парадного входа в детскую библиотеку имени В. И. Ленина. Давно знакомая Пете скульптура представляла собой двух пионеров, вылепленных из гипса и поставленных на гипсовые постаменты. Поднятыми руками пионеры как бы приветствовали тех, кто входил в библиотеку. И больно было видеть, что у гипсовой девочки были отбиты нога и нос, а мальчику с пионерским галстуком гитлеровцы на голову надели ржавый жестяной ушат.
Петя вдруг почувствовал такую физическую усталость, что готов был опуститься на ступени ближайшего дома и закрыть глаза.
Иван Никитич обратил внимание на разбитую походку Пети.
– Здорово ты приморился… Хоть бы до Комитетской не задержали нас, – с сожалением проговорил старый плотник.
На Комитетской похоронную процессию все же задержали. Из городского отдела здравоохранения вышел фашистский офицер в сопровождении двух местных врачей – их знала Попова. Они шли сзади как подчиненные и как подчиненные послушно выскочили наперед, когда фашистский офицер, обратив их внимание на гроб, сказал:
– Без немецкого документа ни одного покойника не хоронить.
Попова, подойдя к нему, объяснила, что она врач, что человек умер от прободения печени… Вот справка, и она протянула ее фашистскому офицеру.
– Мадам, я сам врач и знаю, что прободение печени могла сделать и пуля, и осколок мины… Национальное немецкое оружие может это сделать. У русских партизан, что защищали город, чаще всего такие прободения.
Этот с белизной на висках и с холодным взглядом немец, к удивлению Пети, говорил по-русски как русский, а не так, как говорили полковник Шмухер, солдат Зольдке и тот черненький обер-лейтенант, что сегодня утром кричал с курганчика своим подчиненным, чтобы забрали у русских все сладкое и вкусное.
– У этого умершего гнойное прободение… Мы бы очень просили вас разрешить похоронить его. Я его лечила, и я справку написала…
Петя заметил, что доктор Попова разговаривала с фашистским военным врачом с таким же упорным терпением, с каким Иван Никитич несколько минут назад разговаривал с полицаем.
Еще раз пробежав холодными глазами справку, фашистский врач, усмехнувшись одними губами, сказал:
– На вашу бумажку надо положить немецкий штамп. Надо быстрей привыкать к тому, что последнее слово во всем должно принадлежать нам. Я, мадам, кончал в Петербурге и знаю, что русские склонны раздумывать. – И, приложив руку к козырьку высокой фуражки, зашагал к недалеко стоявшей машине.
– И надо же было вам с этим гробом наскакивать на него! Стороной не могли обойти? – недовольно пробурчал высокий врач с подстриженными усами, в каракулевой вздыбленной папахе. – Неприятность. Фу, какая неприятность, – приподнимал он широкое, длинное пальто на костлявых плечах и морщил нос так, как будто на него падали брызги дождя.
– Семен Захарович, мы на каждой улице на кого-нибудь натыкались, но ведь похоронить надо…
И Попова потянула его за рукав пальто обратно в здравотдел. Другой врач, рыжий и толстый, нерешительно зашагал за ними, жуя оттопыренную губу и громко дыша красным, горбатым носом.
– Дурно им запахло от встречи с нами, – прошипел Иван Никитич. – И где только такие орясины выросли?! – И старый плотник сердито схватился за веревку и сам потащил гроб. – Доктор Попова нас догонит!
Попова догнала их уже за городом, перед пустырем, поросшим застарелой лебедой и полынью. До кладбища обнесенного каменной невысокой стеной, оставалось не больше двухсот метров и все на горку и на горку. На рыхлом бездорожье гроб сразу потяжелел. За веревку взялись еще две девочки.
– У наших покойников есть за что обижаться на нас: все делаем не по-людски, не по заслугам… Видать, отчитаемся перед ними после, – слушал Петя усталый и в то же время сердитый голос старого плотника, а потом услышал глуховатый, низкий голос Поповой:
– Понимаете, я даже не сказала Кате Евсиковой, что Иван Владимирович был ранен, находился от нее в двух кварталах. Не сказала, что он умер и мы пошли его хоронить… Она его все ищет.
– А кто она, Катя Евсикова? – спросил Иван Никитич.
– Невеста его. Он у нее один… А девушка она хрупкая, нервная. Боялась, что шуму наделает… Теперь сердце болит, что не сказала…
В этих делах я плохой советчик, – пожал плечами старый плотник.
…С трудом дотащились до неглубокой, с неровными краями могилы. Иван Никитич влез в нее и стал принимать неуклюжий гроб, а ребята осторожно ссовывали его, придерживая за телефонный провод, которым он был обкручен.
На кладбище было тихо и спокойно, как на кладбище, но за каменистой стеной, на уступах к морю (все видели это), были расположены фашистские посты.
– Никто из них не идет сюда? – настороженно спрашивает Опенкин из ямы.
– Никто, – отвечали ему.
– Не видно? – снова через минуту спрашивал старый плотник.
– Не видно, ни одного не видно, – обнадеживающе отвечали ребята.
С большими усилиями гроб поставили на дно ямы. Там же, в яме, Иван Никитич сказал последнее слово:
– Иван Владимирович, учил ты вон тех ребят, – указал он на Петю, Колю и Диму, – на свободе обязательно вспомним про все хорошее, что ты сделал… А теперь нам очень спешить надо. А куда и зачем – ты сам хорошо знаешь!
Иван Никитич надел шапку, выскочил из ямы и, выхватив из рук онемело стоявшего Коли лопату, стал быстро забрасывать могилу.
– Помогайте зарывать! Помогайте, пока они не помешали!
Ребята руками сгребали землю, торопясь похоронить своего учителя.
На месте неглубокой ямы быстро вырос глинисто-желтый холмик. Доктор Попова с присущей ей неторопливостью воткнула в него букетик осенних цветов.
Все молчали. И тут-то позади раздался крик:
– Я откопаю его! Я лягу рядом с ним!
Оглянувшись, ребята сразу узнали Катю Евсикову. Петя заметил, как девочки, что провожали Ивана Владимировича, как доктор и Коля с Димой уступили Кате дорогу к могиле, и она, схватив лопату, кинулась разгребать насыпь. Тонкие, проворные руки ее кидали и кидали прочь рыхлую землю.
– Катя, мертвых нет смысла откапывать, – тихо проговорила Попова.
Катя услышала ее слова и, выронив лопату, присела на глинистый бугорок, но сейчас же вскочила.
– Они идут! Но они не успеют!..
Все обернулись, и только Петя не смог оторвать взора от Кати. Решимостью светились ее глаза, лицо и вся она сама. Петю обожгла мысль: «Сейчас ей не страшно ни море, ни огонь!»
Один Петя был свидетелем, как она легким движением руки достала из кармана стеганки револьвер, туго приложила его к виску и выстрелила. У Пети в памяти остался миг, когда пшеничная прядь волос вскинулась на выстрел вместе с кровью, а уже в следующую секунду Катя затихла на могиле.
– Петро, ее и без нас закопают, – услышал Петя резкий голос старого плотника и почувствовал, как тот коротко дернул его за рукав.
Петя отдернул руку и еще несколько секунд стоял на месте. Встряхнувшись, как ото сна, он убедился, что Ивана Никитича уже не было. Двое фашистских офицеров подошли к Поповой и стали ее допрашивать. Поняв, что девушка застрелилась на могиле любимого, они очень одобрительно и весело отнеслись к событию.
– О гут! О хорошо! Русская девушка романтик! – заговорили они, с любопытством рассматривая Катин револьвер.
Петя отступил за ближайшую решетчатую ограду чьей-то семейной могилы и, скрываясь за памятниками, ушел с кладбища.
За стеной его ждал Иван Никитич.
– Почему ты там задержался? – ворчливо спросил Опенкин.
– Я не хочу вам отвечать… Вы черствый…
И целый день просившиеся наружу слезы потекли но щекам.
– Это ты на меня из-за той?.. Ей бы лучше помнить, за что Иван Владимирович заплатил жизнью, тогда и стреляла бы куда надо, – сказал старый плотник, и они молча прошли через весь город.
* * *
Второй день Петя Стегачев лежал дома, на своей кровати, которая давно уже стала ему короткой. Чтобы ноги лучше отдыхали, он просунул их сквозь прутья спинки. Он смотрел на мать, сидевшую рядом на стуле, но думал о чем-то своем, и это беспокоило Марию Федоровну.
– Петька ты, мой Петька, а ноги твои стали на целую четверть длиннее кровати.
И Мария Федоровна, желая развеселить сына, пощекотала ему пятки.
Петя убрал ноги под одеяло и отвернулся к стенке.
– Ты болен?
– У меня ничто не болит.
– У тебя, сын, душа болит.
– Почему знаешь, что душа?
– По глазам. От матери этого не скроешь… Не скроешь, что тебя больно били. Я, наверное, плохая мать, раз ты не хочешь рассказать мне правду… Рассказываешь сказку про муку. Но если бы ты знал, как у меня вот тут колотилось все эти дни!..
Голос Марии Федоровны с каждым словом начинал все больше повышаться, дрожать, готовый в любую секунду оборваться, перейти в тихий плач.
– Мама, а муку я и в самом деле принес, – повернувшись на спину, сказал Петя. – Ты напекла из нее вкусных пышек…
– Не заговаривай зубы. Где ты мог пропадать почти целую неделю?.. Что ты там делал?.. Я так неспокойна за тебя!..
Мария Федоровна заплакала. Петя в какой раз уже замечал, что слезы у нее теперь лились проворными ручьями и красивое лицо ее после плача заметно распухало, покрывалось пятнами.
– А ты и в самом деле угадала, что у меня болит душа. Но она перестанет болеть, и я встану, буду веселей… Мама, и потом вот еще что: я – там, ты – здесь… мы делали одно дело, – стараясь быть как можно более участливым к матери, неторопливо проговорил Петя.