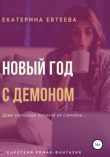Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
Петя и Дима, повернувшись, тоже заметили поезд.
– Дима, а что, если Колька угадал? – спросил Петя.
– Он иногда может… – повеселев, ответил Дима.
От поезда ребята уже ни на секунду не отрывали глаз. Им почти не верилось, что он идет: неясным был еще шум и стук, а резкий свет горевших ракет обесцвечивал огни паровоза.
– Он уже близко. Приляжем, чтобы не заметили… – проговорил Петя и первым лег.
По сторонам от него устроились Коля и Дима. Наблюдая за поездом, ребята вели разговор.
– Идет тихо, как вчерашний. Наши хотели его подорвать, да не получилось, – сказал Петя.
– Почему не получилось? Толу мало подложили? – спросил Коля.
– Сразу видно, что у Кольки отец химик. А у меня – машинист на паровозе. Я сразу заметил, что ихние паровозы хуже наших. Вот он везет порожняк, а состав куцый, – проговорил Димка.
«А ведь это об этом поезде-порожняке говорил Виктор Гаврилович… Значит, сейчас уже половина второго… Если все будет, как говорил Виктор Гаврилович, то за ним через час будет воинский, с оружием… Хоть бы скорей переправиться», – с тревогой подумал Петя. И как только поезд прошел к Сортировочной станции и перестали светить ракеты, Петя с товарищами быстро принялся за работу.
Пока ребята переносили в мешках пшеницу, пока переправляли порожнюю тачку, время от времени с откосов осыпался гравий. Иногда в темноте чья-то неосторожная нога задевала камешек покрупней. Раздавался негромкий, но опасный стук. И всегда в таких случаях Петя, сердито шепча, вразумлял Колю:
– Ты никак не можешь без аварий? Не любишь поднимать ноги повыше!
Коля не всегда был виноват, но терпеливо молчал, утешая себя мыслью, что у всякой работы, как у всякой дороги, есть конец.
«Вот тогда и подведем итоги», – вспоминал он слова своего любимого учителя математики Ивана Владимировича.
* * *
За полночь погода стала меняться. Степной ветер, всегда капризный, все больше сбивался к западу. В воздухе стало мягче, и порой срывался снежок. Облака, видимо, спустились очень низко, потому что над землей было почти непроницаемо темно.
По такой погоде ребята с трудом отыскали Богатырскую яму. В стенке ямы, у самого дна, была просторная ниша. Она очень пригодилась: ребята затащили в нее мешки с пшеницей и закатили тачку. В яме было холодно.
Петя сказал, чтобы не разговаривали, чтобы спали. А как уснуть Коле, если ноги зябнут и ими надо все время двигать? Как уснуть ему, если струи холодного ветра, как бы ты ни втягивал голову в воротник шубейки, все равно проникают под рубаху? Коля знал, почему Петя перестал ему отвечать на его вопросы.
«Петька старший. Он наводит порядок…»
Коля не против порядка, но ему скучно лежать, мерзнуть, да еще и молчать.
– Димка, ты не спишь? – едва слышно спросил он.
– Сплю как убитый, – слукавил Дима.
– Ну, ты спи, только разговаривай со мной. Скажи, может, яму эту Богатырской назвали потому, что в ней хорошо было бы отливать кастрюли для богатырей?
Димка, как и Коля, бывал в литейных цехах завода. Он мог бы сказать другу «да» или «нет», но он мыслями был очень далек от этой ямы. Он уже давно перекочевал в смоленские леса и там вместе с партизанами громил фашистские тылы. Разговор Коли о кастрюле, пусть даже о кастрюле для богатырей, обидел его, и он не без издевки предложил другу:
– А ты, Колька, разбуди Петьку и спроси у него.
– Чего ж будить человека зря, – погромче проговорил Коля, надеясь вовлечь и Петю в разговор.
Петя не ответил, хотя и не спал. Коля правильно думал, что Петя молчал «для порядка». «Для порядка» же он не вскочил и не кинулся вслед за ребятами из ямы, когда непроницаемую темноту ночи неожиданно разорвали гром, треск и злое завывание, которые смешались в какую-то вьюгу звуков, закружившуюся над землей. Петя догадался, что наши подорвали тот самый поезд, что должен был пойти после порожняка. Тем более хотелось Пете вслед за друзьями выбежать из ямы, посмотреть и порадоваться… Но он остановил себя и напряженно думал, угадывая, какие слова Коле и Диме сказал бы сейчас Иван Никитич.
А Дима и Коля уже вернулись в нишу, на мешки. Зная, что Петя после такого взрыва уже наверное не спит, возбужденно говорили ему:
– Вчера не получилось, а нынче здорово получилось.
– Петечка, хоть посмотри, как горит!..
– Хорошо горит? – спросил Петя и невольно улыбнулся, что заговорил словами старого плотника. Но ему не захотелось присваивать их себе, и он сказал: – Помните, как Иван Никитич сказал насчет пожара: «Горит, ребята, хорошо… Пожелаем тем, что присветили, вовремя уйти от смерти, а сами за дело!»
– Петька, у нас же дела сейчас нет?
– Завтра, Колька, может быть куда трудней. А вдруг снегу наметет? А вдруг никто к нам не придет сюда и до Забурунного яра самим придется?.. Спать, отдыхать надо, – заключил Петя.
– Петро, Кольку надо положить в середину: там ему будет теплей, не так будет крутиться, – предложил Дима.
– Клади его в середину, – весело согласился Петя, и они замолчали.
Они и в самом деле замолчали, но уснули не скоро: то ворочались, потому что постель была неровной, жесткой, то прислушивались к нараставшей и утихавшей стрельбе в стороне железной дороги, от которой они ушли на целых три километра.
Первым, согревшись в середине, легонько захрапел Коля. Вскоре, прижавшись к теплому телу товарища, заснул и Дима тихим и крепким сном.
А Петя все еще никак не мог заснуть. Его волновало: придет ли к Богатырской яме обещанная помощь? А вдруг не придет? И вдруг к утру наметет снегу?.. По такой дороге и с таким грузом им тогда не добраться до Забурунного яра. Нет, придет… И странно, – как только он укреплялся в этой вере, так в шорохе кружившего над ямой ветра начинали мерещиться шаги приближающихся людей. Он тихонько приподнимал край кузова тачки и вылезал из ниши, чтобы прислушаться. Он возвращался расстроенным: снег уже не срывался, а падал; где-то недалеко, в стороне железной дороги и грейдера, резко кричали по-немецки. Даже по отдельным разрозненным словам он мог догадаться, что гитлеровцы ищут наших и ругают снег, который заметает землю.
Петя дремал с мыслью: «Хоть бы снега выпало побольше – они б ни за что не нашли наших».
И еще он подумал: «Если те, что кричат, найдут нас, то, наверное, убьют: они же сейчас злые».
Пряча руку от холода поглубже в карман пальто, он нашел на дне его галеты и пять конфет в скользкой бумажной обертке. Он не сразу вспомнил, что и галеты, и конфеты положила ему в карман тетя Поля.
«Останемся живы – одна будет Кольке, одна Димке, одна мне и две маме».
Петя ощупью поправил на Коле шубейку, проверил, не скатился ли с мешков Дима, и, положив руку на обоих товарищей, уснул, как провалился.
* * *
– Если живые, будем откапывать! Если нет, то лежите!
Этот голос вырвал Петю из глубокого сна. Выскочив из ниши, он раскинул руки и в одно объятие захватил Зину Зябенко и Даню Моргункова.
– Можно вас обнимать? – спрашивал он.
– Чего же спрашиваешь разрешения, если уже обнимаешь? – смеялась Зина.
– Постой, а кто у тебя тут еще? – вырываясь и приседая на корточки, чтобы разглядеть Колю и Диму, спрашивал черноглазый Даня. – Вы тут, как в берлоге, можно к вам? – И он уже нырнул в нишу.
– А я ждал-ждал, – радостно и немного смущенно говорил Петя Зине.
– Ты лучше скажи: а я спал-спал…
Из ниши вылезли Коля и Дима. Они были заспанными и смущенными: они не ожидали с глазу на глаз оказаться с девушкой, которая рассматривала их по-ребячьи любознательно и испытующе, как старшая.
Коля сразу заметил, что у него подол шубейки был в глине, а руки грязны. Дима в своем коротком полушубке, покрытом черным сукном, стоял как будто прямо, как обычно, но Петя заметил, что он старается прикрыть ладонью разорванную штанину.
Петя засмеялся и, столкнув с места Колю и Диму, сказал:
– Николай, Дмитрий, не стесняйтесь, знакомьтесь: это Зина Зябенко, а это Даня Моргунков. Узнаете – сами скажете, что лучших товарищей не бывает!
Через пять минут все ребята сидели на расчищенном от снега кругу на дне ямы. Посередине этого круга стояла большая голубая кастрюля с оладьями. Зина ее достала из той тачки, которую они притащили с Даней из Мартыновки.
– Друзья, у кого добрая душа, тот будет есть оладьи. Берите! – приглашала она. – Конечно, руки можно снегом помыть, он мокрый… Вытереть можно вот этим полотенчиком.
Коля и Дима ели не спеша, учтиво. Петя же ел так, что, если бы Мария Федоровна оказалась в Богатырской яме, она бы прежде всего сказала сыну: «Петька, ешь же, а не глотай, как утка! Ну куда ты спешишь?» Но Петя и в самом деле спешил: наевшись быстрее других, он отправился за ближний перевал осмотреться, найти нижнюю дорогу. Утро было пасмурное. Ветер уже потягивал с юга, из города. Срывалась мокрая метель. Над едва побелевшей землей плавал молочно-белый туман. Дорога раскисла на добрых два пальца. На колеса, безусловно, будет налипать. Но вокруг было спокойно, а помощь из Мартыновки пришла, и потому Петя возвращался в Богатырскую яму в веселом настроении.
В яме, пока его не было, мартыновцы настолько коротко познакомились с горожанами, что Зина, стоя в кругу ребят, весело просила Моргункова:
– Данька, а ты еще покажи им, как при фашистской власти Игнат Б’о’мажкин расхаживает по мартыновским улицам!
Даня, закинув одну руку за спину, другой начал двигать так, как будто под носом у него внезапно выросли большущие усы, которые он накручивал на пальцы. Выставляя живот, он ходил взад и вперед по яме, как индюк.
Дима и Коля смеялись, а Петя шутливо спросил:
– Господин Б’о’мажкин, вам нарисовать индюка?
– Зина, дай платок, а то какой же я Б’о’мажкин – без живота, – попросил Даня. Но когда Зина поднесла ему платок, он неожиданно потерял интерес к своей затее.
– Ребята, – скучающим голосом обратился он к друзьям, – не хочу я вам представлять этого гада. Нам бы такое разыграть… – И он оглянулся и совсем тихо добавил: – Как сегодня ночью где-то вон там…
– Данька, я тоже не буду представлять, как мартыновский староста «лиригию» защищает, – сказала Зина.
Неловкое молчание нарушил Петя:
– Давайте нагружать тачки – и в путь.
* * *
Мокрый снег, усиливаясь, начинал причинять Пете и его друзьям немало неприятностей. Вот уже более часа он лепил им в глаза, таял на одежде и к довершению всего расквашивал землю. Тачки с грузом все больше вязли.
Переднюю тачку дружно везли Дима и Даня. Падая на скользком, они шутили над собой.
– Кони тоже спотыкаются! – смеялся Даня.
– Кони с себя грязь счищать не умеют, а мы умеем! – весело говорил Дима.
– Хоть бы нам не отстать от них, – завистливо беспокоилась Зина, торопя Колю, с которым была впряжена во вторую тачку.
– Если и отстанем, то потом помаленьку догоним, – успокаивал ее Коля.
Подталкивая тачку сзади, Петя иногда из-за кузова посматривал на своего вспотевшего, суетливо ковыляющего друга. Петя хорошо понимал, что «помаленьку» не догнать передней тачки, временами скрывавшейся от них в метельном тумане. Коля просто вынужден был повторять слово «помаленьку», так как быстрее везти у него уже не хватало сил, а уступить место в оглоблях Пете он ни за что не соглашался.
– Помаленьку догоним, – опять услышал Петя слова друга.
– Колька, – с доброй усмешкой заговорил Петя, – если передний поезд идет со скоростью шестьдесят километров, а задний со скоростью тридцать километров, то разве задний сможет догнать передний?! А еще математик!
– Петечка, в задачах бывает, что передний могут задержать на станции, – не оборачиваясь, ответил Коля.
– А почему задержать?
– Из-за каких-нибудь технических неполадок.
В разговор вмешалась Зина, которая положила полосатый платок на тачку, туже повязала косынку и подобрала повыше юбку, чтобы не путалась в ногах.
– Передний поезд может задержать начальник станции – ты! – усмехнулась она Пете.
Петя понял, что Зина тоже устала и не прочь бы отдохнуть.
– Придется начальнику станции задержать передний поезд, – с шутливым вздохом проговорил он и, свистя, кинулся вперед догонять Диму и Даню.
За первой остановкой последовала вторая, потом третья. Об этих остановках Петю никто не просил, но он сам видел, что Коля не мог без них обходиться. На третьей остановке, чтобы дать возможность Коле отдохнуть, Петя пошел на хитрость:
– Метель густая. Не проглядеть бы нам Забурунного яра? Ты, Колька, иди вперед и хорошо посматривай по сторонам, – сказал он и тут же, чтобы друзья поверили в необходимость этого, строже добавил: – Зорче присматривайся к проселкам, чтобы не наскочить нам на «волков»…
Метель усилилась, Коля медленно ушел вперед. Переднюю тачку по-прежнему везли Дима и Даня, а заднюю – Петя и Зина.
Впервые Петя и Зина остались наедине. Не зная, как начать разговор, они молча шагали, нажимая на поперечную планку, соединявшую оглобли тачки.
– Петя. Нет, буду называть тебя Петрусем. Петрусь, посмотри на метель! Посмотри! – весело заговорила Зина.
– Как же на нее смотреть, если она лепит прямо в глаза!
– Ты любишь такой снег?
– У нас в семье все любят первый снег. Мама бы про него сказала: «Изумительный, роскошный снег!»
– А папа что сказал бы? – спросила Зина.
– Папа сказал бы: «Посмотрите – пошел снег… Ядреный, знатный снег!»
И они оба засмеялись.
– Петрусь, ты больше похож на маму?
– Почему больше на маму?.. Но и на нее тоже похож.
– А у вас там есть горка – кататься на салазках?.. А на коньках ты катаешься? А на лыжах?.. Мне почему-то хочется про тебя знать все, все!
И они опять засмеялись. Петя смеялся потому, что Зина, быстро выговаривая слово «все, все», наморщила лоб и плотно сомкнула ресницы, на которых задрожали блестки снега. А Зина смеялась своему новому чувству, не зная, чего в этом чувстве было больше – смелости или застенчивости.
Петя крикнул Диме и Дане:
– Друзья, вы на силу здорово не рассчитывайте! Выбирайте дорожку поровней!
И снова начался на секунду прерванный разговор. Зина, прослушав рассказ Пети о дневнике, сказала:
– Ты думаешь, Петрусь, мне не жалко дневника? Очень хотелось знать, что ты там писал про меня, про «Тараса Бульбу». И почему ты писал мне?
– Другому писать почему-то и в голову не приходило… А ты про меня хоть немного думала? – спросил Петя.
– Думала. Ты ж теперь моя подруга. Подруга у меня всегда была Таня… Ты, Петрусь, другая подруга.
Помолчав, Зина заговорила немного холодней:
– Ты, Петрусь, не подумай, что я, как Андрий из «Тараса Бульбы» – глянул на панночку и растаял. Даю комсомольское, глаза твои разглядела не сразу… А после того, как сходил в вербовую рощу.
– Я, Зина, ничего не думаю. Знай только, что я тебя сразу разглядел… Ну, так я же парень, – улыбаясь и краснея от неловкости, выпалил Петя.
Зина, не сбиваясь с шага, схватила с тачки наметенный снег и, швырнув его в зарумянившееся лицо Пети, сказала:
– Тоже мне «парень»!
– Николай, яра тебе еще не видно? – крикнул Петя.
– В тумане что-то желте-е-ет! – долетел до Пети и Зины голос Коли.
– Колька, это у тебя от длинной дороги «желте-е-ет», – послышался голос Димы.
Петя и Зина долго молчали. Тропа шла заснеженным скатом. На мгновение из метельного тумана мелькнул грейдер. Несмотря на непогоду, по нему, как и прежде, сновали машины, перемешивая снег с грязью. На степном побелевшем просторе грейдер сейчас был похож на серую змеистую ленту, уходившую с северо-запада на юго-восток.
– Зина, давай я с правой стороны впрягусь. С той стороны я сильнее повезу, и тебе будет легче, – сказал Петя.
– «Парень»? – уже без смеха сказала Зина, уступая место с правой стороны. Она уже знала, что за скатом будет последний и самый трудный подъем, а потом будет Забурунный и – прощанье.
«Надолго ли распрощаемся? Почему грустно?.. «Подругу» жаль? Не хочу расставаться?.. Я расставалась с Таней. Жалко было ее. Но Петрусь – другая подруга. Другое на сердце… Если бы Танька везла сейчас тачку и за меня, и за себя, я бы поссорилась с ней. А Петрусь везет, и мне радостно. Вон как изгибает плечо, стянул брови, посунул треушку назад. Он, должно быть, ругает тачку: «Черт, ты мне подчинишься!..» За все он мне дорог. Я сама могу повезти за него!»
– Петрусь, а я тоже могу быть сильной, как парень.
И Зина рванулась вперед, нажимая на планку. Петя не захотел уступить ей, и тачка рысью катилась до тех пор, пока они не догнали Диму и Даню.
* * *
Окончился подъем на крутой гребень. Еще не замело снегом следы, рассказывающие о трудностях этого подъема. На середине склона видны полосы грязи и около них так притоптана пороша, как будто здесь дрались десятки человек. А на самом деле никакой драки не было, просто колесо передней тачки попало в накрытую снегом суглинистую борозду и, громко чавкнув, завязло, как в болоте. И скольких усилий стоило вытащить ее оттуда. Это тут впервые Дима высказал недовольство Даней Моргунковым, своим новым другом:
– А ты в другой раз гляди глазами! Ведь говорил – впадинки надо объезжать. Теперь из-за тебя паруй на одном месте!
Выше видны глубокие отпечатки колес тачки, которая, катясь вниз, круто увертывалась и виляла. Ее остановили вон там, где снег под ногами ребят, перемешавшись с темной жижей, превратился в серую кашу. Это здесь побледневший Петя, часто дыша, назвал Колю очень обидными словами – ротозеем и лопоухим.
– Тебе поручено было самое маленькое дело, – сказал он. – Ты должен был держать тачку на месте, пока мы тянули в гору другую. Так у тебя и на это не хватило ума?! Почему ты не подвернул оглобли в сторону?
И Петя бросил в лицо другу те два обидных слова.
– Петечка, ты мог бы так меня назвать наедине. Пусть я такой. А-а… ты – грубый. Грубый, Петечка!..
Его голос тогда так задрожал, что ни Петя, ни кто другой уже не стали упрекать Колю за недогляд и неловкость в работе.
А вот тут, почти уже на гребне подъема, ребята совсем перессорились, заехав с тачками на участок, покрытый рыхлыми кочками – кротовыми накопами. В этом месте дважды опрокидывалась тачка. В метельной степи то и дело слышались озлобленные настойчивые голоса. Чаще всего выкрикивали: «Взяли! Взяли! Нажали!»
– А, чтоб вас! Нажали, только не в ту сторону! Вот организация! Ну как с такими быть вежливыми? Скажи – как?
На этот вопрос Пети Коля промолчал, торопясь погрузить на тачку вывалившиеся мешки с пшеницей.
Давно подъем остался позади. Следы трудного, но славного пути все больше заметает снег. Скоро их совсем не станет видно. С гребня, из-за кустов голого боярышника, куда завезены тачки, ребята смотрят назад, под уклон. Они печальны, но думают вовсе не о своих ссорах и обидах. Трудный путь их еще больше сроднил, хотелось бы и дальше идти вместе, а тут не вовремя Петя объявил, что эта остановка будет у них прощальной: отсюда мартыновцы повернут с порожней тачкой домой, а Петя с Колей и Димой повезут груз в город.
– Петро, почему нельзя сделать так, как Даня говорит, – всем вместе довезти груз? Троим нам с ним не справиться, дорога становится тяжелей, – сказал Дима.
Снег стал падать быстрее. Туман все сильнее нависал над лощинами, над желтыми берегами Забурунного яра. Воздух все больше наполнялся сыростью. Можно было ожидать, что снег сменится дождем.
– А почему Зине и Дане нельзя ехать с нами до места? Переночевали бы у нас, отдохнули, а потом мы бы их проводили. И все было бы так, что лучше не придумать, – вздохнул Коля.
Петя молчал. Если бы не надо было выполнять наказа старого плотника, то и он бы предложил то же самое, что предлагали его друзья.
Зина угощала оладьями из голубой кастрюльки ребят, усевшихся между тачками, и, стараясь дать больше Коле и Диме, говорила:
– Берите, берите: вам надо хорошо подкрепиться.
И Петя понял, что она согласна с ним: все надо делать так, как распорядился старик.
Даня, кинувшись к Пете, горячо спросил его:
– Петро, друг ты мне?! Почему же не разрешаешь помочь вам по-настоящему? Может, боишься, что мы с Зинкой по такой погоде растаем?
– Я не боюсь, что вы растаете, – не сразу заговорил Петя, – но делать буду так, как велено, – и он стряхнул с себя минутную задумчивость, которую товарищи сочли за колебание.
– Старик далеко отсюда. И ты, Петька, не знаешь, что бы он сказал, если бы видел, что у Николая паров не хватает, – сказал Дима, державший на ладони стопку оладий, которых он еще и не попробовал.
– Да при чем тут пары? – сердито отмахнулся Коля и осторожно обратился к своему другу: – Петечка, а может, и правда, что старик сейчас сказал бы другое? Может, ты из-за характера немного заупрямился?
Но Зина уже начала перетаскивать мешки с мартыновской тачки на городскую, всем своим видом показывая, что спорить нечего. Петя стал помогать ей.
Даня, Коля и Дима, невеселые, по-прежнему сидели на снегу.
– Все-таки жалко, что нет старика… – вздохнул Дима.
– А он может и появиться, – не отрываясь от дела, сказал Петя.
– Ты так говоришь, как будто видишь его своими глазами? – насмешливо спросил Коля и поднялся. Взглянув через низкие кусты боярышника, он сейчас же опустился на корточки перед Димой и Даней и растерянно зашептал: – Старик идет. Давайте скорей дело делать. Оладьи можем положить на этот камешек.
Когда Иван Никитич вывернулся из-за кустов боярышника, уже все ребята трудились около тачек.
– Работа сделана правильно. А ты, чернявый, почему невесел? – спросил Даню старый плотник.
– Друзья пойдут в одну сторону, а мы с Зиной – в другую… На прощанье хоть бы песню затянуть. Так нельзя же, – сказал Даня.
– Где же ее, песню, и затянуть, если не здесь и не по такой погоде? В Мартыновке староста не дозволяет, там полицая надо остерегаться, там фашисты могут услышать, а песня сама рвется наружу! – усмехнулся Иван Никитич.
Он был оживлен и весел, потому что Петя и его друзья справились со своей задачей и он поспел к ним вовремя. В глубине души он теперь смеялся над тем, как вместе с захарьевским фашистским сельхозкомендантом на легкой тачанке домчался по грейдеру, от восемнадцатого километра почти до самого Забурунного яра. Правда, фашистского начальника, сидевшего в тачанке, приятно покачивало, а его, Ивана Никитича, примостившегося зайцем на рессорах, сильно трясло, но за эти неудобства, как и за то, что комендант под конец дороги кнутом рассек ему мочку уха, за все это потом непременно отплатится… С этими мыслями старый плотник оттащил порожнюю мартыновскую тачку в сторону, где лежала груда плоских камней, снял с нее колесо и начал выпрямлять немного согнутую ось. Он все прыгал на нее, но был легок и ничего не мог сделать.
«Кажется, надо немного отдохнуть», – подумал он и хотел было присесть на оглоблю тачки, когда вдруг услышал невысокий и хрипловатый голос Дани, затянувшего песню. Из-за кустов, с низинки, на которой кружилась метель, голос запевалы был чуть слышен и напоминал не то приглушенное звучание какого-то старинного инструмента, не то едва уловимое жужжание шмеля. Но звуки этого слабого голоса доносили слова песни с такой ясностью, что сама песня становилась похожей на выразительный рассказ:
Каховка, Каховка – родная винтовка…
Горячая пуля, лети!
«Нет! Отдыхать мне не время, – сказал себе Иван Никитич. – У такой песни сейчас много врагов найдется. Эту песню надо поберечь». И он торопливо взобрался на ближайший курганчик и, убедившись, что и на дальних подступах у песни нет врагов, ходил взад и вперед и слушал.
Песня не стала громче оттого, что ее подхватили теперь уже несколько голосов. Она как будто не хотела отрываться от заснеженной земли и, расширяясь, растекалась по ней, становясь все больше похожей на тихое звучание многострунного инструмента:
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка —
Этапы большого пути…
…Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались,
Как нас обнимала гроза?
* * *
Иван Никитич снял шапку, и ребята, может быть, удивились бы этому, если бы видели его сейчас с обнаженной головой. Откуда ребятам было знать, что маленький, сухонький старичок двадцать лет назад с плотницким топором за поясом прошел «большие этапы» войны за советскую власть, за советскую землю?! Иван Никитич и тогда уже был пожилым человеком, но топор его был острым, а тонкие жилистые руки проворными и умелыми. Знакомые артиллеристы, переправляя пушки по вновь перекинутому мостику через топкую речонку, кричали друг другу:
– На вид мосток легонький, а свободно выдержал батарейный груз.
– Так это ж папаша Опенкин построил со своей плотницкой бригадой!
Откуда ребята могли знать, что песня о Каховке давно и глубоко запала старику в сердце?! Не знали они, что эта песня всегда будила в Иване Никитиче самые дорогие воспоминания о днях и годах гражданской войны. Именно эта песня легче всего переносила мысли старика от воспоминаний о давно минувшем к совсем недавнему прошлому – горячим строительным будням на молодой советской земле. И всегда при этом сердце его согревалось сознанием, что и во все строительные годы звон его отточенного топора и шорох рубанка сливались с гудками заводов, пароходов и паровозов.
Петляя по оснеженной, мокрой земле, Иван Никитич иногда выходил на такое место, откуда видно было все, что делалось сейчас за кустами боярышника.
Дима, Коля, Даня и Зина стояли рядом, а Петя, чуть отделившись, дирижировал. Когда он поднимал палец к углу рта, песня почти стихала. Зина свою руку в черной шерстяной перчатке держала на плече у Дани, который рядом с ней казался еще ниже, но стоял прямо и глаз не сводил с Пети. Иногда Даня скашивал строгий взгляд направо – на Колю, и тогда Коля краснел и, чтобы не сбиваться с песенного лада, зорче присматривался к Петиной руке.
Над голыми ветками боярышника продолжал кружиться снег. Шапки на ребятах и косынка на Зине побелели. Сдерживая волнение, Иван Никитич дослушал песню до конца. Подойдя к яме, он долго поправлял шарфик, выглядывавший из-за мокрого воротника стеганки.
– Петро, тем, кто пропел так «Каховку», под силу пройти и более трудную дорогу.
Ребята видели, как у старика в морщинах недавно выбритых щек появились слезы. Он сердито вытер их клетчатой салфеткой и снова заговорил:
– Петро, Николай, Дмитрий, идите помогите мне распрямить ось и пожелаем Зине и Даниле благополучного пути до Мартыновки!
Через пять минут у ребят началось спешное, как в походе, прощание. Потом на снегу мягко зашуршали колеса тачек, вывозимых на дорогу. Слышались отрывистые разговоры.
– Друзья, помогу вам на прощанье! – говорил Даня, подталкивая перегруженную тачку сзади.
– Даня, ты учти, что нам теперь все время под уклон, а вам с Зиной будет и на горку, не надо помогать, – говорил Коля.
– Даня! Зина!.. Если придется быть в городе, обязательно вспомните, что на Огарева, тридцать семь, проживает Димка Русинов! К Кольке не ходите – Зорик за ногу укусит!
Тачки потянулись в разные стороны.
– Зинаида, не забудьте, что при спуске в Мартыновку слева подсолнечное поле. Наломайте будыльев, будто за топкой ездили! – предостерег Иван Никитич.
Тачки уже в сотне метров одна от другой. Частая метель все заметней разделяет их белой сетью. В непогожей степи уже не слышно перекликающихся, горячих товарищеских голосов. Они, наверно, затихли совсем… Нет, вот послышался взволнованный голос Зины, догоняющей ту тачку, которая неторопливо продвигалась в сторону города.
– Петрусь! Петрусь! – размахивала она сорванной с головы косынкой. – Я забыла отдать тебе твою порцию оладий! Возьми ее!
Эти слова Зины слышали и Даня, остановившийся с порожней тачкой, и Иван Никитич с Колей и Димой, продолжавшие везти груженую тачку вперед, но никто, кроме Зины и мелкой метели, не слышал строгих слов Пети:
– Если ты сейчас не застегнешься и не покроешься, я на тебя рассержусь так… Ты еще не знаешь, как я рассержусь!
И они разбежались в разные стороны.
* * *
По-прежнему мела влажная метель. Испарения делали воздух сумрачным, и трудно было понять, наступал ли уже вечер или до его прихода оставалось еще час-полтора…
На ветках груш и яблонь клочьями лежал снег, но он не задерживался на гладкой коре молодых стволов, и они оставались темными. Четко вырисовываясь на побелевшей земле, они почти строгими рядами уходили под уклон, к обрывистому берегу залива. Один из таких рядов, очень похожий на частокол изгороди, спускался к самому двору Стегачевых. Чуть дальше, на юго-западной опушке сада, виднелась маленькая легковая машина с приплюснутым кузовом.
Вокруг сада и в саду было безлюдно, тихо. И странно было увидеть между кустами крыжовника двух измученных и до костей промокших людей. Они, тесно прижавшись, сидели на полумешке с зерном, не пытаясь пройти во дворик, около которого стояла машина, а потом зайти во флигель с побелевшей крышей, с весело торчащей красной трубой. В другое время они смело вошли бы в этот флигель, чтобы обогреться, поесть и отдохнуть. Им нечего было просить хозяйку быть гостеприимной: ведь один из них был сын хозяйки дома – Петя Стегачев, а другой – ее хороший знакомый, первомайский колхозный плотник Иван Никитич Опенкин.
Тишина сада не могла обмануть их. Старый плотник и Петя не верили мирному снегу и тишине хотя бы потому, что на ровном склоне сада, между четвертым и пятым рядом яблоневых стволов, белел бугорок – могила садовника Сушкова, заметенная первым снегом…
…Не могло ускользнуть от взоров Ивана Никитича и Пети, что в рядах яблонь и груш все шире становились просветы: немецко-фашистские охранники продолжали рубить сад на топливо. На прибрежных кручах сегодня много густых дымков – погода не летная, и охранники смело отапливают свои доты… Фашисты были тут! Это их приплюснутая маленькая легковая машина стояла около стегачевского двора, преграждая Пете и Ивану Никитичу дорогу домой.
– Стоит машина прямо против калитки. Значит, кто-то из них у нас в доме? – спросил Петя.
Старик ответил:
– Машину-то порядком облепило снегом. Видать, к Марье Федоровне заехали «долгожданные гости».
У продрогшего плотника шутка получилась невеселой, и Петя удивленно спросил его:
– Вы так шутите?
– Я хотел, Петро, сказать, что к Марье Федоровне мог на этой машине приехать полковник Мокке.
– Может быть. Сделать разведку? – спросил Петя.
– Не спеши. Присмотримся, прислушаемся. С полчаса можно подождать, а наступят сумерки, тогда установим связь.
И они опять начали ждать. Минуты шли медленно. От тупого созерцания немецко-фашистской машины, к которой никто не подходил и из которой никто не вылезал, мир показался Пете таким, что он невольно вспомнил слова песни, горячо почитаемой отцом: «Сижу за решеткой, в темнице сырой…», и, подавив вздох, он продолжал молчать.
Наконец звякнула знакомая щеколда, и из калитки вывалилась тучная, неуклюжая фигура в немецкой шинели. Из машины вылезла другая фигура, и когда они оказались рядом, Петя почти радостно зашептал:
– Толстый – это солдат полковника Мокке. Иван Никитич, глядите – он в два раза толще другого! Мокке его называет Монд.