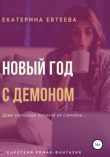Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 38 страниц)
– Михайла, Гаврик! Впереди буду ехать я. Вам нельзя – у вас есть о чем поговорить!..
Это и в самом деле было так: вместе с Василием Александровичем, вместе с дедом, вместе со всеми железнодорожниками и бойцами ребятам пришлось встретить и проводить первый, да еще воинский поезд на восстановленной ими дороге.
Вслед за бедаркой от станции потянулась и пароконная повозка. Гаврик правил лошадьми, а Миша, как отлично устроившийся пассажир, покачивался на тюке сена, будто на широком мягком сиденье.
– Миша, как ты думаешь, воинский теперь от станции далеко? – спросил Гаврик.
– Да как тебе, Гаврик, ответить… Дай немного подумать.
– Миша, думай покороче, а то поезд уйдет еще дальше.
Этими словами начался обстоятельный дорожный разговор Миши и Гаврика о виденном и слышанном.
Старый плотник, нацепив на нос очки и засунув треух за пояс, держал перед глазами развернутую газету.
Бедарка тряслась, подбрасывалась на неровностях проселка, буквы прыгали и расплывались, но Иван Никитич никак не мог оторваться от газетных страниц.
Внезапно бедарка остановилась.
– В чем дело? – услышали ребята недоуменный вопрос старика.
– Дедушка, а может, в вашей газете написано «тпру»? – осведомился Гаврик.
– В моей газете, было б тебе, Гаврик, известно, написано: «Вперед!» Товарищи фронтовики фашистов с кручи прямо в Днепр сковыривают! И вдруг потеплело… Какая досада! – замахал он газетой над головой.
– Дедушка, – закричал старику Миша, – эти газеты четыре дня назад печатались, а тогда было здорово холодно!
– Тогда, Михайла, все в порядке! Спасибо за разъяснение! Теперь можем смело двигаться вперед!..
Иван Никитич снова погрузился в чтение газеты. Конь скоро опять остановился.
– Дедушка, а и в самом деле – чего он? – спросил Гаврик.
– Умная лошадь, жалеет стариковские глаза.
Смеясь, старый плотник слез с бедарки, привязал вожжи, пустил коня вперед, а сам, пристроившись, шагал теперь сбоку повозки, на которой ехали Миша и Гаврик.
Взгорьем дорога уходила в степь. Вправо, за нагромождением округлых холмов, впадин, котловин и котловинок, показалась речка Миус. Отсюда она казалась похожей на детский рисунок, на котором синими красками была нарисована не то вода, не то капризно извивающийся дым или закрученный в кольца пушистый ус.
Иван Никитич и ребята, разговаривая о своей родной речке, невольно вспоминали шутливый рассказ о том, почему она называется Миусом.
…Когда-то извилистым правобережьем, приречной равниной один из запорожских атаманов вел свое войско против турецких захватчиков. В это ясное утро атаман был хмур, задумчив. Может, он устал от бесконечной походной жизни? А может, предстоящая встреча с врагом заставляла призадуматься: а не будет ли эта лихая сеча последней для атамана?.. Но, присмотревшись к причудливо извивающейся речке, он добродушно рассмеялся и, крутя курчавый длинный ус, сказал: «Хлопцы, бачьте – вьется, як мий ус!»
– Мий ус! Миус! Отсюда и повелось, – с ласковой усмешкой говорил ребятам Иван Никитич. По его усмешке никак нельзя было догадаться, верит ли он в рассказ или нет. Но одно ясно было для ребят, присматривающихся к старому плотнику, – что этот рассказ ему нравится и за его нехитрым содержанием он видел что-то другое, что важнее для него и для притихших ребят. – Только в том ли дело, ребята, что наша речка похожа на кучерявый ус?.. А может быть, атаман этот знал ее с другой стороны?.. – Держась за распорку повозки, Иван Никитич смотрел не то на свои легко шагающие ноги, не то на дорогу. – Не забывайте, ребята, что люди, гонимые помещиками и царевыми слугами, за Миусом находили себе убежище. Не широка речка, а руки у них были коротки достать то, что было на этом берегу.
Слушая Ивана Никитича, Миша и Гаврик смотрели на рыжую пойму, по которой между белобокими холмами извивался Миус, убегая к азовским берегам. Миша радовался, что вот эта холмистая степная земля давала приют гонимым людям, что Миус вставал крепостью на пути царя и помещиков.
Острый глаз Гаврика за Миусом видел столбы силовой линии, идущей из Донбасса. Эти столбы в его живом воображении стали всадниками и вытянулись в бесконечно движущуюся цепь. Конечно, это была запорожская конница. Не видя артиллерии и танков, Гаврик сожалел об этом: ведь тогда можно было бы по тем, что гнались за подневольными, ударить раз-другой из дальнобойных или пустить на них из засады несколько танков.
…Дорога уже поднялась на бугристую вершину водораздела между Миусом и Самбеком. Левее завиднелись высоты Самбека – место недавних кровавых сражений с немецко-фашистскими захватчиками. Между холмами стеной вставали темно-серые, высохшие травы. Все чаще теперь попадались желтые рытвины – следы разорвавшихся бомб и снарядов. Сбоку проселка валялись простреленные и на месте прострела густо поржавевшие каски, пулеметы без колес, колеса без пулеметов. Спутанная колючая проволока лежала ворохами и под набегающим ветром изгибалась, как живая. На высоченной фашистской пушке, устремленной в степное примиусское и присамбекское небо, каркала ворона.
Иван Никитич шел рядом с повозкой, забыв про сидевших в ней Мишу и Гаврика. Изредка поглядывая по сторонам, он все больше погружался в какие-то свои мысли. Очнувшись, он велел ребятам попроворней привязать лошадей к каркасу сгоревшей машины и следовать за ним.
Все трое молча пошли в сторону от дороги, к небольшому деревянному обелиску, стоявшему недалеко от высокого кургана и рядом с большой братской могилой. Обелиск был наспех сбит из первых попавшихся жиденьких дощечек. Это была пирамидка с пятиконечной звездой на усеченной вершине. Еще свежа была надпись: «Мы не забудем наших освободителей от фашизма, героев Миуса и Самбека».
Иван Никитич, подойдя к обелиску, снял треух, и ребята поспешили сделать то же самое.
Старый плотник не сразу заговорил:
– Им, что положили головы за советскую землю, этим богатырям, разве ж такой памятник по заслугам?!
Потом Иван Никитич сказал, что не мешало бы на могилу положить свежей травы, и пока он измерял маленький кирпичный фундамент обелиска, его граненый шпиль, что-то задумчиво высчитывая и записывая в свою потрепанную книжечку, Миша и Гаврик, нарвав свежего пырея, посыпали им братскую могилу, и комковатая глинистая насыпь запестрела, как прошитая зелеными нитками.
– А теперь пойдем туда.
Иван Никитич стал торопливо подниматься на соседний с обелиском высокий курган с песчаной макушкой, усеянной мелкими голышами.
– Дедушка, вот бы где стоять памятнику, – сказал Миша, когда они со старым плотником поднялись на вершину кургана.
Отсюда открывался вид на морской залив, испещренный темными точками рыбачьих лодок, на трубы заводской окраины Города-на-Мысу, на самый город, дома которого, тесно сгрудившись, заглядывали друг через друга на синеву моря… По грейду, проходившему далеко внизу, по обочинам самбекских холмов, то и дело пробегали автомашины из Ростова в Город-на-Мысу и обратно. На изгибах дороги стекла кабин, отражая холодноватый свет низкого осеннего солнца, ослепительно вспыхивали и гасли.
– Согласен с тобой, Михайла, – сказал старик и, обратившись к Гаврику, спросил его: – А ты, Гаврик, как думаешь?
Побледневший, сосредоточенный Гаврик был далек от того места, на котором стоял. Он даже вздрогнул, удивившись, что им кто-то заинтересовался.
– Лучшего места, дедушка, не придумать. Издалека всем будет видно. Будут глядеть и вспоминать. Это же солдаты и командиры…
На склоне кургана неожиданно грянул взрыв. Черным облаком взметнулся дым, снизу и с боков разрисованный гневными изгибами желтого пламени. Вслед за взрывом и облаком дыма из травы поднялся человек в защитной стеганке, в пилотке, в наушниках, от которых тянулся шнур к длинному шесту. Этот шест заканчивался чем-то похожим не то на сачок, не то на обруч, затянутый сеткой.
– Разминер! – обрадовался Миша.
– Не разминер, а минер, – поправил его Гаврик.
– Сущая правда! Один тут со смертью воюет! – отозвался внезапно повеселевший старик. – Вот кого и спросим, как там, на склоне к морю, не опасно нам с коровами. – И Иван Никитич стал спускаться с вершины кургана, а минер, заметив, что старик хочет о чем-то спросить его, поднялся по склону повыше, и они заговорили.
Здороваясь с минером, старый плотник снял треушку и низко поклонился:
– Здравствуй, дорогой товарищ! Успеха тебе в работе!
– Спасибо, папаша! Пока здравствую, и охота долго здравствовать!
– Работенка твоя, сынок, упущений не любит!
– Да, упустишь – не поймаешь!
Минер был молодой, светло-русый, пилотка у него была немного сбита набок.
– Не будем, папаша, раньше времени помирать. Сначала надо очистить землю, вспахать ее, чтоб зазеленела…
– Обязательно чтоб зазеленела, – одобрил Иван Никитич. И тут же задал интересующий его вопрос.
– А, так это вы из Сальских степей с коровами… и ваши коровы на ферме колхоза «Передовик»… Василий Александрович еще с утра предупреждал меня… Проверил, папаша! Проверил!.. А все-таки там, на спуске, с коровами надо построже, чтоб по сторонам не бродили… – проговорил минер, поправил пилотку и стал спускаться по обочине кургана.
…Уже давно ребята со своим стариком тряслись в быстро катившейся повозке, уже давно остался позади курган с песчаной макушкой, а Иван Никитич, оглядываясь на сзади привязанного коня, тащившего бедарку, изредка повторял, точно разговаривая с собой:
– Экий парень этот минер!
– Дедушка, вы ж его мало знаете? – спросил Миша.
Иван Никитич, казалось, не услышал этого вопроса, но когда позади, за морем сорных трав, раздался очередной раскатистый гул, будто кто-то прокатил каменную скалу по огромным ступеням, старик сказал:
– Дело у этого минера вон какое громкое. Этот человек, Михайла, ходит по краю пропасти и за тебя, и за меня, и за Гаврика… Чего же его долго проверять-то?! Вон видите – там, где он очистил, уже зачернело, а потом зазеленеет!
Вдалеке, на одном из холмов, которыми так богата примиусская степь, показалась мельница с сильно укороченным верхним крылом, с пробитой боковиной.
О чем-то задумавшись, Иван Никитич заметил ребятам:
– На нашей земле что ни шаг, то память о героях…
Повозка бежала навстречу большому массиву поднятой зяби. Несмотря на то, что зябь была черной, ее чернота радовала глаз зарождающейся жизнью, надеждой на завтрашний день.
– Гаврик, подгоняй коней повеселей! Хотя ферма недалеко тут, за зябью, вон за теми тракторами, а все-таки поспешай. Ведь завтра ждут нас в колхозе, а впереди еще трудные километры, – построжев, заметил старик.
* * *
Последние километры дороги и в самом деле оказались самыми трудными. За ночь, проведенную на ферме, ветер снова переменил направление и дул теперь не с запада, а с северо-запада. С лиловых туч, низко повисших над присамбекскими суглинистыми холмами, иногда срывался редкий, сухой снег. Узкими молочными ручейками катился он по проселку и, сбиваясь с прямого пути, исчезал в сухостойных травах.
Иван Никитич с подводами находился все время впереди быстро идущего стада коров. Он управлял лошадьми, стоя в повозке. Он часто оглядывался и, по обыкновению, разговаривал с ребятами так, будто Миша и Гаврик всегда были самыми непослушными и самыми бестолковыми его помощниками:
– Сколько раз вам говорить – держите с боков! Ни шагу в сторону! Зеваете!
Старик становился еще крикливей, когда замечал слева от проселка остовы подорванных машин, желтые пояса противотанковых рвов и траншей.
Подчиняясь беспокойному характеру Ивана Никитича, ребята сновали с боков стада, не успевая даже обмолвиться короткими словами, хотя бы по поводу того, что они уже ступили на землю своего Первомайского колхоза, что вон уже близко Город-на-Мысу, что трубы заводов, похожие на огромные зенитные пушки, бросают клочья дыма на залив, а в заливе нынче волны какие-то полосатые.
Стесненное с трех сторон стадо шло спорым шагом. Стоило большого труда поспевать за ним: мешали сорняки, и ребята брели по ним, как по хрустящим сугробам. На беду, старик оказался непредусмотрительным: сославшись на холод, он распорядился обуть валенки, и они сильно затрудняли движение.
Гаврик все яснее замечал, что Мише значительно трудней, чем ему: у него телята, которые мешают быстрей поворачиваться.
– Михайла, тебе нянька нужна? За что ты можешь отвечать?!
Голос старика точно подстегивает Гаврика. Он проскакивает через сутолоку стада.
– Миша, на ходу отвяжи одного телка! Прибегу за ним. С одним тебе будет легче!
Через две-три минуты запыхавшийся Гаврик, снова вынырнув из-за коровьих спин, появляется около Миши, чтобы взять телка, но Миша не успел его отвязать.
– Ну, чего ж ты? – с досадой спрашивает Гаврик.
Мише некогда объяснять товарищу: дед опять ругает его, обзывая косолапым. А положение такое, что даже обижаться нет времени.
Раскрасневшийся, потный, со сбитым на затылок треухом, через силу усмехнувшись, Миша говорит другу:
– Потерпим, Гаврик. Осталось немного.
* * *
У майора Захарова в этот день до обеда была уйма всяких неприятностей. Готовясь к встрече ребят, он поругался с шефом-плотником за то, что тот долго прилаживал к базу ворота.
– Стучите-то вы громко! Вон и воробьи срываются, как из пушки дым, а дела – тоже один дым!
Подслеповатый старик не обиделся на майора, потому что понимал общее беспокойство колхозников и нашел, что сказать, чтобы не обидеть командира:
– Товарищ командир, эти воробьи, про каких сказали, дурная птица, а умные воробьи прибудут оттуда!
Он вытащил складной метр из-за голенища и, указав на взгорье, добавил:
– С полным ручательством – к прибытию ребят все будет вполне в исправности, – добавил он и громко застучал топором.
Алексей Иванович почти стоптал сапоги от беспокойной беготни в школу, где спешно очищали классы от стружек, щепок, мыли полы, к сараям фермы, где обмазывали стены.
– Что же еще надо сделать?.. Забыл, – сказал он.
Майор, посмотрев на его измученное, потное лицо, дружески усмехаясь, сказал:
– Алексей Иванович, вот что еще надо!.. Побриться!.. И вам, и мне.
К обеду около правления колхоза запестрели платки, овчинные шапки стариков-колхозников. От морского берега, со школьного двора, шли сюда ученики.
Из правления вышел майор. Он был уже выбрит, в начищенных сапогах. Он, наверное, чересчур затянул пояс на полушубке, – кожа, обхватив его грузноватый стан, поскрипывала громче обычного. Чуть приподнимая руку, прижмуривая глаз, майор в две шеренги выстраивал школьников. В строй становились разно одетые, разно обутые школьники. Но у всех у них лица были серьезные. Майор отвел в сторону Зинаиду Васильевну и о чем-то ее спросил. Та утвердительно кивнула головой, и майор снова вернулся к школьникам.
– Товарищи, можно вольно… Можно и присесть…
С крыши домика, стоявшего в ряду нескольких вновь отстроенных изб, голос майора слышал высокий кровельщик с гривастой черной бородой.
– Товарищ майор, вы их, ребят-то, особо не распускайте. Чтось мне отсюда, сверху, видно!
Колхозницы посмеиваясь, острили:
– «Чтось» не в счет!
– За ошибку и с бородатого спросим!
– Товарищи женщины, помолчите, – остановил их майор, выжидательно посматривая на кровельщика.
Тот опять крикнул:
– Товарищ майор, так что, как самый высокий по положению, могу кое о чем доложить… Двигаются!
Кровельщик дернул наотмашь бороду и присел на стропила.
Майор скомандовал:
– Стройся!
Рядами пошли школьники, а с боков вереницами потянулись женщины, старики. Старухи домоседки, выходя из землянок, из дотов, тянули за собой детей или несли их на руках, спеша пристроиться к проходящим.
Слышались обеспокоенные вопросы:
– Колхозницы, да неужто молоко идет?
– И не одно молоко, а и кони идут!
– Да покажите же, где вы этих хлопчат видите?
– И так-таки идут с коровами, с телятами и с лошадьми?
Слышались и степенные разговоры:
– Ждали – и дождались.
– Большая подмога от шефов, иначе бы караул кричи по такому разорению.
Слышался шутливый голос:
– Захар Петрович, а я, по правде сказать, не вижу никакого разорения. Просто голое место.
По сторонам глубокой котловины, хорошо видимой с высокого взгорья, на которое поднимались люди, было пусто, тихо, как на нежилом месте. Глинисто-серые крыши дотов и землянок походили на огромные кучи, нарытые кротами. На западном склоне пять новых хат темнели проемами дверей и окон. Дальше стояли длинный, еще не совсем накрытый сарай и прямоугольный баз, пристроенный к нему.
Это наспех возведенное жилье как будто говорило о том, что в котловину приехали поселенцы и торопятся на новом месте успеть приготовить к зиме только самое необходимое.
И лишь школа, стоящая на отшибе, на ровной полянке, вблизи крутоярого берега залива, казалась уже обжитым домом, блестела зеленой ошелевкой, протертыми стеклами окон, красной железной крышей. Веселому виду школы резко не соответствовала разрушенная каменная ограда двора.
Иван Никитич, ехавший впереди стада, первый заметил идущих навстречу людей.
– Стой! Стой! – закричал он.
Стадо остановилось. Миша и Гаврик подошли к старику.
– По-вашему, что б это значило? – растерянно спросил Иван Никитич, слезая с повозки.
На его вопрос Миша и Гаврик не ответили, хотя, оба видели своих колхозников, узнавали среди учеников, шагавших в строю, товарищей по школе. Почти все они вернулись в колхоз уже после того, как Миша и Гаврик уехали в Сальские степи. Однако школьников все еще было очень немного и особенно мало – старшеклассников.
Встречавшие, отойдя в сторону от дороги, остановились. От них отделилось пять человек: председатель колхоза, двое пожилых колхозников и две женщины. Гаврик и Миша узнали своих матерей. Обоих ребят смущала встреча с ними на людях, при свидетелях.
Старик Опенкин, хорошо понимая своих помощников, предупредил подходивших Марию Захаровну и Феклу:
– Только не вздумайте нежничать! Мы от сладкого отвыкли!
Мария Захаровна, мать Миши, была одета в темный свитер и в распахнутую ватную кофту, которая свисала с ее округлых, сильных плеч. На голове ее голубела праздничная косынка.
– Иван Никитич, говоришь, нежничать не надо? А я чуть-чуть. Вот так, можно? – И она лишь толкнула Мишу своей смуглой щекой не то в висок, не то в бровь и пошла ближе к коровам.
Фекла Мамченко сгребла сына в большие руки, и вдруг Гаврик стал маленьким, затерявшись в ее кофте и юбке.
– Это зря, – отмахнулся старик.
– Не задерживай! – донеслось оттуда, где большой толпой стояли колхозники.
– Иван Никитич, идите! Люди ждут!
– А коровы и лошади останутся на нашем попечении, – весело и громко заявил Алексей Иванович, занимая место в голове стада.
– Раз люди ждут, значит, ребята, надо идти, – сказал Иван Никитич и, на ходу поправляя треух, повел ребят вперед.
Перед колхозниками старый плотник снял шапку.
– Товарищи, живых вас видеть! – весело поздоровался Иван Никитич.
Колхозники заговорили, замахали руками, поздравляя с благополучным возвращением. Справа и слева от старика с обнаженными головами, запыленные стояли Миша и Гаврик.
Майор, пожав руку Ивана Никитича, обнял ребят и, не отпуская их от себя, подвел поближе к стоящим в строю ученикам.
– Товарищи школьники, вы и все колхозники неспроста вышли встретить Мишу Самохина, Гаврика Мамченко, – заговорил майор.
Колхозники, живой оградой обтекая строй учащихся, видели, что майор с каждым словом все больше подтягивался.
– Миша и Гаврик в трудное военное, время сделали для колхоза большое дело. Больше двухсот километров прошли они степями со скотом. В пути их захватил черный астраханский ветер, но они не струсили., не растерялись и поручение колхоза, выполнили. Они помогали железнодорожникам восстанавливать путь, привели колхозу лошадей. За все это я хочу поблагодарить ваших школьных товарищей.
Майор пожал руку Мише и Гаврику, которые были очень стеснены присутствием радостно смотревших на них людей и потому невольно оглядывались на своего деда – на Ивана Никитича. Старый худой плотник стоял прямо и успокаивающе покачивал головой.
– Товарищи школьники, – снова заговорил майор, – кое-что вы сделали… Но если говорить по совести, сделали вы куда меньше, чем могли бы…
Может быть, майор сказал бы еще несколько, слов, но, заметив, что школьники стали вздыхать, он решил, что самокритики сегодня достаточно, и закончил, обращаясь к Мише и Гаврику:
– В школе научите товарищей тому, чему научились в дороге.
– Товарищи, дозвольте мне с Михайлой и с Гавриком доставить коров и лошадей по назначению, до последней точки направления! – крикнул Иван Никитич, поднимая шапку над головой.
– В добрый час!
– У всякой песни есть конец! – заговорили колхозники.
Через минуту Иван Никитин, Миша и Гаврик были на своих местах. Зазвенел колокольчик. Кони и стадо пошли под гору, а за ними тронулись и люди.
…Кровельщик с гривастой черной, бородой все время находился на крыше, а бабка Варвара Нефедовна стояла внизу, около хаты, держа, в одной руке большую палку, а в другой – Нюську Мамченко.
Нефедовна, оплакивая убитого сына, стала слаба на глаза и настойчиво допытывалась у кровельщика:
– А теперь что видишь?
Прикладывая ладонь к глазам, кровельщик отвечал, как рапортовал:
– Теперь имеется движение к дому!
– Ну, а теперь Гаврика примечаешь?
– Не в силах!..
– Ну что ты такой слабосильный! Гаврик парень-огонь… видный собой, а ты не можешь его приметить! – возмущалась бабка Варвара.
То ли кровельщику надоело слушать ругню бабки, то ли он в самом деле увидел Гаврика, чему было трудно поверить, – скорее всего он просто понял, что надо бабке, и спросил с крыши:
– Ведь паренек Мамченко чернявый, резвый, проворный?..
– А какой же?.. Такой он! – объяснила бабка.
– Такой имеется, около коров!
– Слава богу, разглядел! А то хотела влезть на крышу и палкой сковырнуть тебя, – засмеялась бабка.
Нюська кусала палец. Ей было обидно, что и бабка Варвара забыла про нее. Все ждали Гаврика и говорили только о нем. У нее было на уме сказать бабке, что Гаврик сливки украдкой попил, но в это самое время бабка, поцеловав ее в голову, сказала:
– Брат-то у тебя, Нюська, хоро-оший!
И хотя Нюська осталась при своем мнении, но ласковый поцелуй бабки заставил ее утвердительно качнуть головой.
* * *
В это раннее утро Мишу разбудил незнакомый пожилой человек, одетый в стеганую спецовку. По виду он был горожанином, рабочим или мастером: из-под низкого воротника стеганки виднелись аккуратно выглаженный воротник поношенной рубахи и темный галстук.
Наполовину просунувшись в дверь дота, он сказал:
– Ищу дачу Самохиных… Сюда ли попал?
У незнакомого человека под большим козырьком кепки от сдержанной усмешки задвигались твердые скулы.
Миша приподнялся, протер глаза и, сидя в постели, ответил шутливой усмешкой:
– Попали куда надо… Вам, должно, мама нужна?
Входя в дот, незнакомый проговорил:
– Маму я уже видел, хочу посмотреть трубу.
С трудом обойдя постель, он прошел в угол, достал из кармана складной металлический метр и, опустившись на корточки, измерил диаметр трубы.
– Сечение не совсем подходящее.
Он распрямился и, кладя метр в карман, усмехнулся Мише так, как будто вспомнил то интересное, хорошее, что знали только он да Миша.
«Все знает», – подумал Миша и спросил:
– Вы чего?
– Из родника на МТФ хотим подать воду… Да мы уже все почти сделали. Остался пустяк. Так не хватает трубы этак метров на двадцать. Ваша «установка», «прямой провод», чуть пошире наших труб, но у нас в машине электросварка. Подгоним, если не найдем более подходящих. Через час могут прийти за ней.
Миша видел, как он посмотрел на большие ручные часы. Рука у него была крупная, с широкой жилистой кистью, запачканной желто-бурой ржавчиной.
Уже от двери, натягивая поглубже кепку, он добавил:
– Другого выхода нет. А тут горком и райком нам, шефам, советует пошибче поворачиваться.
«Разговаривает как с маленьким», – оставшись один, подумал Миша и вспомнил вчерашнюю беседу с матерью, затянувшуюся до позднего вечера. Вспомнил, как мать потом присела к походному сундучку, как к столу, и стала писать отцу письмо.
– Я все ему про тебя и про твою поездку… Будто больше писать мне не о чем?
Смущенно улыбаясь, она положила карандаш и снова сказала:
– Миша, колхозники много хорошего говорят о тебе, о Гаврике. Хвалят, благодарят, как больших. Я радуюсь. Хочу, чтоб и отец скорей узнал об этом. Он тебе напишет что-нибудь такое: «Михаил, заработал уважение колхоза, дорожи им…» – И почему-то с тревогой в голосе, но улыбаясь, мать спросила: – Мишка, ты что, стал взрослый, большой?
Казалось, она еще не решила – огорчаться ей по этому поводу или радоваться.
Миша не знал, что ответить.
– Ну и что ж, что большой! Пускай другие так думают, а по мне ты зюзя несчастная! – Мария Захаровна схватила сына в охапку и стала сильными руками катать по мягкой постели, раскинутой на полу дота.
Миша смеялся и, прося пощады, оправдывался:
– Мама, я ж не сказал тебе, большой или маленький!
Побывавший в доте мастер снова заставил Мишу подумать над вопросом: большой он или маленький?
Конечно, он стал взрослее, чем был, но не настолько, чтобы не пожалеть о трубе, которая связывала его с Гавриком в самое трудное и самое интересное время, когда он зарабатывал право на поездку в Сальские степи для себя и для Гаврика.
Сидя в постели, Миша вспоминал о всех тех людях, с которыми встречался в закончившейся только вчера большой дороге. И мир впервые открывался перед его взором как заманчивое степное полотно. Но тот, о ком ему сейчас хотелось больше думать, был Никита Полищук.
Миша достал из-под подушки книжку. По ее обложке все так же вслед за столяром и его сынишкой, глядя им в спину, бежала остромордая, лохматая Каштанка. Дорога, по которой уходили столяр, Федюшка и Каштанка, в воображении Миши терялась в безбрежной степной дали… На грани этой дали неожиданно выросли Никита Полищук и Катя Нечепуренко.
Мише показалось, что Никита и Катя грустно улыбались ему.
«Может, у них горе?» – тревожно подумал Миша.
Но все неожиданно просто разъяснилось: Никита поскреб в затылке и улыбнулся с той же лукавой досадой, с какой он в свое время говорил Мише и Гаврику:
– Жалко, хлопцы, что вашу трубу нельзя до Ольшанки протянуть!
Миша снова посмотрел на трубу и, будто отвечая Никите Полищуку, с улыбкой проговорил:
– Через час трубы не будет. Шеф-мастер найдет ей другое место. Сейчас она послужит нам с Гавриком в последний раз.
Миша прополз в угол дота и, откашлянув в сторону, крикнул в трубу:
– На «Острове Диксоне»! Говорит «Большая земля»!
Опасливо отстранив ухо, он услышал Гаврика:
– «Большая земля», на «Диксоне» восходит солнце. С «Диксона» видно, что конь Тигр подвозит камыш к стройке. Ну, а еще на «Диксоне» собираются в школу… Ну, а у вас?
– То же, что и у вас.
– «Большая», ты же поспешай. Дедушка наш давно уже около плотницкой. Надо же зайти к нему хоть на минутку.
– Обязательно. На «Диксоне», у вас мастер был? – с легкой задумчивостью спросил Миша.
– Конечно, был, – в тон ему ответил Гаврик.
– Значит, встретимся на берегу. И на этом «Большая земля» навсегда заканчивает свои передачи.
…Солнце уже взошло над заливом, над камышовыми займищами донских гирл, когда Миша и Гаврик по крутому суглинистому склону спускались к берегу. С ними шли школьные товарищи. Еще издалека со стороны кузницы и плотницкой до них донесся высокий сердитый голос Ивана Никитича:
– Он на ошибках учится! Золотых слов не топчи! Ты учишься на ошибках, как тот хорек, что у птичницы Анисьи по ошибке три десятка кур передушил!
Вслед за этими словами из-за трактора, стоявшего около самой кузницы, вышли молодой, приземистый и пухлощекий тракторист с промасленной паклей в руках и старый плотник.
Иван Никитич в эту минуту был разгоряченный и легкий, с засученными рукавами на тонких, как палки, руках, с очками на кончике носа.
– Дедушка, жизнь впереди! – вместо приветствия крикнул ему Гаврик, и они оба замахали шапками.
Напряженная, тонкая фигура плотника вдруг обмякла. Отмахнувшись от молодого тракториста, с которым только что жарко ругался, он засмеялся, вскидывая очки с носа на лоб.
– Жизнь-то, ребята, с утра у меня вышла скандальная, а все-таки она впереди! В добрый час! Валите в школу! А на свободе заглядывайте в плотницкую… Милости прошу.
Из школы доносился звон колокольчика. Миша и Гаврик, привыкшие к тому, что звон всегда зовет в дорогу, быстро пошли от мастерской к ошелеванному, под красной крышей дому, стоящему на крутом берегу залива.