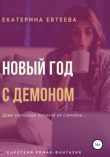Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
От такого неожиданно счастливого поворота дела ребята подняли головы, повеселели. Глядя на них, повеселел и Алексей Иванович.
– Ты, Иван Никитич, и вы, ребята, только приведите коров в сохранности, и душевная будет вам благодарность от всего колхоза… Хотел еще что-то сказать, но забыл…
– Алексей Иванович, да и будет говорить… – стала останавливать председателя колхоза бабка Нефедовна. – И так говорил много и хорошо… Гаврюша, – поманила она Гаврика, – пойди на минутку ко мне!
Опираясь на палку, она встала и, обнимая подошедшего к ней Гаврика, взволнованно сказала:
– Ты, Гаврюша, очень похож на моего сына, хоть вы и троюродные. Он тоже пошел спасать товарища и сложил голову. Езжай, Гаврюша, в дорогу, а за Нюськой я сама догляжу. С ручательством догляжу.
По дороге из правления колхоза Миша Самохин и Гаврик Мамченко говорили о многом… Друзья выражали удивление, как это они до сих пор не знали, что крикливый, горячий человек плотник Опенкин был правильным стариком?! Они не споря договорились, что бабка Варвара Нефедовна самая ответственная и самостоятельная старуха. И председатель колхоза трудовой человек, о колхозе сильно беспокоится.
– Миша, а ты заметил, что наши мамки пошли в степь, как подружки? – оживленно спросил Гаврик.
– Держат одна другую за руку, – улыбнулся Миша.
В этот вечер Миша и Гаврик засыпали с волнующей мыслью о том, чтобы завтрашний день приходил как можно скорей!
* * *
Восход солнца застал Ивана Никитича, Мишу и Гаврика на станции, в товарном поезде. Было безветренное утро. С пепельно-синего залива тянуло ровной прохладой.
Ленивый дым, выходивший из подземных очагов, обтекал долгий суглинистый холм, спускавшийся к илистой речке, поросшей поблекшим камышом. В этом дыму домик с темно-зелеными ставнями казался игрушечным. На крыльце его толпились женщины.
Иван Никитич, сложив багаж в углу пустого вагона, стоял вместе с ребятами около приоткрытой двери и говорил:
– Поглядите, колхозницы нас провожают. А с чем встречать будут? Вот об этом, ребята, нам надо помнить каждую минуту и секунду.
Старый плотник часто ощупывал боковые карманы своего короткого полушубка, взыскательно осматривал багаж, такой пустячный, что опасаться за него особенно не приходилось: мешок и две сумочки с заплечными тесемками.
Миша за дни совместной работы с плотником ни разу не замечал за Иваном Никитичем беспричинного беспокойства и теперь старался понять: что могло угрожать их пожиткам в этом пустом вагоне?
– Миша, погляди – поедем-то на «ФД», – указывал Гаврик в ту сторону, где в голове длинного состава сердито паровал красноколесный, мощный, собранный для быстрого бега паровоз. – Рванет – и «прощай, любимый город», – многообещающе подмигнул Гаврик, сменивший черную кепку на серый, с белой овчинной оторочкой треух.
Миша усмехнулся, предчувствуя минуту, когда раздастся свисток главного, потом зовущий вперед гудок паровоза и колеса начнут отбивать: «Пошли-пошли, пошли-пошли».
Усмехнулся и старый плотник, но сдержанно, и Миша сейчас же постарался согнать со своего лица усмешку.
На откосе насыпи с фонарем в руке стоял молодой кондуктор. К нему неторопливо подошел главный – седоусый человек с одутловатым выбритым лицом и придирчивыми глазами.
Он спросил молодого:
– Что за люди у тебя?
– Так это ж земляные поселенцы, пострадавшие, – махнул молодой на суглинистый холм, где когда-то было село и где теперь была развороченная пустошь, затянутая дымом, выходящим из-под земли.
– Кто сажал?
– Сам начальник вокзала и какой-то майор.
Главный, найдя нужным подойти к вагону, направился к нему той шаткой походкой, которой ходят моряки и железнодорожники.
– Что в мешке? – спросил он, кося взгляд в угол вагона.
– Можно, товарищ начальник, показать, – охотно ответил старик и стал показывать.
– А в сумках? – подернул сивыми усами главный.
– Можно и сумочки перетрусить.
Миша кинулся развязывать сумочки с харчами, а Гаврик, изломив темные брови, неприязненно следил за строгим главным.
Когда осмотр багажа закончился, между главным и плотником состоялся короткий бессловесный разговор.
Главный кивнул на суглинный скат в котловину.
Иван Никитич головой поддакнул.
Главный потянул сивый ус книзу.
Иван Никитич погладил свой морщинистый бритый подбородок.
Закинув толстые руки за спину, главный, покачиваясь, пошел вдоль состава.
Иван Никитич, присматриваясь к своим маленьким, с короткими голенищами сапогам, неслышно зашагал по вагону.
– Ох же и надоедливый этот главный, – засмеялся Гаврик.
Старый плотник предостерегающе заметил Гаврику:
– Очень ты непоседлив. Главный свое знает. Посмотрим, как ты свое сделаешь.
Гаврик смущенно посмотрел на Мишу, ища поддержки, но Миша мимоходом сердито толкнул его локтем и стал помогать Ивану Никитичу приводить в порядок распотрошенный багаж.
Молодой кондуктор где-то близко прокричал:
– Василий, поторопись!
Потом раздался свисток главного, а за ним гудок паровоза.
Под стук колес Иван Никитич уменьшил просвет двери и, загородив оставшуюся щель распростертыми руками, весело разрешил смотреть через его руки, и ребята широко открытыми глазами стали глядеть туда же, куда смотрел внезапно подобревший старый плотник.
Паровоз, усердно стуча красными колесами, быстро набирал скорость. Суглинистый скат, вздрогнув, тронулся и поплыл сначала назад, потом в нерешительности закружился на месте и, точно стремясь вдогонку за Мишей, за Гавриком, кинулся к полотну железной дороги, но скоро вместе с маленьким домиком исчез за бурой отножиной, рассеченной каменистым оврагом.
– Теперь сюда. То уже оторвалось от сердца, а это еще нет.
Иван Никитич задвинул левую дверь и быстро приоткрыл правую: сверкнул залив, плещущий солнечными красками безоблачного утра. Вдали темнели маленькие рыбачьи лодки, а еще дальше маячил пароход с мягко изломанной струей дыма.
– Здорово! – выдохнул Гаврик.
– Дорога!.. Михайла, что может быть лучше? – спросил старик.
– Не знаю, – ответил Миша, чувствуя, что и в самом деле в дороге есть что-то непередаваемо веселое и в то же время грустное, особенно в той дороге, которая ведет от дома, от знакомых с детства мест… Какой же дом? Дот, да еще фашистский… И все-таки – дом!.. Пусть нет и в помине каменной хаты под камышовой крышей с резным крытым крылечком, где он впервые уже не по складам, а твердо прочитал: – «Как мало в этом году васильков», – говорили дети. «Как бы мне совсем вывести эти васильки!» – говорил отец».
Пусть не узнать небольшого двора с тремя стрельчатыми тополями, которые в тот момент окапывал его, Мишин, отец, и, услышав прочитанные слова, весело засмеялся и сказал задумавшемуся сыну: «Мишка, головы не ломай. Тот отец, что в книжке, должно быть, бригадир. А у нас мать бригадир. Придет – расспроси ее про васильки».
Пусть не осталось и следа от покатой крыши сарая, на которую удобно было взобраться по внутренней лестнице, чтобы пустить бумажный змей, окинуть глазом синий простор моря, холмистую даль степи… Но степь осталась, осталось море, осталась мать, рыбацкие лодки, острый мыс и город на нем и чайки, крыльями, как веслами, бороздящие утреннюю синеву неба. Отец тоже знает, что на месте подворья и дома теперь голая, распаханная снарядами земля, но в письмах он пишет, что ему так хочется домой, в родные края.
Впервые Мише дом показался не таким, каким он его представлял обычно. Бежали навстречу вагону обрывистые берега Куричьей косы, желтые камышовые займища – и все это был дом.
Иван Никитич, размахивая руками, говорил Гаврику:
– Одна дорога плоха – к смерти. Так смерть – что она? Безделье! За ней мы не поедем. Помрем потом! Через сто годов!
И неугомонный старик, и весело смеющийся Гаврик, еще вчера храбро прокладывавший путь к кузову, – все это был его, Мишин, дом.
У Миши стало легко и спокойно на сердце. Он прошел в угол вагона и присел на мешок.
– Дедушка, а Миша по доту скучает! – засмеялся Гаврик.
Старик предупредил Гаврика:
– Михайлу не трогай, парень он вдумчивый. Имеешь охоту – поговори со мной.
– Дедушка, а почему вы с главным не поругались? – спросил Гаврик.
– Как почему? – удивился старик.
– Так он же, как тигр усатый, ко всему принюхивался. Зря ему спуску дали, – с сожалением ответил Гаврик.
– Михайла, – насмешливо заговорил Иван Никитич, – а твой друг, видать, еще без старшего в голове.
Миша усмехнулся.
Гаврик, чуть обидевшись на товарища, сказал плотнику:
– Мишка – он у вас похож на уполномоченного.
– Да-да! Он мой уполномоченный, и тебе его слушать. Помни: в нашем большом деле первый командир я, Иван Никитич Опенкин, второй – Михайла Самохин, а уж третий – ты, Гаврил Мамченко. Этого ранжира держись, а не то крепко взыщу. Мне вот вздремнуть хочется. Ночь-то в сборах прошла. Задача у нас с Алексеем Ивановичем, с председателем, была нелегкая – налыгачи, веревки, всякую мелочь собирали.
Старик укладывался недолго: снял черный треух, положил его под голову и, подобрав ноги, свободно поместился на маленьком куске войлока.
– Михайла, к двери только на остановке можно, а так – ни под каким видом… Что надо – разбуди, я не обидчив…
И он затих.
– Сам маленький, а движений в нем как в паровозе, – тихо сказал Миша, указывая на плотника. – Без него в мастерской заглохнет. И как его отпустили? Правда, завтра прибудут из города шефы – плотники.
Потом под стук колес ребята заговорили о том, где лучше бы поставить новую школу – на другом или на старом месте. В конце концов они договорились: будет ли строиться школа на новом или на старом месте, но она непременно должна стоять на высоком берегу и глядеть окнами на море.
Миша опасливо предположил, что женщины могут в этом вопросе «дать маху», но Гаврик уверил его:
– Ну, пусть майор не доглядит, так Ольга Петровна или Зинаида Васильевна подскажут.
И вдруг Гаврик почувствовал, что хозяйственные вопросы ему уже надоели. Он спросил Мишу, нельзя ли немного подвинуться к двери. По дверному просвету, как по экрану, с чудной быстротой проносились назад военные-строители с лопатами, кирками, со свежими шпалами. На плоской насыпи мелькали домики из реек, диктовых стен и диктовых крыш. Они были такие новые, чистые, что казалось – последний гвоздь эти военные вбили в них только сейчас.
Для Миши, как и для Гаврика, люди в шинелях, в фуражках и гимнастерках были самыми интересными людьми в мире: они прогнали фашистов, они – фронтовые товарищи их отцов и, может, где-нибудь встречались с ними.
Миша встал, достал из кармана плотницкий карандаш, оглянулся на спящего старика и широким взмахом провел в полуметре от двери красную черту.
– Вот! Дальше запретная зона! – сказал он, опускаясь на пол около самой черты.
– А еще немного, хоть на ладонь ближе, нельзя? – спросил Гаврик.
– Нельзя!
На небольшой узловой станции поезд остановился.
Иван Никитич, не поднимая стриженой головы, заспанными глазами посмотрел на ребят. Ребята сидели, поджав ноги, и о чем-то шептались.
– Михайла, все в порядке? – спросил старый плотник.
– В порядке, – ответил Миша, хотя беспорядок уже назревал.
На путях станции работало много военных. Солнце уже поднялось и в безветрии хорошо пригревало. Строители сбрасывали шинели, чтобы свободней было подносить шпалы, подтягивать рельсы.
Один из военных, пожилой человек с веселыми глазами, киркой закрепляя шпалу, сказал своему коренастому товарищу с желтой паклей усов под прямым носом:
– Рыбкой позавтракал, а она воды хочет.
– Вон чайник, – указал желтоусый.
– Пью только родниковую.
– Избалован. Попроси гвардейцев, – проговорил рыжеусый и посмотрел на ребят. – Пока поезд стоит, десять раз до родника сбегать можно. Вон бугорок и камни ворохом насыпаны.
Этому разговору взрослые, видимо, не придали большего значения, чем обычной шутке, потому что сразу же стали заниматься каждый своим делом. Но, услышав его, Миша и Гаврик заспорили.
Гаврик настаивал:
– Надо сбегать!
Миша приказывал:
– А я говорю – сиди на месте!
Гаврик запальчиво объяснил:
– Подумают – вот тыловые крысы…
– Пускай думают, а у нас свое дело.
– Дело коровье! Уполномоченный по коровьему делу!
Задетый за живое, Миша посмотрел на молодого кондуктора. Тот в стороне от поезда сидел на штабеле шпал и, греясь на солнце, ерошил волосы.
– Гаврик, можешь в два счета? – спросил Миша.
Но Гаврик уже сорвался с места, схватил синий чайник и со словами «За родниковой» кинулся через пути.
Миша вскочил, глубоко вздохнул и стал «переживать». Три опасных точки были под его наблюдением: Гаврикова взлохмаченная от бега голова, греющийся на солнце кондуктор и угол вагона, в котором спал Иван Никитич. Голова Миши поворачивалась так, как будто кто-то на невидимой веревке тянул ее от угла вагона через штабель со шпалами к серой стежке, прочерченной по полынному откосу, к бугорку с кучей камней. Лицо его было бледное, напряженное, а нос сморщился. Тетка с корзиной, продававшая кукурузники, проходя мимо, засмеялась:
– Ты, должно, маму потерял?
Когда Гаврик, сверкнув на солнце синим чайником, исчез за камнями, из-за белого домика появился главный. Закинув за спину руки, главный не спеша шел к головному вагону. Зевнув, поднялся и молодой кондуктор.
«Кричать Ивану Никитичу?» – побледнев, спросил себя Миша. Его растерянный взгляд остановился на военных. Они тоже следили за Гавриком.
Когда Гаврик вынырнул из-за камней, рыжеусый солдат сердито сказал:
– Должен успеть.
– Как знать. Главный вон уже за поручни держится. Возьмет да и свистнет. Ему губы не зажмешь, – сокрушенно заметил тот, кого рыбный завтрак потянул на родниковую воду.
«Крикну!» – подумал Миша, ощутив, как жарко горят его уши и щеки, но тут рыжеусый сказал:
– Честное гвардейское, должен вовремя прибыть.
И в эту минуту главный дал свисток так настойчиво, точно хотел сказать, что ему, главному, нет никакого дела до тех, кто опаздывает и кто отвечает за опоздавших.
Миша видел теперь только одну точку – Гаврика, вобравшего голову в плечи, изогнувшего спину так, как будто его сек дождь и град. Со сверкающим в левой руке синим чайником он уже достиг полосатого шлагбаума на переезде через пути.
«Может, машинист видит его и нарочно не дает свистка?» – с надеждой подумал Миша.
Гаврик уже перескочил через первый накатанный рельс, когда раздался свисток паровоза. Споткнувшись о второй рельс, Гаврик стремительно полетел в желтый песок, усеянный гравием. Чайник, расплескивая сияющие брызги, зазвенел по шпалам.
Вагон со скрипом сдвинулся с места, военные бросились к Гаврику, а Миша закричал что было сил:
– Дедушка!! Пропали!
– Кто пропал? – так же громко закричал спросонья дед и сильно дернул Мишу за плечо. В тот же миг вагон рвануло вперед, и старик с Мишей упали на пол. – Где Гаврюшка? Где он? – тряс Мишу старик.
За вагоном слышались поощряющие голоса:
– Жми на педали!
– Прибавь скорости!
– Багаж возьмите! – под удаляющийся смех прокричал кто-то около самой двери вагона. По полу тяжелым мешком прошуршал какой-то груз.
– Где Гаврик?! – кричал дед.
Миша, заплакав и засмеявшись, наконец ответил старику:
– Да он же тут! А вы кричите…
Гневно дыша, старик смотрел на обсыпанного мокрым песком, взлохмаченного Гаврика, уже поднявшегося на четвереньки.
* * *
Старый плотник, покроив первые валенки, вручил заготовки Гаврику, дал ему и шило с дратвой.
– Бери, посмотрим, на что тебе отпущен огонь – на дело или на безделье?
Плотник после объяснений с ребятами по поводу случившегося на станции наглухо закрыл дверь вагона.
Миша, разжалованный из «уполномоченных» в рядовые, сидел в сумрачном углу, освещенном небольшим окном под крышей.
– Побездельничай, подумай, – сказал ему старик. – А мы с этим бегуном трудом займемся. Труд ума прибавляет и жар на пользу поворачивает. Как шило держишь?
Гаврик стачивал голенища валенка. Серповидно изогнутое шило обманывало расчет неопытных пальцев: оно то выныривало очень далеко от строчки, то срывалось, не прихватывая краев.
– Шило имеет приспособление в обход идти, а ты прешься напрямую… Затяни потуже, с сердцем затяни, но не рви!.. Порвал? Такие и будешь носить. По валенкам угадаем мастера…
Подобрав под себя ноги, Гаврик сидел с красными щеками и со вспотевшим лбом. Старик стоял напротив, прямой, как воткнутый шест.
Гаврик до крови наколол палец, но, вздрогнув, даже не поднял сосредоточенных глаз. Мише стало жалко товарища.
– Гаврик, а ты думай только про шило, про валенки, а больше ни про что…
– Чепуху сказал! – обернулся старик к Мише. – Думать ему есть о чем. Пальцы колоть я его не учил. Положим, ты, Михайла, теперь рядовой, разжалованный, спрос с тебя невелик: доставай харчишки, мы закусим, а он повременит. В наказание.
– Дедушка, он и так работает.
– Молчи. Трудом не наказывают, а исправляют.
Гаврик шил, искоса поглядывая на старика, на Мишу. Они сидели в углу, ели кукурузные оладьи, накладывая на них кусочки мелко нарезанного лука. Гаврик думал: «Скажу деду, что он тыловая крыса, и на первой же остановке незаметно исчезну из вагона. С первым же обратным поездом вернусь в село…»
До сих пор думалось так же легко, как ехалось до узловой станции. Но дальше думать Гаврику было просто страшно. Вот он вернулся в село, его окружают колхозницы и, покачивая головами, говорят: «Нашли кого посылать по такому большому делу… Ну что спросить с Гаврика Мамченко?.. Товарищ майор, вы же военный человек, а не сообразили…»
И Гаврик со свойственным ему горячим воображением видит майора. «Бог войны» стоит в стороне, поправляет повязку на руке и говорит: «Вина моя… Михаилу Самохину по заслугам поверил, а этого… Этого не знал и ошибся».
Нестерпимый стыд заставляет Гаврика отложить в сторону валенок. Он осматривает стены качающегося пустого товарного вагона.
– Тебе тесно? – спрашивает старик, вытирая ладонью сухие, морщинистые губы.
– Нет, – отвечает Гаврик.
– Чего же озираешься?
– Жалко, дедушка, что нету хорошего, прочного гвоздя и веревки. Привязали бы за ногу, чтоб другой раз за водой не бегал.
– Вижу – становишься на правильную точку. Можешь оладьями побаловаться, – смеется подобревший старик, облегченно вздыхает Миша и, потеснившись, дает место Гаврику около походного стола.
Мир снова воцарился в вагоне. Колеса ясней и четче отсчитывали километры быстро бегущей дороги. После завтрака Иван Никитич снова открывает дверь.
– Я не против солнца, да и валенки тачать видней! Михайла, Гаврик, когда валенки у человека на ноге улыбаются?
Ребята почти в один голос отвечают:
– Когда красиво сделаны!
– Такие валенки и будем шить, – сказал Иван Никитич и тут же добавил: – Будем шить не спеша, чтобы успевать посматривать, что нового по сторонам!
* * *
– Благодарны мы премного, – говорил Иван Никитич, уходя из вагона следом за молодым кондуктором. – Довез ты нас до этого места хорошо.
Миша и Гаврик, сложив сумки, притихли, стоя на невысокой эстакаде. В стороне, ближе к большому вокзалу, темневшему обугленными стенами и пустыми просветами окон, в огромную железную толпу сбились пассажирские составы. Там сновали люди с мешками, чемоданами, узлами, с самоходными тележками. Грузчики в серых фартуках кричали:
– Кому помочь? А ну, кому надо помочь?
Покачивая фонариком, молодой кондуктор легко пробирался в этой вокзальной сутолоке и на ходу отвечал старому плотнику:
– Теперь уж вам надо идти на пригородный за билетами. На Сальск поезд вечером.
– Гражданин, ты уж подскажи, – торопился за кондуктором Иван Никитич и в то же время оглядывался на ребят.
– А я ж и подсказал, – не останавливался кондуктор.
– Подсказал ты самую малость.
– А что тебе еще надо? – удивляясь, остановился кондуктор.
– Чтоб вошел в положение.
– В какое?
Иван Никитич громко ответил, преграждая собеседнику путь:
– А вот в какое – спешить нам надо.
– Теперь все спешат…
Указывая на Мишу и Гаврика, по-прежнему стоявших с пожитками около товарного вагона, старик Опенкин еще настойчивей стал убеждать молодого кондуктора:
– Мне с ними, с ребятами, прибыть в Целину ночным часом не положено. Потом же время осеннее, а оттуда нам с коровами пешим ходом до дома добираться… Когда же это мы вернемся?!
– Да что тебе нужно? Что прилип?
– Скорость движения нужна. Подскажи, что делать.
Ребята видели, как у молодого кондуктора от досады заерзал затылок, и он так крутнул головой, будто тесен стал ему воротник.
– Миша, как бы у нашего старика с кондуктором не начались прения? – настороженно заметил Гаврик.
Но опасения Гаврика не оправдались. Случилось, что именно в это время мимо кондуктора и мимо Ивана Никитича пробегала женщина в шинели и темном берете со значком железнодорожника.
– Марфа! Марфа! Ты на главный? Возьми, пожалуйста, с собой старика. Я спешу, а он пристал и не пускает!
– А что ему, старику? – спросила Марфа.
– Он словоохотливый, сам расскажет, – облегченно вздохнул кондуктор, провожая глазами Ивана Никитича, которого Марфа уже тянула за рукав дубленого полушубка.
Старик оглянулся, коротко взмахнул рукой, Миша и Гаврик вскинули на плечи сумки, мешок и двинулись вдогонку.
Через несколько минут, выйдя вместе с потоком пассажиров через калитку в железных воротах, они остановились около двери маленького домика, прилепившегося к громадным обгорелым постройкам кирпичного вокзала. На двери висела стеклянная дощечка с надписью: «Начальник вокзала». Дверь не закрывалась, потому что тесный коридор и следующая за ним комната битком были набиты людьми. Из их крикливых разговоров ребята сразу поняли, что все эти люди хотят видеть начальника, хотят получить от него разрешение погрузиться на поезд.
Марфа попыталась провести за собой к начальнику старика Опенкина, но выбралась из толпы с оторванной пуговицей и недовольно сказала:
– А могли и полы оборвать. Тесно.
Заметив ребят, спросила:
– Это и есть твои помощники за коровами?
– Ну да же, да… Поглядишь, и сердце стынет, – морщась, как на морозе, ответил Иван Никитич.
– Попробуем еще одно. Давай документы, зайдем с другого конца. У вас не своя, общественная нужда. А вы сядьте около заборчика – и ни с места, – пригрозила она ребятам и увела за собой старика.
Оставшись одни, ребята приуныли.
– Делать нечего, присядем, – посоветовал Миша.
Присели и стали ждать: удастся ли деду справиться с трудностями, которые вдруг могут помешать так хорошо сложившейся вначале дороге?
– Начальник – он один. А к нему все… Может, и не выйдет…
– А дед? – спросил Гаврик.
– Дед – орел…
Вернувшийся дед мало походил на орла: руки у него были опущены, а взгляд хоть и сердитый, но усталый.
Иван Никитич что-то шептал себе под нос. Не замечая ребят, он прошелся взад и вперед и вдруг, резко остановившись, сказал:
– Михайла, Гаврик, не будем вешать голов! До начальника прутся и такие, кому надо поехать за дешевыми калошками, за сластями… кому что… Не поймет начальник – на штурм пойдем! Мы знаем, с чего начать…
Но «начинать» Ивану Никитичу не пришлось – вовремя открылась форточка, и из окна крикнули:
– Кто там Опенкин с Миуса? Что до Целины? Сколько вас?
– Сколько есть, все налицо, – выстраивая ребят против форточки, ответил Иван Никитич.
– И эти за скотом?
Начальник оказался человеком пожилым, с утомленным морщинистым лицом. На ребят он посмотрел холодно, без интереса, а старику сказал:
– Спешить надо, а то зайцев твоих порошей накроет.
– Они у меня такие…
Старик хотел сказать что-то хорошее про своих ребят, но начальник остановил его:
– Иди, иди на перрон, к двери! Там человек с документами. Он и отправит вас порожняком.
И форточка закрылась с той же сердитой внезапностью, с какой открылась полминуты назад.
* * *
И вот они снова в дороге, снова в качающемся товарном вагоне.
Все трое сидят в углу и говорят о людях, с которыми встречались. Мише и Гаврику интересно проверить, так ли они думают о новых знакомых: о тетке Марфе, о начальнике вокзала, о молодом кондукторе, о седоусом главном.
Миша говорит:
– Дедушка, тетка Марфа здорово помогла нам.
– Согласен, – отвечает старик.
– Сидеть бы нам до ночи.
– А это, Михаила, как сказать… – втягивает щеки Иван Никитич. – Ей, Марфе, конечно, спасибо и многие лета, а всему голова начальник вокзала.
Гаврик такого ответа не ожидал. Ему начальник определенно не понравился, и он был убежден, что такой начальник не мог понравиться ни Мише, ни Ивану Никитичу.
– Чем же он хороший? – спросил Гаврик.
– А чем плох?
– «Иди на перрон», – передразнил Гаврик начальника, – мол, не загораживай свет… А фортку закрыл у вас под самым носом…
Иван Никитич, хватаясь за нос и раскачиваясь от смеха, говорил Гаврику:
– Мог и нос прихватить. Без носа я оказался бы в Целине смешным представителем. От такого представителя и коровы шарахнулись бы…
Когда шутливое настроение прошло, старик обратился к Гаврику:
– Ты напрасно в обиде на начальника. На блины он нас, правда, не пригласил, но про главное не забыл… Михайла, ты слыхал, как он нас спросил: «Кто там…?»
– «Кто там с Миуса?» – повторил Миша слова начальника.
– Слышишь, Гаврик? С Миуса – из разоренного района. Это ж и есть главное… А то, что не спросил о здоровье, то уж другая, малая статья. Некогда человеку, делом занят. Под руку ему не болтай.
– Дедушка, а тот усач, главный, по-вашему, он тоже правильный? – спросил Гаврик.
– Худого про него не скажу… Замечаю, что тебе он не понравился… Тогда же кто тебе по сердцу?
– Тетка Марфа…
Старик остановил Гаврика:
– Марфа, Марфа! О ней уже сказано… Еще-то кто?
– А еще молодой кондуктор.
– Михайла, а ты что про него скажешь?
– Хороший, непридирчивый. Да его и по глазам видно – добрый.
Старик лукаво улыбнулся, и по этой улыбке ребята поняли, что в оценке молодого кондуктора Иван Никитич с ними не согласился. Ребята обменялись взглядами и без слов сразу договорились, что хотя дед и орел, по ошибиться и он может. И не случайно он только улыбается, а ясного слова в свое оправдание не сказал.
– Добрый, говоришь? – спросил старик.
– Добрый, – уже настойчиво ответил Миша.
Гаврик, молчаливо поддерживая товарища, сбоку показал Мише туго сжатый кулак, что значило: стой на своем – и ни шагу назад.
– Михайла, это хорошо сказать про коня «добрый», а он человек, не конь.
– Кони тоже разные бывают.
– Согласен, – улыбнувшись, задумывается старик.
Гаврик уже успел шепнуть Мише:
– Дедушка не знает, что сказать… Посмотри на него.
Гаврик ошибся: дед задумчиво улыбался вовсе не потому, что растерялся, не зная, что ответить. Такое задумчивое спокойствие приходило к нему всякий раз, когда заботы дня кончались хорошо, когда он знал, что будет делать завтра. В такие минуты ему всегда хотелось быть по-детски откровенным и рассказать о том, что в мимолетной жизни он заметил хорошего, плохого, что было непонятным, а потом внезапно открылось, как открывается солнце, прорвав гряду облаков… Не всякому интересно слушать то, что обычно принято у людей «хранить за пазухой». Жалко, что умерла лучшая собеседница – старуха. Жалко, что сноха бездетна и черства. И вот суровая жизнь свела его в этом качающемся, немного поскрипывающем товарном вагоне с попутчиками, у которых душа нараспашку, про которых без преувеличения можно сказать, что на душе у них то же, что и на языке. Казалось бы, теперь старик мог говорить обо всем, говорить, как думать вслух, но незаметно вместе с детской откровенностью к старому сердцу Ивана Никитича подступили чисто детское смущение и застенчивость. Он почувствовал, что говорить надо только о том, что знаешь твердо. Он осмотрел ребят подобревшими глазами и несмело сказал:
– Может, молодой кондуктор и в самом деле хорош. На деле его не проверял. Поклеп возводить на человека не стану… Только про коня ты, Михайла, напрасно толкуешь. Кони, и добрые, и ледащие, – все они на узде, все следом за поводом. А человек – иное. Спрос с него большой… Мало, что люди с него спрашивают, – он сам прежде должен с себя за каждый шаг спросить… Вон Гаврик на той станции задрал хвост, как жеребенок, и поскакал… Хорошо, что так кончилось. А если б иначе… Мы б его искать. Дорога бы расстроилась, и с нас бы спросили.
– Кондуктор за Гаврика не отвечает, – стремясь снова отстоять молодого кондуктора, заметил Миша.
– Опять же говорю тебе, Михайла, может, он дельный человек… Показалось мне: чесался много, зевал широко, а ноги передвигал, как сонный. Забота другого человека на крыльях несет, а его, видать, на аркане тянет. Говорю: может, я ошибся, может, только показалось мне.
Ребята молчали, с уважением посматривая на худого, щуплого старика с горячими пепельно-серыми глазами, в которых блестели одновременно и жадная стариковская тоска, и чисто детское, наивное озорство. Теперь Мише и Гаврику совсем не важно было победить деда в споре о молодом кондукторе. Важно было, что Иван Никитич не навязывал им своего непроверенного мнения. Само собой было понятно, что старик разговаривал с ними как с равными, без шутливой и обидной снисходительности взрослых, а по-дружески и просто… Даже все спорное, непроверенное, что сказал старик о молодом кондукторе, было интересно, заставляло думать.
Старик встал, чтобы шире открыть дверь, и Гаврик нетерпеливо прошептал:
– Миша, ну как старик?
– Я бы его слушал и слушал.
Иван Никитич, подозвав ребят к двери, сказал:
– Смотрите, степь-матушка поплыла… Глазу раздолье, как на море. Гляди да улыбайся… Делать-то пока нечего.
И все трое молча смотрели на широкую степь с серым грейдером, крутой дугой изламывающимся на далеком взгорье. Смотрели на одинокие машины, на серые полосы пара, на черные загоны зяби. Тракторы, работающие по ту сторону широкой суходольной низины, напоминали хлопотливо ползающих жуков. Над потускневшим золотом жнивья, прошитого зелеными нитями пырея, над скирдами соломы, которые маячили длинными островками среди безбрежья степи, парил коршун.
– Это Сальские? – тихо спросил Миша.
– Только начинаются. Когда-то пешочком с обозом их промерял. Поприглядимся к ним, – многообещающе ответил старик.
* * *
Утром следующего дня в узком коридоре, на деревянной скамейке, около двери с надписью «Секретарь райкома», сидели Иван Никитич Опенкин, Миша и Гаврик. Они ночевали в Доме колхозника и пришли сюда пораньше.
– Мы, ребята, за помощью. Нас могут и не ждать, а нам надо быть на месте. Дело так указывает.
Старый плотник сказал это степенно, но от ребят он не мог скрыть беспокойства, глубоко спрятанного в дымчато-серых старческих глазах.
Ребята вспомнили, что у старика будут трудные разговоры: ведь куда легче помогать другим, чем самому просить о помощи. Сочувствуя Ивану Никитичу, Миша и Гаврик украдкой посматривали на него. Замечая это, старый плотник успокаивал их:
– Ничего, ребятки, мы не батраки. Не к господину с поклоном. Секретарь нашего райкома Василий Александрович, ведь он знал, к кому нас посылает.