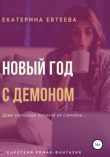Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
– Чего ж хорошего, бродят по чужому двору, как по своему. И почему ж собаки-то не кидаются на них?.. В дом вошли… Без приглашения… – негромко сообщал с лестницы Матвей.
– Видать, в доме-то никого не осталось… А взять там есть чего… Вот уж наберутся на всю жизню! – сказал Семка Хрящев и, зажмурив один глаз, покачал головой.
Семка Хрящев был соседом Матвея слева. Когда со двора пропадали топор, лопата, налыгачи, вожжи, у Матвеевых говорили: «Налево уплыли». Соседу справа Матвеевы полностью доверяли. Звали этого соседа Мишка Мотренкин – это по матери, которая рано овдовела. Маленький, сутуловатый, в фуражке с кокардой, в поношенной поддевке, он тоже стоял около лестницы, – пришел к Матвею окончательно договориться об обмене кормовой пшеницы на посевную. Поглядывая вверх на Матвея и добродушно улыбаясь, Мишка сказал:
– В чужой двор не стоило бы им заходить… Не надо разжигать злобу. И по ихней газете, по «Бедноте», надо понимать, что с зажиточными пошло вроде на примирение: сей, сколько под силу, только продналог выставляй к сроку. Продналог нужен – содёрживатъ государство…
Матвею сейчас не за чем было наблюдать: дед Никиташка с Маврой и Ульяшкой, войдя в дом Аполлона, видать, не спешили выходить оттуда. Присев на перекладину и сунув молоток в широченный карман полушубка, он сказал Семке Хрящеву:
– Сточит тебя тоска по чужому. Ты бы уж был теперь около Аполлонова добра, так речка бушует… Иди домой, жена вон по саду ищет тебя…
Семка ушел. Матвей хотел этого и с умыслом обидел его.
– Ворюге ни в чем не доверяю… А тебе, Михаил, совет мой – здорово не распространяй, что и как они там пишут… Хвиной-то вот висит на нашей шее, а мы его продналогом будем подкармливать. Об этом надо потолковать. Говорю тебе по-свойски: ты ведь при той жизни в почет входил… и за столом рядом с атаманом иной раз посиживал – бумаги составлял… По-свойски хочу спросить: не знаешь ли, что ночью в хуторе сотворилось?
– Кое-что сотворилось, – сказал Мишка, и губы его, привыкшие во дворе Матвея улыбаться, раздвинулись, оголив крепкие зубы.
– А знаешь, кто кого прижал к воде на Чиру?
– Кочетовцы Кудрявцева с его…
Мишка не договорил. С порога жена Матвея, погрозив ему и мужу веником, сказала:
– А ну-ка, оба в хату! Кому говорю? Разболтались не к часу…
Медленно слезая с лестницы, Матвей видел, что дед Никиташка с Ульяшкой и Маврой уже вышли со двора Аполлона, держа путь к Бирюковым. Дед и Мавра шли с пустыми руками, а Ульяшка несла под мышкой белый узелок.
– Что же у ней в том узелке? – Матвей задержался на лестнице и, забыв про жену, так широко открыл рот, что рыжая борода его сразу удлинилась не меньше, чем на два пальца.
– Ворона влетит! Идите, куда сказала! – рассердилась жена и, загоняя хозяина и гостя в дом, с огорчением говорила Мишке о муже: – Человек как человек: и умом, и ростом, и телосложением удался, а вот рот раскрывает, как воротá… Никак не отучу – чистое горе!
– Не бреши попусту. Лучше узнай мне, что в том узелке у Ульяшки.
– Дался тебе узелок! Мы вот сейчас с Катериной на Верхняки пойдем, – кивнула жена Матвея на дочку, когда вошли в переднюю. – Оттуда ворох новостей принесем.
Дочь Матвея, молодая рослая девка, рыжая, как отец, вынимала из печки кувшины с топленым молоком и ставила их на прочный низкий стол. Матери она ворчливо сказала:
– Уйдем в Верхняки, так этот кот, внучек ваш, все вершки поснимает… Вон два уже снял, нацелился на третий… Уйди, Бориска, не то рогача покушаешь… Господи, и когда эта речка уймется, в школу б тебя загнали ума набирать…
Бориска, спрятав ложку за спину, взглянул на деда: в доме он считался только с ним. Дед отмахнулся. Проталкивая Мишку в спальню, распорядился:
– И те, что снимают вершки, и те, что не снимают, – все чтобы уходили в Верхняки… Не мешайте нам…
Давным-давно в передней заглохли голоса жены, дочери и внука. Ушел и Мишка Мотренкин, начадивший в спальне дешевыми папиросами. Матвей снял с себя резиновые сапоги, отнес их в коридор, а вернувшись, прямо в штанах и теплом жилете лег на просторную деревянную кровать с выточенными шишками на высоких спинках. Его, никогда не курившего, раздражал табачный дым, и он думал:
«Мишка раньше ни за что не посмел бы закурить даже в передней, а теперь без спроса начадил в спальне… Видать, считает, что ему дадено этой властью понимать о себе больше… Заговорил об обмене и намекнул, что, если я не соглашусь, пойдет в совет просить семенной пшеницы… Там, говорит, кое-что имеется для бедноты и нашего брата – середняка… Сморчок несчастный! А откуда оно взялось в общественном амбаре? Об этом он будто и не догадывается! И зачем я его в дом пускал? Что он мне особого рассказал?..»
Матвею не хотелось признать, что о событиях минувшей ночи Мишка знал гораздо больше его. Он поклялся, что Гришка Степанов сложил буйну голову в Хвиноевой хате, когда был у Наташки на посиделках.
«А на черта мне такая новость? Кто тебя с нею ждал? – сердился Матвей на Мишку. – Про Аполлона спрашивал тебя – тык-мык и ничего не знаешь…»
И Матвей стал думать об Аполлоне. Странно, не любил он этого человека, но всю жизнь хотел быть таким, как он. Он и не пытался объяснить себе, как же это увязывается, да и не смог бы, потому что не был особенно умен. Чутьем разгадывал Матвей, какие хитрости пускал в ход Аполлон, чтобы в дому росло богатство. Но разгадывал всегда с опозданием и потому вечно злился на него. И все же, беря пример с Аполлона, он хоть и с опозданием, но умножал достаток двора и тогда с восхищением и завистью отзывался об Аполлоне:
– Башковитый, чертяка!
Несколько раз в жизни Матвей совершенно не мог понять Аполлона… Свергли царя Николая Второго. Матвей считал, что это брехня, и, доказывая свою правоту, говорил, что он служил в лейб-гвардии казачьем полку, сам стоял на часах у подъезда его императорского величества, стоял с обнаженным палашом… Посмел бы кто-нибудь свергнуть!..
– Сразу бы башка с плеч долой!
Аполлон тогда посмеялся над ним и сказал:
– Царь, Матвей, перевелся на пшик. Ты не тоскуй по нем. Ты знаешь Ивана Спиридоновича?..
Кто же не знал казака Ивана Спиридоновича, который сумел нажить две паровые мельницы, сменил казачье обмундирование на дорогой черный сюртук и кепку и разъезжал по хуторам и станицам один, в дрожках, похожих на седло. Да и сидел он в них, как в седле… Матвей не раз видел этого белобородого старика, тощего, как гончая собака, в сельскохозяйственном кредитном товариществе, на складе сельскохозяйственных машин, на посадке сосновой рощи около новенькой больницы, где должен был работать его сын – молодой врач. Старик мало с кем здоровался и все спешил.
– Знаю. А что? – спросил Матвей Аполлона.
– Вчера, знытца, в станице с ним отвел душу. Он сказал, что царь умным, деловым людям давно был помехой. Если, говорит, революция во всю силу разыграется, придется сцепиться с фабричными. Все придется поставить на кон… все… Пожалеем себя или свое добро – будем биты. Надо и в драке показать, что мы умней и сильней. На мелочь бы не размениваться… Я, знытца, подумал и согласился с ним, – закончил Аполлон.
– А я не согласный, чтобы над батюшкой-царем насмешки строили, – запротестовал Матвей. – Нам, казакам, он был хорошим. А твой Иван Спиридонович пошел к чертовой матери! Сам он лишился казачьего обличья и других толкает на это!
Помнит Матвей, что уже перед самой осенью приехал из Москвы сын Стефан, привез с собой Бориску. На Стефане уже не было погон жандармского вахмистра. Оставив Бориску у деда, он этой же ночью уехал, сказав на прощанье отцу:
– Нам, царевым слугам, надо в кусты схорониться, пока не поздно.
– От фабричных, что ль? – с тяжелым недоумением спросил сына Матвей. – Так у нас же их нету! – И стал убеждать сына недельку побыть в гостях.
– У фабричных тут союзники найдутся: кое-кто из фронтовиков к ним тянется. Нет, ты уж, папаша, меня не задерживай. За внуком гляди… Скажи, что привез его кто-то чужой… Скажи, что Бориска, видно, в беде отца-матери лишился… Да и царей со стены поснимай для спокойствия…
Матвей, конечно, не сразу, но «поснимал царей». На обструганных сосновых брусьях стены, на два аршина выше задней спинки кровати, и сейчас светлеют места, где десятки лет висели их портреты. К свержению Временного правительства Матвей отнесся с насмешливым хладнокровием.
– Оратели, крикуны… Как охрипли, так и кончилась их власть.
Тогда Матвею даже подумалось: покрутится жизнь и уляжется в прежние берега. Но «фабричные», которых он теперь называл большевиками, уже утвердились почти по всей России и теперь фронтом шли на Дон.
Аполлон впервые тогда пришел к нему во двор и, заикаясь, кричал:
– Почему не помогаешь нашим войскам остановить большевиков? Ты, знытца, по-старому на царя да на бога уповаешь?.. Завтра я веду в станицу своих вороных коней, а ты веди серого! Кавалериев не хватает нашим войскам. Не сиди, знытца, как гриб на пеньке!
– Да что, по-твоему, конь – это яичница жареная или чашка кислого молока? Ты найди кого подурнее! – отругнулся Матвей. Он не мог поверить, что и Аполлон поведет сдавать своих вороных. Но Аполлон сдал их на мобилизационный пункт.
Припомнил Матвей и такой случай. Чуть больше года назад, зимой, когда они с Аполлоном в толпе хуторян убегали от наступавших большевиков, Аполлон не на шутку удивил его: во двор, где остановились передневать, он сам зазвал двух офицеров и отдал им своих добрых коней, а себе взял офицерских, заезженных… Офицеры, прощаясь, называли Аполлона «дорогим папашей», записали, кто он и где живет, поцеловали. Аполлон вытирал глаза… Матвей все это видел из сарая, где стоял со своими лошадьми. Он тогда боялся, как бы его не заметили, и хоронился за арбами. Сберечь лошадей ему все же не удалось: по дороге домой их отобрали красные конники, которые спешили догонять белых. Сморкаясь, Матвей неумело плакал по лошадям. Аполлон назвал его «бестолочью» и бросил ему в лицо:
– В чьи руки попали твои лошади? Это ты рассудил?
– Ты змея, а не человек! – огрызнулся Матвей и, обращаясь к хуторянам, стоявшим около внезапно обезлошадевших саней, говорил: – Поглядите на этого душегуба: у меня коней забрали, а он лезет с рассуждениями!
И вот теперь, когда добра во дворе заметно поуменьшилось, когда убывала вера, что завтра будет лучше, чем сегодня, Матвей иногда подумывал:
«А ведь Аполлон во всем был умнее… Жалко, что мы последний год ни словом не обмолвились. Нас с Ковалевым он считал опасными дураками, избегал встреч… Ковалев-то – он такой и есть…»
О себе Матвей не захотел так думать.
«Знать бы, какой дорогой отправился наш Аполлон Петрович и что у него на уме?!»
Матвей уже не мог больше лежать на кровати. Чтобы меньше испытывать терпение, ожидая своих с новостями, он пошел убрать на базах, напоить скотину, задать зерна курам, гусям… За работой он все напоминал себе: не забыть завтра же утром отсыпать Мишке Мотренкину семенной пшеницы и посоветоваться, кому бы еще помочь семенным зерном…
* * *
Верхняки – это пять дворов, просторно разбросавшихся почти у самых истоков Осиновки. Сейчас до них можно было добраться только горой, обходя яры, гремевшие мутными потоками. От Матвеева двора горовой дорогой до Верхняков не меньше восьми верст. Неудивительно, что жена Матвея с дочерью и с внуком вернулись от свояченицы уже темным вечером.
Когда дочь и внук, измученные грязной дорогой, ушли спать в горницу, Матвеиха – так звали жену Матвея хуторяне, – лежа с мужем на просторной семейной кровати, стала рассказывать ему новости.
Первая новость – на верхняковской переправе по мелководью на ту сторону речки переехали Хвиной с Наташкой, за ними забродинские – Резцов Наум с сыном Яшкой… И Хвиной, и Резцовы – все трое на заседланных лошадях, при оружии… Только безоружная Наташка сидела сзади седла, за спиной у свекра.
– Теперь угадай, чей конь был под Хвиноем и Наташкой? – оживленно спросила Матвеиха.
– Откуда мне знать?
– Ну, держись, чтоб с кровати не упасть… Аполлонов Рыжик! Этот, что с проточинкой на лбу.
– Да-а… – только и мог сказать Матвей.
– У-гу, – будто маленького, передразнила мужа Матвеиха. Она была весела, потому что про запас держала утешительную новость, а еще потому, что вообще отличалась наивностью и доверчивостью. Обиды, наносимые советской властью, она переживала бурно, но быстро успокаивалась сама и старалась успокоить мужа. Она и раньше, когда Матвей ссорился с работниками, умела все уладить с пользой для двора… Матвей не мог пожаловаться на свою жену и как на ласковую подругу… И сейчас вот она пальцами перебирала его бороду.
– Ты бороду-то не трожь, я теперь как полохливый конь. Лучше расскажи, что узнала про Аполлоновых, – отстраняя руку жены, сказал Матвей.
Вторая новость – у Аполлона сгорел амбар и скирда сена, дом брошен настежь открытым, в комнатах разбросаны узлы с одеждой. В горнице на полу зареченцы нашли клочья самого дорогого Гашкиного платья – шерстяного с шелковой отделкой. Завернули эти клочья в узелок и принесли к Ивану Петровичу Бирюкову.
– Говорили там, будто Гашка нарядилась в это платье ради Фильки Бирюкова, собиралась совсем к нему уходить, а отец с матерью и с Мироном другого жениха ей припасли… Понятно? – рассказывала Матвеиха.
– Как об этом узнали, от кого? – спросил Матвей.
Уловив в голосе мужа недоверие, Матвеиха обиженно заметила:
– Я через речку на быках за этими новостями переезжала, к бабке Никиташкиной нелегкая меня носила за ними… Ноги промочила. Вот отогрей их, а то не расскажу, как Филька убивается по Гашке, как он встал с постели. «Будя, говорит, лежать», – вытер глаза и начал одеваться…
– Не по нраву мне новость про Фильку, не стану ног отогревать… – И Матвей, вздохнув, отодвинулся. Но все же за третью новость ноги жены ему пришлось отогревать.
Третья новость – из Утиновской петли красные не в силах вырваться. Если Чир и другие речки за сутки не войдут в берега и помощь им не подоспеет, кочетовцы истребят и Кудрявцева и его взвод.
Матвеиха уснула, а Матвей вышел во двор. Зачем?.. Ни за чем. Послушать ночь, хоть в ней поискать утешения, а может, и надежды на завтрашний день.
Из-за плетня его позвал Мишка Мотренкин:
– Дядя Матвей, ты не спишь?.. Подойди сюда… Тут слышней.
Матвей подошел к Мишке. За домом, у низкого плетня, влажный ветерок был хорошо ощутим. Он приносил с собою смутные людские голоса, постукивание колес. Не смутным был только голос Хвиноя, охрипший и распорядительный:
– Быками управлять на коротком налыгаче! Арбы чтобы не напирали одна на другую! Дед Никиташка, Ульяна, Мавра, ни малым, ни старым в этом месте не доверяйте! Сами следите за людьми и за всем остальным! – будил этот голос наступившую ночь с матово-серым небом, с дрожащими на холодном ветру звездами.
Мишка Мотренкин давал притихшему Матвею одно разъяснение за другим:
– В Верхняках переправились через речку, а теперь, слышишь, переправляются через мосток на Крутом ложке… Всю скотину забрали и двигаются к кучаринской дороге. Испугались кочетовцев… А Филька Бирюков и Наум с Яшкой при боевом оружии еще до захода солнца умчались за мельницы по чирской дороге… Не иначе, как Кудрявцеву на подмогу… На хозяйстве остался Хвиной… Слышь?
Ветер продолжал доносить приглушенные, удаляющиеся голоса, и по-прежнему яснее других слышался голос Хвиноя:
– Малых не простуживайте! Досматривайте за ними получше!
Матвей тяжело вздохнул, удивляясь энергии, с какой Хвиной бился за новые порядки… Свежи были мысли об Аполлоне, о своих ошибках. Ему захотелось быть деятельным в эту ночь – сейчас же!..
– Михаил, – обеспокоенно заговорил он, – мы не знаем, что будет завтра. Ты иди-ка сейчас за мешками и без всякого обмена бери из моего амбара семенной пшеницы… Дам и косоплечему, – кивнул Матвей в сторону подворья Семки Хрящева. – Дам каждому, кто нашей веры придерживается, кто сумеет урожай собрать и стороной продналог обойти… Разумеешь?
– А чего ж не разуметь. Надо сделать так, чтобы ихнюю власть не содёрживать, – усмехнулся Мишка и заспешил домой за мешками, а Матвей пошел взять ключ от амбара. Долго возился он около закромов, сделав так, что все пять его посетителей свиделись у него во дворе.
«Чтоб были связаны в один узел», – подумал он и всем дал поровну, чтобы не было обиженных, однако вдвое меньше, чем они просили.
«Дам еще, если это пойдет на пользу… А то ведь Мишка Мотренкин – он, как тот козел, что меж двух стогов длинно привязан: захочет из этого дернет сена, захочет – из другого…»
Он уже запер амбар и хотел было уходить спать, но внезапно столкнулся с пришедшим за ним Хвиноем.
* * *
– Не вздумай кричать, – предупредил Хвиной Матвея. – И тебе лучше будет, и своих зазря не побудишь.
У Матвея в большой вздрагивающей руке, обсыпанной крупными пятнами веснушек, качался непотушенный фонарь. В свете его виден был до неузнаваемости похудевший Хвиной: покатые плечи его обвисли, сам он стал меньше, будто усох. Матвей легко бы с ним справился, но в руке у Хвиноя был револьвер, за плечом винтовка, а глаза его пугали холодной решимостью.
– Как же с фонарем? – спросил Матвей.
– Давай его… – Хвиной взял у Матвея фонарь, потушил его, и, негромко скрипнув калиткой, они вышли со двора. – Держи налево. Горой пойдем. К подворью кума Андрея…
Матвей шел впереди. Шагах в трех за ним следовал Хвиной. Пока вышли на гору, успели твердо договориться: Матвей не имел права оборачиваться, ускорять шаги, но спросить кое о чем Хвиноя ему разрешалось.
– Ты же в Кучарине должен быть… Как же ты так скоро вернулся оттуда? – все еще не веря тому, что с ним происходит, спросил Матвей.
– Ночь такая, что спешить надо, – скупо бросил Хвиной.
И в самом деле, не мог же он рассказывать Матвею, что вместе с Филиппом и Наумом они рассудили так: если кочетовцам суждено жить еще день-два, пока речка в разливе, они обязательно заскочат в Осиновский за Гришкой Степановым. А от кого они могли бы узнать, что с Гришкой?.. Кто рассказал бы им, куда девались зареченские активисты?.. В список самых подозрительных, тех, кто мог бы выдать активистов, погубить лучших людей, вошли Федька Евсеев, Семка Хрящев, Матвей… И Хвиной обязан был упрятать их в общественный амбар, а если кочетовцы подойдут, то и убрать заблаговременно.
– Я ж Андрея Зыкова не убивал, зачем ведешь к его подворью? – опять спросил Матвей.
– Сильно ты разговорился! Прибавь-ка шагу! – оборвал своего подконвойного Хвиной, да таким голосом, что у Матвея пропала охота задавать ему вопросы.
А у Хвиноя была очень серьезная причина стать вдруг неразговорчивым и злым. В амбаре пока что был заперт один только Семка Хрящев. Теперь там будет и Матвей! Но самого главного преступника – Федьку Евсеева, который должен был первым попасть под замок, Хвиной нигде не нашел. Оставалась еще надежда, что Наташка, посланная к жене Федора, с которой всегда дружила, выпытает, куда девался ее муж.
– Левей держи! – приказал Хвиной, и Матвей повернул под гору.
Наташка отомкнула замок, висевший на двери общественного амбара, и, пропустив Матвея, снова заперла. Хвиной, засунув в карман револьвер, облегченно вздохнул и спросил сноху почти шепотом:
– Как у тебя?
– Ничего хорошего… Федьки дома нету…
– Может, Махорка скрывает? (Жену Федора Евсеева звали Марфой.)
– Нет, папаша… Он же соки из нее выпил: налопается досыта, выспится как следует… и пошел по зазнобам… – говорила Наташка.
– Не скрывается ли он в погребе, на чердаке?
– Махора сказала, что, если бы скрывался дома, давно уж вылез бы пожрать…
– А, да ну его!.. Днем не удалось поймать, а ночью трудней. Ты лучше скажи, где у нас Петька?
– В хате.
– Как в хате? А с зареченцами в Кучарин он не пошел? – удивился Хвиной.
– Пошел, да возвернулся. Говорит, хоть помирать – лишь бы с батей и с тобой. Когда будет помирать – не знаю, а сейчас проголодался и просит картошки сварить, – сказала Наташка.
– А ты ему свари, свари… – заторопил сноху Хвиной. – Сейчас пойди и свари… Нам с тобой тоже не мешает немного подкрепиться.
Наташка ушла варить картошку, а Хвиной остался на часах. Он ходил вокруг и около амбара… Ночь текла своим чередом: передвигались созвездия по глубокому темному небу; ветер то усиливал свой бег, то приостанавливался, будто не веря, что избрал правильную дорогу, и снова набирал скорость; недружно прокричали петухи… И все же звукам ночи недоставало чего-то очень существенного, но чего именно – Хвиной не мог догадаться.
Наташка принесла сваренной, очищенной картошки, кусок хлеба в маленькой глиняной чашке. Они уселись на камне, в десятке шагов от амбара. Наташка из своей ладони отсыпала на жесткую маленькую ладонь свекра немного соли, и они начали есть.
Хвиной съел две картошки и насторожился. Прислушалась и Наташка. Где-то вдалеке, на выгоне, под ногами двух или во всяком случае не больше чем трех лошадей хлюпала вязкая грязь. Слышно было, как грязью оттягивало подкову от копыта и она позвякивала.
Только теперь Хвиной понял, что речка уже отбушевала и уже не мешает слышать то, чего ни за что не услышал бы вчера, позавчера… Он поделился своей мыслью с Наташкой и услышал:
– Да, в речке стихло… Не дай бог, папаша, если это кочетовцы. Нет им теперь помехи переправиться на эту сторону. По звуку слыхать, что к Аполлону подъехали…
От Аполлонова подворья донесся голос, который заставил Хвиноя и Наташку подняться и собраться с мыслями.
– Григорий! Гришка! Принимай гостей! – густым басом гудел Федор Ковалев.
– Петьку выпроводи в Кучарин, а сама сию минуту ко мне!
В амбаре заворочались. Матвей попросил:
– Хвиной, да выпусти старика! Ты-то, может, и не застрелишь, а Федюня Ковалев обязательно прикончит. У него кипит на меня за то, что в компанию с ним не пошел…
– Отпусти за ради Христа! В чем виноваты – повинимся, – жалостливо тянул и Семка Хрящев.
Но просьбы Матвея и Семки так мало значили для Хвиноя по сравнению с тем, что долетало до него из-за речки, что он просто отмахнулся от них.
А из-за речки, уже от подворья Бирюковых, слышалась небрежная, разгульная песня, которую лениво тянул Ковалев:
Казак ехал и доехал,
Никого он не нашел…
Обязательно найду…
Когда вернулась Наташка, на подворье Бирюковых, мигая сквозь темноту ночи, пробивалось пламя разгорающегося пожара.
– Что с Петькой? – отведя сноху подальше от амбара, нетерпеливо спросил Хвиной.
– Насилу вытолкала. Пошел через леваду.
Песня про казака, что ехал и доехал, но никого не нашел, явственно приближалась опять к Аполлонову подворью. Потом она медленно обогнула не только подворье, гумно, но и вербы и теперь завернула к речке.
– На малый переезд – и к нам в гости… Раньше, может, поджечь постройки кума Андрея?.. Ждать мне, Наташка, больше нечего… Надо встретить его в самом узком месте переулка, между плетнями Андреева и Аполлонова сада… А ты живее натаскивай соломы под амбар, и если что со мною… ничего не жалей – поджигай… А сама схоронись.
И, нервно передернув плечами, Хвиной враскачку, мелкими шагами побежал в сторону малого переезда.
Привыкшая дорожить кормовой соломой, которой часто недоставало на прокорм коровы и подросших телят, Наташка и сейчас бежала за ней не к ближней скирде, а к самому дальнему стожку, сложенному из ржаной, несъедобной соломы. С каждой минутой она все больше и больше торопилась: подгоняла ее все та же небрежная, лихая песня. Она слышала ее у малого переезда, слышала и тогда, когда в затишье ночи песня эта стала сливаться со звонкими всплесками воды под ногами лошадей… Как раз в эти секунды Наташа вспомнила, что ведь спички-то лежат на загнете, и кинулась в хату. Загремели выстрелы – один, другой, потом, наверное, через целых десять секунд – третий и четвертый… А Наташка, обыскивая загнет, никак не могла найти спички. Не сразу догадалась она ощупать карман своей ватной кофты. Найдя коробку спичек, побежала к амбару, но во дворе почти столкнулась со свекром.
– Песенника уложил, а двое, что с ним были, ускакали на ту сторону, в степь. Стрелял и в них. Не меткий я еще стрелок… – И Хвиной рукавом и шапкой долго вытирал шею, лоб и заросшие щеки.
Наташка молчала. Прислушавшись, убедилась, что страшная песня и в самом деле умерла. Напоминал о ней только пожар, разгоравшийся на подворье Бирюковых. Зареченских активистов дома не было, и никто не спешил тушить огонь.
– Эти, что ускакали, дадут знать другим… – заговорила было Наташка.
Хвиной понял ее с полуслова.
– До утра, Наташка, быть нам с тобой на часах. А утром обязательно придет хорошее: речка теперь не помеха… Нашим придет подмога. Соломы ты натаскала… Кто знает, может еще доживем с тобой до утра.
И они пошли к амбару.
* * *
Петька только сделал вид, что послушался Наташки и через леваду отправился в Кучарин. В действительности, дождавшись удобного момента, он пронырнул в хату, захватил шерстяную дерюгу и забрался на чердак. Там были сложены связанные в большие мотки волокна обмятой конопли. Он подтянул их поближе к проему под крышей, сделал себе постель и улегся. Около него лежало его оружие – палка, которой он обычно усмирял свинью и Букета, враждовавших около корыта с помоями.
Петька вообще-то не лез в драки, не хвалился перед товарищами ни силой, ни ловкостью, да и хвалиться ему в этом смысле нечем было… Не был он ни храбрым, ни воинственным человеком. Но минувшая неделя весны заставила его понять, что на то, что стало ему самым дорогим в жизни, с шашками, винтовками и револьверами пошли враги. От отца Петя перенял сердечное уважение к Андрею Зыкову, а бандиты убили его. Иван Николаевич Кудрявцев, Филипп Бирюков, Ванька – все они были защитниками нового порядка, такого, при котором Петька почувствовал себя хорошо и свободно и в школе, и дома, и на улице хутора, и даже на Дедовой горе, куда взбирался, чтобы прокатиться в санях или в салазках… Филиппа чуть было не убили. Останутся ли живы товарищ Кудрявцев, Ванька и все, кто поскакали за кочетовцами?.. А чем кончится эта ночь для отца и для Евсевны?.. Что у него в жизни останется, если эти люди погибнут? Что с ним будет, если и те, что уехали в Кучаринский, не вернутся оттуда?.. Пусть его не убьют, но зачем ему жить с теми, кто отнимет у него все радости жизни?..
С такими мыслями, с таким недетским грузом на сердце Петька в эту ночь так и не смог заснуть. Он знал, что делали отец и Евсевна, чутким ухом улавливал многое из того, о чем они говорили, о чем тревожились. В те минуты, когда песня Ковалева слышалась на самых ближних подступах к Андрееву саду, когда отец побежал навстречу этой песне, а Наташка стала сносить к амбару солому, Петька выскочил из постели и ждал момента, чтобы броситься на помощь. Он не представлял себе, как будет помогать, но знал, что будет делать это, не щадя сил и жизни.
Вот и заря занялась. Теперь Петя уже хорошо видел отца и Наташку. Оба надели под утро дубленые шубы. Отец все ходил взад и вперед с винтовкой под мышкой, Наташка, взобравшись на кучу камней, не отрываясь глядела на выгон…
Может, заря успокоила Петьку, может, усталая, но деловая походка отца или Евсевна, на лице которой не было никакой тревоги? Но глаза Петьки закрылись, и он крепко заснул, не чувствуя сырой прохлады весеннего утра, не ощущая на похудевшем белобрысом лице игры солнечных лучей, пробравшихся к нему сквозь круглое отверстие карниза.
…Петьку разбудили оживленные голоса. Вскочив, он приник к отверстию, изумленный всем, что видели его глаза, что слышали уши. Разбрызгивая в стороны мутную воду, во дворе, прямо в луже, плясала Евсевна. Шуба ее валялась тут же.
Отец, открывая дверь амбара и выпуская на волю Матвея и Семку Хрящева, громко напутствовал:
– Амнистия вам дается! Отправляйтесь по домам! Извиняйте, что не на перине спали!
За двором, среди запряженных волов, среди повозок и привязанных к ним коров и телок, стояли вернувшиеся в хутор зареченцы.
Мавра, смеясь, кричала Наташке:
– Ванькины сапоги пожалей! Изорвешь начисто!
– Не жалей! Любой изъян в сапогах берусь залечить! – возразил дед Никиташка.
– Дед Никиташка, а мои сапоги залечишь?.. Гляди же! – погрозилась Ульяшка и пустилась в пляс, приговаривая: «Послала мене мать за белою глиною; пошла, принесла в подоле детину!»
И вдруг все затихло около Хвиноева двора и около общественного амбара. Петька не сразу догадался, почему это произошло. Все обернулись к речке. Взглянув туда, Петька все понял: от мельниц к хутору, выстроившись по четыре в ряд, ехали конные. За ними тянулась подвода с какой-то странной кладью, похожей издали на невысокую клеть, сбитую из тонких жердей.
– Вон в той, значит, клетке и везут наши Кочетова. Как вам в Кучарине сказал, так оно и есть, – услышал Петька голос Наума Резцова. Держа заседланную лошадь за повод, он стоял рядом с отцом и зареченцами. – Конвоирует его Филипп Иванович. Палаш у него наголо, – вон как сверкает на солнце! А вы не верили, боялись возвертаться… Филипп в большом гневе: Аполлона не догнали, Гашку не нашли…
Но вот и Наум умолк, прислушиваясь вместе со всеми к песне, которую за речкой затянули два голоса – Ивана Николаевича Кудрявцева и Ваньки:
Ай да, вот и не шуми, шумка…
И старая казачья песня про Степана Разина, подхваченная двумя десятками простуженных мужских голосов, стала медленно надвигаться с выгона на Осиновский хутор. Притихшие люди слышали каждое слово этой знакомой песни о славном атамане, которому «заутро ответ держать» перед царевыми судьями, а сегодня он «думу думает», как станет держать его, когда спросят: с кем бражничал, с кем разбойничал?..
…Я не бражничал, не разбойничал, —
отвечает Разин, —
Корабли разбивал я бояр да купцов…
Голытьбу я на бой водил…
Голытьбы-то моей да моих товарищей
Да счесть – не перечесть…
Петька сидел и плакал. Из сверкающих радостью глаз медленно скатывались на щеки слезы, а обветренные губы шептали:
– Какая она хорошая, советская власть… Но почему же так трудно ее завоевывать?!
Многое-многое вкладывал Петька в эти слова: и то, что отца и Евсевну минула беда, и то, что зареченцы благополучно вернулись домой, и то, что речка Осиновка, сильно ввалившись в берега, словно вспыхивала на переезде под ногами рыжего коня, на котором первым переправлялся товарищ Кудрявцев… Вкладывал Петька в эти слова и горячее сожаление о том, что дядя Андрей Зыков ничего сейчас не видит, и что с Гашкой, наверное, случилось несчастье, и что Степан Разин никогда не будет живым…