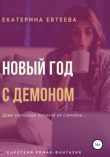Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 38 страниц)
Потом они стали говорить о Матвеиче.
Гаврик настаивал на том, что Матвеича надо было ругать больше.
– Будь уверен, Пелагея Васильевна проработала бы его как следует. Нашего старика постеснялась.
Миша никак не мог с этим согласиться.
– Гаврик, и как ты не подметил, что они друзья? Видал же, как он помогал ей садиться и вставать со стула? Нет, старик он хороший.
– За что же она его критиковала?
– Другим чтоб помогал.
– А в бабью юбку он зачем хотел наряжаться?
Но, видимо, этим словам Гаврик и сам не придавал серьезного значения, потому что сейчас же рассмеялся:
– Доярка из него получилась бы… на ферму не показывайся – коровы разбегутся.
За разговором ребята не заметили, что Иван Никитич, ведя стадо, уже спустился в широкую лощину. Дорога шла полосой ржавого выгона, между двумя хуторами – маленьким и большим, с железным многокрылым ветряком, с силосными башнями, с пожарным сараем, где стояли выкрашенные в зеленый цвет бочки и насосы.
Из маленького хутора в большой шли школьники.
Они остановились поодаль, чтобы пропустить стадо, и смотрели на Мишу и на Гаврика.
Миша, увлеченный защитой Матвеича, сравнивал его со своим колхозным агрономом Миной Сергеевичем, таким же огневым человеком, как старик Иван Никитич. На Мине Сергеевиче держалось и полеводство, и огородничество, а от правления ему же и доставалось больше всех…
И тут-то, в самый неожиданный для Миши и для Гаврика момент, раздался озорной крик:
– Хлопцы! Хлопцы! Бачьте, бригадиры идут!
Миша и Гаврик увидели белобрысую девочку, которая, подражая Гаврику, закинула за спину руки, надула щеки и, высоко поднимая сапоги, прошлась взад и вперед. Ее выходка рассмешила школьников, стоявших тут же стайкой. И это, должно быть, еще больше ободрило девочку, и она придирчиво спросила Мишу и Гаврика:
– Вы почему не в школе? Учены?.. Ох, хлопцы, хлопцы, не я ваша мама! Побачили б лихо!
Она была такой смешной и, грозясь пальцем, так хорошо подражала взрослым, что даже Гаврик не обиделся и сказал:
– Смеетесь зря – школы у нас нету и хат нету.
– Да что ж вы, як суслики у нори?
– В точности, – усмехнулся Миша и коротко рассказал, что осталось от их села, когда его отбили у немцев. Он даже успел объяснить, откуда они возвращаются, но рассказать о том, что шефы скоро построят школу, не успел, потому что Иван Никитич придирчиво закричал:
– Что за общее собрание?! Кому говорю – убавить телятам рациону?!
Миша и Гаврик кинулись к стаду и, наведя там порядок, пошли дальше. Изредка оборачиваясь, они видели, что белобрысую девочку окружили ее товарищи и, сердито размахивая руками, в чем-то ее убеждали. Наверное, то, о чем говорили белобрысой девочке ее товарищи, касалось Миши и Гаврика, потому что все школьники нетерпеливо посматривали в их сторону.
И вдруг девочка вырвалась из плотного кольца товарищей, в одну минуту догнала ребят, сунула одному из них книжку, хотела что-то сказать, но только крикнула:
– Хлопцы, это ж такая книжка – арбузов и меду не треба! – и вихрем умчалась назад.
Книжка была действительно замечательной и хорошо знакомой Мише и Гаврику. На ее обложке, вслед за столяром Лукой Александровичем и его сынишкой Федюшкой, глядя им в спины, шла лохматая, с лисьей мордой собачка. Это была самая настоящая Каштанка, возвращающаяся домой после горестных скитаний, после неудачного дебюта в цирке.
– Миша, махай, махай им шапкой!
Вслед за Гавриком Миша снял шапку, и оба широко замахали. Школьники дружно ответили им. Белобрысая девочка, как флажком, махала сорванной со светлой головы шалью.
– Миша, больше ей! Ей больше! – волновался Гаврик.
И только старик Иван Никитич опять не к месту вспомнил, что телятам «надо убавить молочного рациону».
* * *
Местом обеденной стоянки оказались целинные выпасы с жестким, застаревшим пыреем, с ковыльной белизной на пригорках. В глубокой лощине синел пруд, отражающий безоблачное небо и темное сплетение веток высоких верб.
Глинистые берега пруда были исслежены дугообразными отпечатками малых и больших конских копыт. Недалеко от воды торчали глубоко врытые, очищенные от коры дубовые сучковатые сохи.
К этим сохам ребята привязали дойных коров. Дед же, отогнав телят и остальных коров в конец пруда, где на влажной низине пробивалась по-весеннему свежая зелень, сказал:
– Красно-бурую для спокойствия спутал. Вы уж тут действуйте по всем правилам, как знатные доярки, а я с вещичками пойду туда.
Захватив мешок и сумки, старик пошел к большому двору, обнесенному каменными конюшнями. Во дворе было пусто, и только с крылечка маленького флигеля под камышовой крышей наблюдали за дедом и за ребятами двое мужчин да стояла оседланная лошадь, привязанная к деревянному столбу, поддерживающему кровлю крыльца.
Гаврику первый раз предстояло подоить корову, и Миша должен был научить его новой специальности. Вчера вечером Миша доил коров вместе с тетей Зоей. От нее он узнал немного больше того, чему его научила тетя Даша – кухарка тракторной бригады. Гаврик тем временем был с дедом в доме и поэтому не знал, откуда вдруг в кармане Мишиного полушубка оказались коротенькое чистое полотенце с розовой каймой и кусочек желтого туалетного мыла.
– Получил от тети Зои?
– От нее, – ответил Миша. – Давай-ка руку.
Миша, достав карманный ножичек, стал обрезать Гаврику ногти.
– Она говорила, что так надо?
– Нет. Сам знаешь, что к корове нужен особый, чистый подход… Ты к ней с уважением – и она к тебе…
Это были слова тети Зои, но Миша выдал их за свои, чтобы Гаврик отнесся к нему, как к учителю, с большим уважением.
– А теперь пошли к пруду. Шапки и полушубки можно вот сюда, а рукава засучай повыше.
Сбросив шапки и полушубки, ребята с высоко засученными рукавами опустились на корточки и стали умываться.
Миша за делом наставлял, по-прежнему выдавая чужие слова за свои:
– Руки, руки мыль на совесть и мыло смывай начисто. Всякое мыло чем-нибудь пахнет… Корове может не понравиться.
– Чего же ей, корове?.. Пахнет хорошо.
– Это тебе, а ей, корове, знаешь что нравится?
– Будто ты, Миша, с коровой разговаривал об этом?
С манерой, усвоенной от Ивана Никитича в плотницкой, Миша проговорил:
– Гаврила, можно не разговаривать и знать, если голова думает. Вот возьми и потри руки этим, – и Миша протянул Гаврику щепотку свежего пырея.
Это была уже собственная выдумка Миши, и потому он с некоторой настороженностью ждал, что ему на это скажет Гаврик.
– Миша, настоящая доярка должна мыть руки пырейным мылом? – усмехнулся Гаврик.
– Да. Только его еще нет в продаже, – спокойно ответил Миша и подвел Гаврика к корове. Тут уж ему не пришлось ничего нового придумывать в сравнении с тем, чему сам был научен теткой Дарьей.
Вручив ведро Гаврику, Миша заговорил с коровой:
– Ты, Красная, не тревожься, это Гаврик. Он хлопец ничего… Он тебя подоит… Гаврик, начинай: чуть поддай кверху, легонько подтолкни и тут же потяни книзу.
Только приладился Гаврик доить, как корова, отнеся зад, выпучила на него глаза.
Гаврик, быстро приподнявшись, испуганно посмотрел на друга.
– Чего она?.. Может, лучше ты сам? – протягивая Мише ведро, спросил Гаврик.
Но Миша не хотел остаться неспособным учителем. Задумчиво осмотрев Гаврика, он с досадой заметил:
– Кудлатый ты. Я тоже на месте коровы так бы сделал. Повяжи голову полотенцем.
И Миша, снова представив корове Гаврика, теперь похожего на белоголовую девчонку, долго расхваливал его.
Спустя минуту Гаврик откуда-то снизу восторженно зашептал:
– Миша, пошло!
Шикнув на него, Миша уверенно проговорил:
– Так и должно быть…
Пока ребята доили коров, к пруду на заседланной лошади подъехал мальчик-подросток примерно одних лет с Мишей и Гавриком. Остановив лошадь и поправляя белую овчинную шапку, он издали окинул ребят взглядом богатого хозяина, которому принадлежали не только пруд и ферма, но и вся степь с крикливо кружившимися над ней чибисами.
– А коровы ваши случаем не бруцеллезные? – строго спросил он.
Миша и Гаврик не знали, что ответить. Миша смог только сказать, кто они, откуда и куда гонят с дедом этих коров. Гаврик же молча заканчивал дойку.
– Ветфельдшер или зоотехник коров бачилы?
– Не знаю. Секретарь райкома и еще двое провожали…
– Если секретарь райкома был, тогда ничего… А то дивлюсь – около пруда чтось не нашего колхоза.
Мальчик с неторопливой легкостью кавалериста, едва коснувшись ногой стремени, спрыгнул с седла на землю.
Просторная стеганка, широкая для его сутуловатых плеч, медлительная походка, с какой он подводил к Мише немолодую, но еще красивую лошадь, делали этого мальчика старше своих лет. Но по мере того, как он присматривался к Гаврику, доившему корову, лицо его озарялось, становясь широким и по-детски наивным.
– Как тебя звать? – спросил он Мишу.
– Михаил… Самохин.
– А я Микита… Полищук. В каком классе?
– Если школа будет готова, в шестой пойду.
– А он? – указал Никита на Гаврика.
– Это Гаврик Мамченко. Мы вместе…
– Добре.
Никита Полищук, разговаривая, нетерпеливо переступал с ноги на ногу, с жадной усмешкой косясь на Гаврика. Его тяготила невысказанная мысль, соблазнительная и стыдливая. Прищурив один глаз, он наконец спросил Мишу:
– А мне немного подоить можно?
– Можно. Я научу, как… Только ты, Никита, возьми вот мыло и хорошенько помой руки.
– Коня подержишь? Ты не пугайся его. Он от старости стал задумчивый… У его чтось свое на уме. Не мешай ему думать, – засмеялся Никита.
Пока он, по совету Миши, долго и старательно мыл руки, на крыльце флигеля появился Иван Никитич и, укоризненно покачав головой, закричал ребятам:
– Молоко-то! Молоко когда-нибудь прибудет?..
Никита Полищук вернулся от пруда разочарованным, с мокрыми руками. Он спросил Мишу, показывая на крыльцо:
– Ваш начальник?.. Затарахтел. У самого есть такой. Как начнет, так не остановится, пока пружина не раскрутится… Гаврик, ты неси, а мы с Мишкой тут постоим.
Гаврик понес молоко. Еще не доходя до двора, он услышал молодой гневный голос:
– Вы мне голову начиняете: «Колхоз посылает, война… урожай…» Вы другое скажите: Верка – жинка моя или конский хвост? Я ей человек или так себе…
Другой голос со старческой хрипловатостью спокойно, но громко отвечал:
– Верка – моя внучка, а человек ты ей или нет, спроси ее сам. Она скоро заявится!
Замедляя шаг, Гаврик было уже навострил уши, чтобы послушать интересный разговор. Иван Никитич, встретив его, взял ведро и догадливо заметил:
– Нечего уши развешивать. Мы с тобой холостые, а тута семейная неурядица.
Потом старик, кисло усмехнувшись, добавил:
– Чего-то нам, Гаврик, не везет – опять на «Старый Режим» наскочили… Только этот «Режим» из молодых. Ну, нечего прислушиваться. Иди к Михайле, да за коровами построже доглядывайте. Затем и приставлены.
Миши и Никиты у пруда не было. Гаврик направился к пригорку, где стоял уже разнузданный, стреноженный конь. Подпруги седла были ослаблены. Конь, державший голову книзу, вдруг вскинул ее, осклабившись на проходившего Гаврика.
– Тикай, Гаврик, конь думает. Чтось придумает, – послышался голос Никиты, и Гаврик увидел, что Миша и Никита, сидя на бережку неглубокой суглинистой водомоины, разговаривали, разглядывая книжку, подаренную белобрысой девочкой.
– Гаврик, а Никита знает ее, ту, резвую. – И Миша, улыбаясь, потряс над головой книжкой.
– Не шути, – сказал Гаврик, ища место, где бы удобней присесть.
Никита запросто потянул его за полу полушубка.
– Приземляйся тут. Без шуток говорю, Катьку Нечепуренко знаю.
– Гаврик, ты верь; он сразу догадался, что она дала нам эту книжку. Потом уж мы вот это прочитали.
Миша подал Гаврику развернутую книгу, на титульном листе которой было написано: «Ольшанская школа, 5-й класс. К. Нечепуренко».
– Здόрово, – сказал Гаврик.
– Не особенно здόрово. Завтра она мне экзамен устроит!
Никита поскреб в затылке и рассказал, что Катька Нечепуренко староста класса и будет пробирать его за то, что не явился в школу. Виноваты в этом были домашние обстоятельства: Никита на ферме подменял мать, а мать ушла в село собрать в дорогу сестру Верку, уезжавшую сегодня в город, на курсы бригадиров.
– На первый раз как-нибудь отговорюсь, а на другой – не сумею.
Миша спросил Гаврика:
– К деду сходить не надо?
– Нет. Он и меня прогнал. В хате двое ругаются, а он не хочет, чтобы слушали.
– Никита нахмурился.
– Во флигеле, хлопцы, нет интересного… Там Федька Гнатенко, сестры Верки муж, ругается с дедом Федосеем. Федька не хочет отпускать сестру на курсы… Только этому, хлопцы, не быть. Зав говорит Федьке, что он «несознательный, отстала людина». Жалко, хлопцы, что зава нету. Глядите, – Никита сердито указал в сторону флигеля, где у крыльца стояла привязанная лошадь, – с утра конь горькую думу думает, а Федьке не до него. Пошли, хлопцы, чтось покажу.
Ребята поднялись на близлежащий округлый холм. Это было самое высокое место в окрестностях фермы. Никита привел сюда ребят не только потому, что отсюда открывался широченный целинный скат и что отсюда можно было видеть большой табун пасущихся маток с жеребятами, но и потому, что именно на этот холм часто взбирался сам заведующий фермой. Теперь его не было, а табунщик Федька Гнатенко, отсталый человек, не думающий даже о своем голодном коне, не мог заменить зава. Никита по праву считал себя ответственным за ферму.
Указав на лошадей, он повеселевшим голосом сказал:
– Все наши. Было б больше, да не забывайте, хлопцы, – тридцать коней на фронт снарядили…
Никита, стремясь быть в точности похожим на своего зава, с которым он за летние месяцы сдружился, заговорил медленней:
– Если вам, хлопцы, доведется увидать кавалеристов на рыжих конях с куцыми хвостами… такими, как просяные снопики в хате лаборатории, то считайте, что кони наши. Может, к коням подойдем?
Предложение Никиты казалось заманчивым, но до табуна было далеко, и ребята оглянулись. С крыльца грозил дед Иван Никитич и движением руки пояснял, что им надо идти ближе к коровам.
– Вам начальник телеграмму дает. Велит поворачивать… Он у вас, хлопцы, горячий, – сказал Никита, направляясь к коровам.
Миша сказал:
– Деда понять надо.
– Дед – ничего, – сказал Гаврик.
Миша добавил:
– Это правда, что он немного горячий, но справедливый.
Никита промолчал, но как только подошел к стаду, так сейчас же нашел повод осудить Ивана Никитича:
– Правильный, а корову спутал.
И он смелой, раскачивающейся походкой подошел к красно-бурой и распутал ее.
– Вам бы, хлопцы, заночевать у нас. Вечером коров подоили б… Вечером завхоз приедет. Может, он подскажет, чтоб вам дали хоть две конематки с лошатами: у вас ничего же нет…
Он посмотрел на ребят и, решив, что им тяжело слушать разговор об их разрушенном колхозе, сказал Гаврику:
– Гаврик, а Мишка мне говорил про трубу. Ловкая штука! До нас бы протянуть…
Никита зажмурил один глаз, другой же глаз его сиял лукавством.
– Ольшанка слушает… Вы бы про море, а я б вам про коней.
И вдруг он на полуслове оборвал разговор.
От флигеля к ребятам приближался всадник. Шапка его с низким верхом почти наезжала на нос, а когда он лениво поворачивался в сторону флигеля, ребята видели его плоский затылок, налитый гневом, изломанную прядь рыжих волос. В седле он сидел, небрежно развалясь, и всякий раз, когда лошадь тянулась схватить травы, хлестал ее по боку плетью. Мише глядеть на него было скучно и неприятно, и он искоса посмотрел на Никиту. Никита стоял с надутыми щеками, и все помрачневшее лицо его, казалось, выражало один недоуменный вопрос: «И зачем он сюда едет?»
Не доезжая двух десятков шагов, всадник остановил лошадь и, глядя ей на уши, сказал:
– Микит!
– Что?
– Не чтокай!
– Ну что?
– Не нукай и не чтокай, а иди ко мне.
Мише было обидно за Никиту, потому что сидевший на коне разговаривал с ним как с чучелом. Никита, пошатнувшись, хотел сделать шаг, но его за рукав остановил Гаврик. Мише стало ясно, что Гаврик тоже с ним согласен, и он повелительно прошептал:
– Не ходи!
– Микит, кому говорю? – послышалось с седла.
– Нельзя, хлопцы… Зава нету, он старший. – И Никита, вздохнув, нехотя подошел к всаднику.
Ребята не разобрали, что говорил всадник, не видели его лица, прикрытого шапкой до кончика носа, но они ясно услышали его последние наставления Никите:
– Ты мне с кургану свистнешь. Так свистнешь!
Всадник снял шапку и поднял ее над головой, и тут же ребята увидели его пухлощекое молодое лицо, потно лоснящийся большой лоб, сливающийся с узкой плешиной на рыжей, преждевременно полысевшей голове, сонные серые глаза с притушенными ленью злыми огоньками. Потом всадник, показав ребятам широкий плоский затылок, скрылся за курганом.
– Это «отстала людина»? – спросил Гаврик, указывая на отъезжавшего всадника.
Никита усмехнулся.
– Ну да! Веркин муж… А вареники любит! – покачал головой Никита. – Увидит – забудет и про коней и про собрание. Если вареники маленькие, двести сразу съест!
Эта цифра произвела на ребят большое впечатление. Смеясь над прожорливостью табунщика, они подгоняли коров поближе к пруду, к которому от флигеля шел Иван Никитич, неся в руке ведерко, а под мышкой хлеб и эмалированную чашку.
Миша, удивляясь, говорил:
– Разорение по военному времени есть по двести вареников.
– В трубу пролетишь, – смеялся Гаврик.
– Он об этом не думает, – отмахнулся Никита.
Иван Никитич, расстилая мешок, издалека крикнул:
– Обедайте тут, а я там, с приятелем! – указал он на флигель и пошел ко двору фермы.
На мешке лежали три ложки, нарезанный темный хлеб и стояла чашка.
Никиту недолго упрашивали сесть за «обеденный стол».
– Ложки три… Одна будет обижаться, – пошутил он и уже за обедом рассказал, зачем его подзывал табунщик. Табунщику надо было знать, одна ли Верка приедет на ферму, чтобы отсюда уже отправиться на полустанок. Если одна или только с матерью, то Никита должен выйти на курган и «шапкой свистнуть» табунщику, но если Верку будут провожать подруги, то «шапкой свистеть» не надо. – «Несознательна людина», а знает, что при людях отговаривать Верку стыдно, – заключил Никита.
Верка была хорошим бригадиром, но Никита злился на нее. Он был согласен с матерью, что табунщик Федька Гнатенко неудачный муж, и если бы отец был не на фронте, а дома, дело было бы иное.
– Она передовая, а он «Кто последний, я – за вами…». Сами, хлопцы, подумайте… Были б у вас жинки, как Верка… Нет, Верка стара… Вот как та русява, что книжку подарила. Ну да, Катька Нечепуренко!.. Ее бы колхоз посылал на курсы, а вы не пускали…
Миша и Гаврик отложили ложки: неожиданно им надо было представить себя женатыми. Но Никита об этом говорил так просто, что Миша понял главное, и оно, по его мнению, заключалось в том, чтобы не быть похожим на табунщика.
– Никита, я сразу двести вареников не съем, – сказал он, и щеки его от напряженной усмешки покрылись розовыми пятнами.
Гаврик с гордой улыбкой добавил:
– Катьку нельзя не пустить на курсы, она, как птица, резвая.
Широкое лицо Никиты блаженно засияло. Он посмотрел на Гаврика, потом на Мишу и мечтательно заявил:
– Хлопцы, что вам подарить?.. Подарю лопату… Катька Нечепуренко летом приезжала на ферму, мы той лопатой окопчики копали. Огонь разводили. Сделаем под бугорком ямку и вверху пробьем лопатой такую дырочку.
Никита, составив указательный и большой пальцы, через них, как через колечко, посмотрел на Мишу и на Гаврика.
– Ну, а от той дырочки прокопаем длинный ровчак, и по этому ровчаку дым гуляет, как узенькая речка. Ветер лютует, а огню не вредит.
Никита встал и неожиданно весело проговорил:
– Хлопцы, вы здорово не обижайтесь, и каша чтоб не обижалась. Я пойду за лопатой.
И он побежал на ферму.
Миша сказал:
– Гаврик, не будем есть, подождем Никиту.
– Такого хлопца надо подождать, – согласился Гаврик.
Ребята пристально смотрели на убегавшего Никиту и видели, как на повороте дороги, серой дугой огибающей одну из каменных конюшен фермы, навстречу ему внезапно показалась пара лошадей, впряженных в просторные дроги. В дрогах сидели две женщины. Одна из них, пожилая, была в белом платке, в теплой кофте, подпоясанной ремнем. Она управляла лошадьми. Другая молодая, была в темно-синем костюме и пестрой косынке. Она сидела прямо, непринужденно свесив ноги, обутые в темные туфли. Когда лошади под натянутыми вожжами стали укорачивать бег, молодая женщина ударом ноги о ногу стряхнула пыль. Потом она легко спрыгнула с дрог и, откинув локти назад, на одних носках подбежала к Никите и схватила его за плечи.
Гаврик и Миша услышали ее насмешливый голос:
– Микита, ты, Микита, мама спрашивает, когда ж ты будешь Микита Иванович?.. Слышь, спрашивает!
Она насмешливо посмотрела на ту женщину, что управляла лошадьми, и сейчас же что-то стала говорить Никите на ухо.
Миша почему-то обрадованно заметил:
– Сестра Никиты.
Гаврик охотно согласился:
– Ну да! Похожа на Никиту. А та, другая, – мать.
Никита вернулся с лопатой на плече. Настроение у него было испорчено, и он наотрез отказался есть. Миша и Гаврик, лениво жуя, не переставали допытываться, что же случилось?..
Насколько словоохотливым был Никита до встречи с сестрой, настолько молчаливым, необщительным он стал теперь. Опустив голову, он ходил взад и вперед по траве, точно по воде. Наконец он отшвырнул лопату и рассказал ребятам о своем огорчении. Сестра спросила его, где муж и собирался ли он прийти на ферму проводить. Никита ответил, что он ничего не знает, и теперь его мучил один вопрос: «Свистеть зятю шапкой с кургана или не нужно?»
Обед расстроился. Никита стоял и ждал совета. Миша и Гаврик тягостно молчали. Гаврика злил нежный звон колокольчика, и он косо посматривал на красно-бурую корову, лизавшую щеку у другой коровы.
Миша думал напряженно, как бы ворочал тяжелые камни. Наконец, облегченно вздохнув, он сказал:
– Никита, не свисти. Честное слово, не надо!
– Мишка, ну, а как же?
– А так: незачем свистеть. Сестра все равно поедет… Видал, какая она веселая?
– А как спросит потом, что ему сказать? – задумчиво спросил Никита.
У Миши внезапно нашелся самый подходящий ответ:
– Скажешь: Верка, мол, обещала, как приедет, сразу сварить ему двести вареников!..
Неудержимый смех обуял сразу всех троих. Никита выкрикнул:
– Мишка, ты не Мишка, а прямо бригадир! И что тебе еще подарить?..
Гаврик свалился на живот и, болтая руками и ногами, как утопающий, звал на помощь:
– Братцы, спасите, не могу! Его ж варениками, как бомбой, – сразу наповал! Пропала «отстала людина»!
– Гаврик, сумасшедший, кашу опрокинешь! – предостерегал Миша, хотя каша в эти секунды меньше всего интересовала кого-либо из ребят.
Никита первый заметил коня, осклабившегося в их сторону:
– Хлопцы, да тише! Конь лютует – с думки сбили!
Эти слова еще больше рассмешили Мишу, Гаврика и самого Никиту.
– Хлопцы, а мне теперь сильно каши захотелось!
…Через полчаса коровы были уже в километре от пруда и от каменных конюшен фермы. Наступил момент расставания. Никита молча пожал руки товарищам, нехотя взобрался в седло и, лукаво усмехнувшись, сказал:
– Хлопцы, вашей трубы до Ольшанки дотянуть нельзя. Так вы пишите… А мы с Катькой будем отписывать…
Миша сказал:
– Будем, Никита, писать про море, про школу… Про сознательных и несознательных.
– У нас тоже есть всякие, – заметил Гаврик.
– Пишите про всяких…
Звенел впереди колокольчик. Вслед за Иваном Никитичем коровы уходили в глубь рыжих выпасов.
– До свиданья, хлопцы! Благополучно вам добраться до дому.
Никита повернул коня и медленно поехал к табуну. Он оглядывался. Оглядывались Миша и Гаврик.
– Гаврик, может, мы его еще увидим?
Гаврик стал задумчиво строгим, и глаза его сделались твердыми и большими.
– Миша, мы его обязательно увидим. Скажи, что тогда ему подарим?
– Гей-гей! Живые там или поумирали? – спрашивал Иван Никитич.
Разве же этот неспокойный старик даст хорошо и толком продумать такой большой и такой важный вопрос?!
* * *
Черному ветру предшествовало несколько необычное раннее утро. Оно застало Ивана Никитича с ребятами уже в дороге, далеко за хутором, в котором они ночевали. Заря долго горела над сумрачной степью, как огромный костер, охвативший пламенем весь восточный небосвод. Сама обнаженная степь покрылась сплошной лилово-красной накипью. Мрак минувшей ночи, застигнутый в лощинах и суходольных балках, стал густым, как бы затвердевшим…
До восхода солнца стояла редкостная тишина. В лесополосе прямые молодые клены горели неподвижным желтым пламенем. Стрекот сороки, перескакивающей с рогатых акаций на светлокорые кустарники вяза, казался надоедливо резким, полет большой стаи грачей, круживших высоко в небе, сопровождался таким ясным свистом, точно грачи летали над самой головой.
– Может разгуляться астраханец. Было бы способней поближе к железной дороге держаться… Там поселение гуще, а тут будет степью, степью, – говорил провожатый, дежурный сельсовета, человек в шинели с пустым, болтающимся рукавом. Руку он потерял недавно, но уже научился одной левой умело скручивать цигарку на жестяном портсигаре, прижатом култышкой к груди.
Иван Никитич поводил плечами и поминутно выставлял тоненькую морщинистую ладонь на юго-восток.
– Но ведь не дует же? А? – спрашивал он не то себя, не то провожатого.
Еще с вечера старик узнал от колхозников о прямой дороге, сокращавшей путь до дому больше, чем на сутки. За ночь он свыкся с приятной мыслью, внушил эту мысль ребятам и теперь не мог от нее отказаться.
Старик был возбужден, храбрился и посматривал на ребят. В ответ ему Миша хладнокровно улыбался, а Гаврик, гордо сдвинув брови, кивком головы показывал вперед, как будто разъясняя деду, что фронтовик попался не из храбрых и нечего к нему прислушиваться. И тут-то как раз Иван Никитич поймал себя на мысли, что в нем самом, несмотря на старость, временами бывает что-то от Гаврика – опрометчивость, горячность. Старику стало не по себе: шутка ли – рисковать в таком большом деле?.. И он стал присматриваться к стаду.
– Коровы, дед, тебе ничего не подскажут, – раскуривая цигарку, с усмешкой заговорил провожатый. – Осмотрительность требуется… На ноги теплое есть?
– У всех у троих валенки.
– Дело. Это на случай, если в заброшенной кошаре переночевать придется… Ну, а харчи про запас?
– Да у вас же разжились, – отчитывался Иван Никитич.
– Вижу, корова навьючена не хуже верблюда, – разглаживая подстриженные усы, согласился провожающий и спросил: – А спички, к примеру, есть?
Иван Никитич, сдерживая досаду, вынужден был показать провожатому, что у него есть в кармане штанов коробка спичек.
– Спички, дед, переложи в полушубок, в боковой. Ты меня слушай. Я, брат, старшина разведки, опыт имею, а ты, по обличью видать, нестроевой… Агафья Петровна! – вдруг крикнул он в сторону проселка, по которому проезжала женщина в бедарке. – Известия по радио как там?..
– Было бы на озимом так хорошо, как на фронте! – прокричала Агафья Петровна.
– А про погоду что говорили?
– Ничего особого, – ответила женщина и громко стала понукать лошадь.
Провожатый немного подумал и потом уже, махнув пустым рукавом шинели, напутственно сказал:
– В поход! В добрый час!
Уже издали, наблюдая за движением стада, он нашел нужным пояснить:
– Кошара левее того кургана! Леве-ей!
Из-под покатого перевала выглянуло солнце. Оно сегодня было красное и плоское, как раскаленный в горне диск. Ветра по-прежнему не было. Возле окраинных темно-лиловых кустов лесополосы, под соломенной крышей навеса, где во время молотьбы сортировалось зерно, растерянно стрекотали воробьи, точно жалуясь на свою скучную жизнь.
Ивану Никитичу, человеку большого жизненного опыта, не нравилось сегодняшнее солнце, не нравилась скучная болтовня воробьев.
Старик шел сейчас вместе с ребятами позади коров. По-прежнему вела стадо красно-бурная корова. Ночью скотине подбрасывали сена. Хорошо подкормленная, она шла, почти не задерживаясь на свежей отаве.
Порожние арбы на быстром бегу обгоняли стадо. В передней арбе сидели две тепло закутанные женщины. Одна хворостиной погоняла волов. В задней арбе позвякивали вилы, примотанные веревкой к поперечной распорке.
Одна из женщин, видать разговорчивая, поднявшись, крикнула Ивану Никитичу:
– Дед, ты хлопчат не продаешь?
– Трудодней не хватит купить их! – небрежно отвечал Иван Никитич.
– Значит, хорошие, ежли цену заламываешь!
– Стоют!
– Да сядь, купчиха! У самой четверо! – дернула ее другая.
От этого шутливого разговора Иван Никитич повеселел.
– Люди вон едут за кормом, а старшина, наверное, пошел на печь отогреваться, – съязвил он, но не вовремя. Как раз вслед за этим по верхушкам оставшейся позади лесополосы пронесся свистящий шорох, а вслед за ним впереди, на проселке, вспыхнул и закружился высокий столб вихря. Брызнув мелкой рябью по ржаному жнивью, он осел и притих.
– Гони! – донесся с арбы простуженный женский голос.
Новая, более продолжительная вихревая волна с косого разбега ударила по красно-бурой корове. Колокольчик заикнулся, а корова, чуть отдернув морду, немного отклонилась от взятого курса и пошла быстрей.
Иван Никитич сердито кашлянул, нерешительно остановился и повернулся лицом к ветру. Третья волна чуть не сорвала с него треух. Над хутором, где они ночевали, поднялась мутно-серая завеса клубящегося тумана, в котором угасало потускневшее, обескровленное солнце. С четвертой волной ветер пошел широким, неутихающим потоком.
Когда Иван Никитич снова повернулся к стаду, передние коровы успели уйти от него на добрую сотню шагов.
Догоняя Мишу, старик на бегу спросил:
– Михайла, что думаешь?
– Дедушка, дует в затылок! Не страшно!.. Назад поворачивать нельзя – ветер ударит коровам в морды, и они разбегутся!
На скуластой, чуть прихваченной осенним загаром щеке Миши, повернутой к ветру, чтобы старик ясней слышал его слова, Иван Никитич заметил суровую решимость и обрадовался. Старик сам видел, что теперь возвращаться уже нельзя. И, задавая вопрос, хотел только проверить, можно ли на Мишу надеяться в трудную минуту.
Гаврик, не замеченный дедом, оказался в голове стада и, сдерживая коров, не то бодро, не то испуганно кричал:
– Гей-гей! Гей-гей!
Иван Никитич уже видел, что главная трудность будет впереди стада, где между коровьих голов мелькали треух и куцый полушубок Гаврика, полы которого обхлестывал ветер.
– Михайла, что в дороге главное? – крикнул старик, морща на ветру маленькое, сухое лицо, успевшее обрасти сединой и посереть от пыли.
– Они, дедушка, – крикнул Миша, похлопав себя по ногам.
– Так помни же об этом! – погрозил Иван Никитич и, горбя узкую, костлявую спину, побежал обгонять коров.
Ветер, набирая силу, стал приносить от лесополосы стайки испуганно порхающих желтых листьев. Несколько позже, опережая стадо, по жнивью покатились темные кусты старого жабрея, похожие на скачущих зайцев.