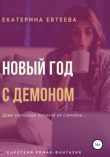Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
На тесной земле


Коля Букин был тучноватый белобрысый мальчик с такими большими глазами, что Петя в шутку говорил ему:
– Глаза у тебя, Колька, стосвечовые!
Походка у Коли была неторопливой, переваливающейся, и Петя, когда надо было спешить, укорял его:
– Тебе, Коля, на беговой дорожке рекорды устанавливать.
– Ага. Только на большую дистанцию, – усмехаясь, отвечал Коля, но шагу не прибавлял. – Ты, Петя, легкий, длинноногий. Тебе не трудно быстро ходить. Ты в отца.
Чтобы не обидеть мать, Петя говорил:
– А глаза и волосы у меня мамины – черные.
Не только походкой и внешностью отличались ребята друг от друга. Петя в минуты волнения любил сказать красивое слово…
На уроке литературы читали из «Разгрома»:
– «…Бакланов, держа в одной руке револьвер, а другой крепко вцепившись в лошадиную холку, так, что на ней явственно отпечатались короткие мальчишеские пальцы, напряженно смотрел в ту сторону, откуда прозвучал залп. И его наивное скуластое лицо, слегка подавшееся вперед, выжидая приказа, горело той подлинной и величайшей из страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда».
Петя шепнул другу:
– Коля, человечина этот Бакланов!
И Петя постарался показать, как трудно говорить ему о Бакланове за тесной ученической партой.
А Коля Букин, не отрывая от преподавателя больших глаз, задумчиво слушал, положив пухловатые ладони на парту.
Дочитывается последняя страница чудесного романа о красных партизанах гражданской войны… Бакланов убит. Их осталось вместе с командиром девятнадцать человек. Отряд лесом уходил дальше. Каждому из оставшихся в живых «нужно было жить и исполнять свои обязанности».
Книга была закрыта. Семиклассники, оживленно разговаривая, выходили в коридор. И только теперь Коля Букин сказал Пете Стегачеву:
– Храбро воевали люди за советскую власть. Особенно Бакланов.
Помолчал и добавил:
– Сбоку кому-нибудь бы выстрелить в того белого, что целился в него.
Петя других слов и не ждал от своего друга. Он знал, что его товарищу и сны снились совсем другие. Петя часто во сне летал, а Коля много раз во сне взбирался на высокую гору и потом рассказывал об этом Пете:
– А я и этой ночью карабкался. Отдохну и опять. Не скоро, а все же взобрался.
– Может быть, ты это на пик Сталина взобрался.
– Не улыбайся, на большую дистанцию могу…
Бывали у них и ссоры.
…В классе тишина. Слышно только поскрипывание перьев, вздохи. Голос Ивана Владимировича кажется Пете оглушающим и немного зловещим, когда математик, оттягивая редкие курчавые усики, негромко, но внушительно предупреждает:
– Не нервничайте и не торопитесь. Контрольную работу надо сделать хорошо. В примерах главное – не перепутать порядок действия. Работа пойдет в гороно…
Примеры-то как раз и не получаются у Пети. Одна надежда на Кольку, а Коля отодвинулся на самый край – ни толкнуть его, ни шепнуть ему. Он пишет цифры с такой осторожной предусмотрительностью, точно не задачи решает, а своими пухлыми руками распутывает тонкие нити, лежащие перед ним на развернутом листе.
«Хоть бы повернул ко мне свои «стосвечовые», – возмущается Петя.
А время идет. Петя то и дело через приоткрытую дверь посматривает в коридор, на стенные часы в коричневом футляре, с острыми, как копья, черными стрелками. Поймав взгляд Пети, математик замечает:
– Ты, Стегачев, не сомневайся, часы эти авторитетные, Московского госчасзавода.
Румянец заливает Пете не только щеки, но и лоб и шею. Надо что-то предпринимать. Он решает, как выражались семиклассники, «послать депешу». Химическим карандашом Петя крупно написал на ладони: «Спасай, примеры зарезали!» – и быстро протянул ладонь Коле.
Букин еще сам не решил второго примера. Дорожа временем, он на «депешу» ответил «депешей»: «Не сбейся в порядке действия. Выйдет!»
У Пети, когда он прочитал эти слова, по спине пробежал холодок, авторитетные часы Московского госчасзавода запрыгали в глазах. Только в насмешку мог Николай Букин ответить ему назидательными словами учителя… Поступок Николая был похож на трусость и даже на предательство. Николай должен знать, что товарища в беде не оставляют… Эти мысли и высказал с возмущением Петя своему другу после урока.
В коридоре на Колю сразу набросилось несколько семиклассников. Его замкнули в живое, крикливое кольцо именно те ученики, которые обычно во время контрольных работ выходили из трудного положения с помощью «депеш». Часто моргая своими большими глазами, Коля удивленно слушал, как его ругали зажималой и сундуком.
– Тебе «депешу» давали? – спрашивали его.
Коля никак не мог понять своей вины. На уроке он так был занят размышлением над контрольной, что ни о чем другом не думал, и все же не успел решить одного примера.
– Ты что, Петечка, тонул в гавани, а я тебе руки не подал? – спросил Коля.
– А и в самом деле, что вы к нему пристали?
– Колька никому ничего плохого не сделал!
– Разойдитесь!
– Дайте ему дорогу! – заговорили другие семиклассники.
– Знаю теперь, какой ты друг, – сердито сказал Петя.
Коля вздохнул:
– Петечка, если я плохой товарищ, то на сборе отряда об этом расскажи. Только «депешу» не смывай. И я не буду смывать. – И, показав ладонь, Коля пошел готовить карты для урока по географии. На обратном пути его встретил Петя:
– Колька, «депеши» мы, конечно, смоем. На большой перемене сбегаем к вам и…
– Мылом, – подсказал Коля товарищу, который (это было очень заметно) чувствовал себя не совсем ловко. – Да, Петька, мама велела тебе передать, что в универмаге на Ленинской есть темно-синие лыжные костюмы и на мой и на твой рост. Купим одинаковые. Тебе только надо на ладонь длиннее, а пояс ушьете… Мама сказала: ушить – это пустяк…
– Обязательно одинаковые, – согласился Петя, и ссоры точно не бывало.
…У Пети и Коли давно есть общая тетрадь. Когда-то они в этой тетради рисовали тракторы – то колесные, то гусеничные. Тракторы неустанно поднимали широченные полосы колхозной зяби. Чаще всего трактористы, сидя за рулем, пели, а иногда, пригнувшись, смело смотрели вперед. Рисунки делал Петя, а Коля придумывал подписи. Под трактором, которым управлял веселый тракторист, Коля, недолго размышляя, написал:
Эй вы, кони, вы, кони стальные —
Боевые друзья-трактора…
Там, где тракторист сердито и дерзко смотрел вперед из-под низко надвинутой шапки, Коля сделал подпись:
«Ветер сильно дует ему в лицо: по всему видно – ноябрь месяц».
Но когда Петя дорисовал гусей, серым клином летевших высоко над степью, над тракторами и над красными вагончиками табора, Коля зачеркнул прежнюю подпись и сделал другую:
«Должно быть, это было в середине октября».
Год спустя в тетради появились полярные моря, ледоколы и краснокрылые самолеты, пробивающиеся сквозь снежные бури. На этих страницах друзья вели короткую переписку:
«Колька, мне до невозможности хочется быть таким, как товарищ Чкалов!.. А мама говорит: «Напрасно мечтаешь – почки у тебя воспалялись, ты подвержен простуде, зимой из насморка не вылезаешь».
«Петька, а ты закаляйся. Мы ж читали про Суворова, какой он был и какой потом стал…»
Рядом с самолетами, с длинными составами мчащихся поездов, рядом с рыбаками, отправляющимися на катерах и моторках в открытое море, теперь все чаще рисовал Петя желтые и обрывистые берега Азовского моря, синеющие рукава Дона, заросшие камышами. Над всем этим у него ярко светило полуденное солнце, и сады то цвели, то зеленели, отягощенные зреющими яблоками, грушами… Под одной из цветущих яблонь был нарисован старик в шляпе и в черном сюртуке. Лицо у него морщинистое, усталое и строгое. Он так взыскательно смотрел на сад, что не признать в нем Мичурина было нельзя.
«Коля, мама говорит, что мне лучше всего учиться на садовника. Чем плохо быть похожим на Мичурина?»
«Правильно. Ты будешь садовником, а я буду тут же на металлургии. Вместе на всю жизнь в родном Городе-на-Мысу. А в Москву мы будем ездить на совещания».
Записи в тетради оборвались гневным вопросом и грустным ответом на него:
«Коля, неужели фашисты и наш город захватят?»
«Петя, лучше об этом не думать».
* * *
Через несколько дней в класс вошел директор в сопровождении завуча Серафимы Николаевны. Директор был не в сером рабочем костюме, не в черном, который надевал в дни экзаменов и больших праздников, – сегодня на нем были солдатская гимнастерка и неширокие шаровары, заправленные в голенища низких сапог. Его сильно изменили не только наряд, но и коротко остриженные волосы.
– Друзья, – обратился он к семиклассникам непривычно глуховатым голосом, – на время нам приходится прервать занятия. Пришел час, когда у ваших учителей нашлось более срочное дело… Сами знаете, какое это дело…
Двенадцатая неполная средняя школа имени Фрунзе стояла на самом высоком месте города, и ребята сегодня слышали, как ее большие оконные стекла гудели, точно толстая, слабо натянутая струна. В этот ясный октябрьский день, тихо разгоравшийся над чуть побуревшими берегами Приазовья, легко было невнятные гулы принять за далекий гром запоздавшей грозы. Не верилось, что где-то далеко били орудия, а бомбардировщики сбрасывали бомбы. Иногда гудение оконных стекол смолкало, и тогда казалось, что гроза стороной обошла город.
Директор продолжал говорить тем же глуховатым голосом:
– Где бы вы ни были – уедете ли с родными в тыл, останетесь ли здесь, – в меру сил каждый день и час должны помогать родине в такое тяжелое время.
Пока говорил директор, из-за его плеча на ребят пристально смотрела Серафима Николаевна. И хотя она и сегодня, как обычно, подтянута и строга в своем коричневом длинном платье, но с ее лица почему-то не сходила не то тревожная, не то удивленная улыбка. Казалось, что она хотела сказать своим ученикам: «Так вот вы какие! А я всегда думала, что вы у меня такие трудные… И порой мне так хотелось отдохнуть от вас… Теперь мне страшно думать, что завтра мы уже не встретимся здесь. Каждого из вас мне так жалко, так не хочется ни с кем из вас расставаться!..»
Директор уже попрощался и ушел из класса, а Серафима Николаевна, задержавшись, глазами пересчитала семиклассников:
– Двадцать четыре вас, старших… Да, двадцать четыре…
Она коротко вздохнула и быстро пошла вслед за директором.
Ребята медлили выходить из класса. Одни невесело говорили, что завтра уезжают с родными в Сибирь, другие сожалели, что им нельзя выехать.
– Петька! Стегачев, а ты уезжаешь? – спросил Дима Русинов, веселый, озорной семиклассник со смешным темно-русым чубом, торчащим мягкой щеткой над крутым лбом, с карими глазами, в которых редко погасала лукавая усмешка, Дима всегда вовремя появлялся около загрустившего товарища и требовал, чтобы тот «выкладывал все свои болячки». – Петька, так чего же ты молчишь? – опять спросил он.
– Я еще ничего не знаю.
– А здорово бы было, если бы ты да Колька Букин остались, – мы бы что-нибудь геройское придумали.
Над прибрежными покатыми холмами взревели фашистские бомбардировщики. Острым темным клином они шли на Ростов и Батайск.
– Ребята, наши истребители им навстречу! «Лаги» и «Миги» летят! Скорей во двор! – закричал Дима и первым бросился к двери.
Школьники побежали за ним.
Петя Стегачев остался в классе и задержал Колю Букина:
– Нам, Колька, надо поговорить…
У Пети был сегодня день раздумий. Утром к его отцу, хорошо известному в области художнику Павлу Васильевичу Стегачеву, на газике заехал секретарь Петровского райкома партии Василий Александрович. Они разговаривали наедине. Из-за стены Петя слышал обрывки этой беседы.
– Жена беременна, – сказал отец. – Такая она никуда не поедет из дома. Она страшится за будущего… сына, дочь…
– Все же еще раз попытайтесь уговорить ее. Нынче же поговорите с ней ласково, осторожно, – подбирая слова, советовал Василий Александрович.
Потом в рабочей комнате отца послышался стук отодвигаемых стульев, и Петя поспешил из коридора уйти на кухню. Убедившись, что мать еще не вернулась с молоком из Первомайского, он взял два бутерброда с сыром и пошел в школу.
Дорогой Петя думал: «Папа не выполнит задания Василия Александровича… Мама не согласится уезжать… Может еще получиться и так: нынче они наступают, а завтра наши погонят их назад. Тогда и отступать не надо…»
…И вот сейчас, когда директор объявил, что занятия прерываются на неопределенное время, Петя впервые с горечью почувствовал, что разговор отца с секретарем райкома, отдаленная артиллерийская канонада, растерянная улыбка завуча Серафимы Николаевны – все это говорило о надвигающейся беде.
Петя и Коля сели за парту. Начать разговор почему-то было трудно.
– Колька, а может, и я никуда из дома не уеду? Как ты, останусь. Твоя мама не вовремя заболела, а моя мама…
Петя запнулся, покраснел и, теребя свой коротенький чуб, быстро проговорил:
– В общем, если у меня будет сестренка, то мы назовем ее Верой, а если братишка, то, как тебя, – Колькой…
– Понимаю, – качнул головой Коля. – Тогда, значит, мы оба около мам будем держать оборону?
– Не опасно, – вздохнул Петя.
Присмотревшись к нему, Коля понимающе заметил:
– В партизаны, Петечка, и не мечтай.
– А почему не мечтать? – Но тут же, отказавшись от спора, Петька попросил товарища: – Ты, Колька, если что, не забывай про меня. Знаешь, живу за городом, радио перестало работать…
В двери показался Петр Назарович, преподаватель русского языка. Опираясь на палку, он через порог сказал не то самому себе, не то Пете и Коле:
– На станции заводы грузятся. Школьные и месткомовские дела тоже погрузили в машину… Что ж мне, старику, останется делать без школы? Вот и думай.
И Петр Назарович, горько усмехаясь в прокуренные усы, зашагал по коридору.
Петя и Коля пошли за учителем.
В коридоре было пусто и глухо, и оттого портреты на стенах стали заметней и больше, а изображенные на них Горький, Мичурин, Павлов смотрели на Петю и Колю взыскательными глазами. Завхоз торопливо снимал со стены красную узкую ленту с хорошо знакомым изречением Михаила Васильевича Ломоносова:
«Повелитель многих языков, язык российский… велик перед всеми в Европе».
Петя и Коля не сговариваясь поняли, что сегодня они должны проводить друг друга.
Петя жил в трех километрах от заводской окраины города. Четырехкомнатный флигель Стегачевых стоял один на бугристом склоне к заливу, прикрытый с двух сторон колхозным садом, а с третьей – небольшим целинным перевалом.
Из школы до дома Петя добирался обычно пригородным поездом или трамваем доезжал до металлургического завода, а дальше с километр шел пешком. Но уже с неделю поезда не ходили совсем, а трамваи перевозили пассажиров только рано утром, в середине дня и поздно вечером – когда одни рабочие спешили на завод, а другие, сменившись, разъезжались по домам… Теперь Петя в школу и из школы ходил пешеходной тропой – он спускался к заливу и песчаным прибрежьем сокращал путь почти вдвое. Именно этой дорогой пошли сейчас Петя и Коля. На Заводской улице, которая пологими уступами спускалась к широкой, мелко взволнованной воде залива, сбоку, из переулка, их окликнул знакомый голос:
– Ребята-а! Вы не забыли, что я вот тут живу – Огарева, тридцать семь!
Петя и Коля увидели бежавшего им навстречу Диму Русинова. Он уже успел побывать в центре города и теперь рассказывал:
– В Приморском саду военные наших партизан обучают и перебежке, и гостинцы бросать. – И Дима сделал так, как будто приготовился метнуть гранату. И тут же заспешил сообщить другую новость: – По Фрунзенской к вокзалу много людей идет с чемоданами, с узлами. Один дядька, – похоже, что он с металлургического, – сказал: «Кто фронту не нужен, нечего топтаться под ногами. А придут они или не придут, ворожить не будем. Некогда». Ох, и сердитый дядька! Повыше козырька у него большущие темные очки.
– Если с такими очками, значит, точно, с металлургического, – убежденно проговорил Коля.
Из переулка обеспокоенный женский голос позвал Димку. Увлекая за собой Колю, Димка сказал Пете:
– Соскучишься – просигналь шапкой, как флажком, и мы с Колькой придем проведать.
– Хорошо, – усмехнулся Петя и пошел своей дорогой.
Войдя во двор, Петя сразу остановился. Выбежавшая на крыльцо мать, затыкая уши, обиженно говорила, оборачиваясь к открытой двери в коридор:
– Я тебя прошу, если не хочешь меня изводить, не говори со мной об этом… Ни в какие путешествия я не собираюсь! Прошу тебя…
Отец быстро вышел на крыльцо и плачущую увлек ее за собой в комнаты.
– Мария, успокойся. Не буду больше говорить об этом, – услышал Петя смущенный голос отца и про себя подумал: «Не выполнил папа задания Василия Александровича».
* * *
Наутро во флигеле Стегачевых появилась надежда на военный успех наших: над полями Первомайского колхоза на глазах колхозников наш истребитель подбил фашистского бомбардировщика. Раскрасневшаяся от радостного возбуждения Мария Федоровна в подробностях рассказывала эту новость:
– Я очень близко не подходила – боялась увидеть тех летчиков, что разбились… А бомбардировщик видела: большущий, с крестом, и живот у него зеленый, как у ящерицы… Растянулся, лежит… Колхозники уверяют, что теперь все у наших пойдет как по маслу. Приловчились и будут сбивать их пачками…
– Это кто же так говорит? – спросил Павел Васильевич.
– Все.
– Выстроились перед тобой и в один голос проговорили, – засмеялся художник.
– А тебе что, не нравится такой разговор? – спросила мать.
Петя заметил, что отец все же поддался хорошему настроению, которое мать принесла с собой из колхоза. В повеселевших глазах отца Петя все чаще замечал улыбку, за которой скрывался недвусмысленный вопрос: а вдруг и в самом деле все повернется к лучшему?
Нашлись у Стегачевых и другие приметы: гул орудий заметно откатился на запад, стал глуше и реже, самолеты врага не появлялись над Городом-на-Мысу, черные точки рыбацких лодок точно в мирные дни испестрили залив до самого горизонта, а цехи металлургического завода приглушенно гудели.
Петя с матерью занимались несложным домашним хозяйством и одновременно вместе читали «Похождения бравого солдата Швейка». Кто же заразительно не смеялся над страницами этой книги?.. Но Пете и матери смеяться было небезопасно – в притихшем кабинете работал отец.
– Петька, сдерживайся, а то беды наживем, – грозила сыну Мария Федоровна.
– Сама покатываешься, а на меня сваливаешь, – вытирая вспотевший лоб, отвечал Петя. – Вот скажу отцу, и будет тебе…
Но отец как будто ничего и не слышал, из его кабинета не долетало ни одного слова, только временами загремит резко отодвигаемый стул, заскрипит стол… Иногда отец на миг появлялся на крыльце, будто затем только, чтобы всей пятерней вздыбить волосы, придирчиво взглянуть на море и опять уйти к себе и затихнуть надолго.
* * *
И хотя недобрых вестей с фронта не приходило, мать зорко следила, чтобы Петя оставался все время дома, и становилась беспокойно-крикливой, если он скрывался с ее глаз на короткие минуты.
На третий день, поверив в обнадеживающую тишину, Петя колхозным садом проскользнул к дороге на Ростов. То, что он увидел здесь, сразу пошатнуло его надежды: на восток шла наша тяжелая артиллерия. Тягачи и пушки были замаскированы побуревшими ветками, связками засохшей травы.
Петя стоял, прислонившись к высокой груше. Проезжавший артиллерист крикнул ему:
– А не скучно тебе, парень, нас провожать, а самому оставаться? Хочешь – садись рядом, места свободного много!..
Петя был не так мал, чтобы поверить этим словам, но и не такой взрослый, чтобы не взволноваться, когда настоящий живой артиллерист предлагал ему место на передке самой большой пушки, да еще и кричал вместе с товарищем:
– Прямой наводкой к нам!
– Сокращай дистанцию!
Артиллеристы махали ему руками.
Петя почувствовал, что голос его задрожит от волнения, если он крикнет удаляющимся артиллеристам: «Рад бы кинуться к вам, да за садом во флигеле отец и мать!.. Ни за что не пустят!» И Петя смущенно промолчал.
Аллеей сада проходил старый садовник Григорий Степанович Сушков.
– Они, артиллеристы, видать, далеко не уедут: слух есть, что по Зареновской низине окопы роют, – сказал он Пете.
Петя обернулся. Садовник что-то соображал, пощипывая побелевшую бородку, удлинявшую его впалые бритые щеки.
– Я, Петя, проходил сейчас аж за второй перевал, – заговорил садовник снова. – Первомайские колхозники собираются в отступление. Ох, и трудно с насиженного гнезда срываться. Самые тяжелые на взлет кричат: «Не поднимайте паники! Захватчики не придут!..» Я, Петя, тоже тяжелый стал, – виновато усмехнулся Сушков и тут же спросил: – А Павел Васильевич дома?
– Папа дома.
– Что ж он делает?
– Рисует…
– Рисует?! – удивился Григорий Степанович. – Значит, не уступает, не сдается?.. А я вот, Петя, никак не соберусь с силами. Вышел обрезать дички, прошел почти весь сад, а инструмента так и не вытащил…
Григорий Степанович показал на торчащую из кармана ватной поддевки маленькую пилу-ножовку и, покачивая головой, направился в сторону города, где жил и откуда приезжал или приходил на работу в колхозный сад.
– Рисует? Твердый человек, – уже издали повторил садовник.
А Павел Васильевич действительно рисовал с таким напряжением, с такой жадностью, с какой еще не работал ни над одной из картин. Рабочее воодушевление стало особенно сильным после разговора с секретарем райкома. Теперь он знал, что в последний момент они с Василием Александровичем пойдут одной дорогой. Сложив кисти и краски в маленький чемоданчик, художник считал себя подготовленным в эту дорогу.
Думая об опасности, угрожавшей семье, он все больше стал полагаться на Василия Александровича, на его последние слова: «Если Мария Федоровна не захочет, не соберется уехать, тогда их с Петей придется переселить в город, в гущу своих людей… В крайнем случае это можем сделать и при фашистах – земля тут наша…»
На секунду он допускал мысль, что фашисты завоюют нашу страну. От такой мысли сердце наполнялось горячей болью. Все сильней хотелось нарисовать такую картину, которая бы каждой своей подробностью, каждым мазком говорила о бессмертии родины. Но нарисованное оказывалось куда уже замысла и далеко не так волновало, как волновала жизнь. Павел Васильевич злился, нервничал, искал. Он по очереди звал в рабочую комнату жену, сына или сразу обоих, звал настойчиво и не хотел слышать, что у них может быть уважительная причина задержаться даже на минуту.
Петя заходил в рабочую комнату отца с опасением: «А вдруг скажу про картину не то, что нужно?» – и в то же время с горячим интересом: «Что новое сделал отец?.. Что скажет он сам о картине?» Слушая отца, Петя всегда представлял себе жизнь заманчиво большой, а людей – влюбленными хозяевами этой жизни.
Вернувшись из колхозного сада и войдя в коридор, через застекленную дверь Петя увидел отца: он стоял посреди комнаты, взъерошенный, высокий, и, закидывая за широкую спину свои большие руки, грубоватым голосом доказывал матери:
– А я тебе говорю, что это обязательно нужно было сделать! Ну как ты не можешь понять простого, что теперь все в картине начинает кричать о большом!
– Павел, пока ты кричишь больше картины. Ты мое мнение хотел знать? – резонно спросила мать.
– Ошибся. Не надо было тебя спрашивать, – небрежно ответил отец.
– Пожалуйста. Я ничего больше не скажу, – обиженно проговорила мать и направилась к двери, часто и отчетливо стуча каблуками.
– Ты и не можешь ничего сказать – в шагу коротка. На сантиметры меряешь. Писать картину – это тебе не крестом вышивать, – ворчливо говорил отец, запираясь в своей комнате.
Сколько ни обижает ее отец во время горячей работы, мать никак не привыкнет прощать ему. Проходя мимо Пети, она шепотом предостерегала его:
– Он сегодня просто невозможный. Что я ему сказала? «Снега у тебя слишком много…» Так он…
– Петя, а ну-ка, иди ты сюда! Ты меня поймешь, у тебя шаг шире материнского, – позвал Петю отец.
– А картина, Петька, все-таки прелестная, – шепнула мать, подталкивая сына в сторону отцовской комнаты.
– Ну, гляди и рассказывай, – придирчиво и вместе с тем ласково встретил Павел Васильевич сына.
Петя стал вглядываться в картину. Неизменными оставались на холсте два зяблевых поля. Они лежали рядом и через холмики, покатые впадины, через котловины и перевалы простирались к горизонту и сливались с небом. Небо над черной, взрыхленной землей было низким, притихшим, в густых белесых облаках. Казалось, что вот-вот из облаков посыплется снег. Между полями проходила серовато-бурая полоска. Ее распахивали два больших гусеничных трактора.
Петя сразу заметил, что сегодня эта полоска стала значительно уже и напоминала теперь мостик, перекинутый через поле, как через озеро. Больше и ясней чувствовалось, что зябь можно сравнить с полой водой.
– Папа, нераспаханная полоска стала у тебя немного уже, а поле от этого здорово расширилось!
– Сразу чувствуется, что заговорил человек положительный, – подчеркнуто громко заметил Павел Васильевич.
Петя понимал, что отец так громко заговорил с расчетом, чтобы мать, находясь на кухне, непременно услышала его слова. Резкость и несговорчивость отца в споре с матерью были знакомы Пете, и он, стараясь не думать об этом, внимательно рассматривал на картине фигуру человека в овчинном коротком полушубке, в сапогах. Человек, как и прежде, стоял около степной дороги, в сотне метров от вагончика тракторной бригады.
Со слов отца Петя знал, что человек этот бригадир тракторной бригады, что он только что осмотрел поле и теперь поджидал трактористов. Он пощипывал ус, собираясь, видимо, сказать трактористам что-то простое и хорошее.
Петя не раз слышал, как отец с мучительным нетерпением и докучливостью спрашивал себя, мать и его, Петю:
– Ну что, что должен сказать бригадир трактористам?
Петя отмалчивался, не отвечала и мать. Отец капризничал: отказывался от чая, от обеда, а если садился за стол, то был придирчив и по пустячному поводу мог выскочить, запереться в рабочей комнате или на долгие часы уйти в конец двора, ближе к обрывистому берегу залива.
Петя сознавал, насколько важно было угадать мысли и слова бригадира.
– Папа, я не знал, что бригадир голо пострижен и седой, – сказал Петя.
– Конечно, ты не мог этого знать до тех пор, пока он был в шапке, – засмеялся отец.
– Папа, бригадир у тебя постриг усы, сильно похудел и постарел, а стоит прямо… Папа! – неожиданно обрадовался Петя. – Да твой бригадир в точности похож на старого плотника из Первомайского колхоза – на Опенкина!
– На Ивана Никитича? Ну-ну! – ободрил Павел Васильевич сына.
– Помнишь, прошлую осень мы с тобой были в тракторной и он туда пришел, и так же вот снял треух, и сказал…
Петя силился вспомнить, что тогда сказал старик Опенкин.
Отец подсказал ему:
– Он снял треух и проговорил: «На озимые и на зябь ложится снег». Кто-то из трактористов крикнул ему: «Дед Опенкин, надень шапку, а то голову простудишь!» А дед ответил: «Чуть постою без шапки: ждали-то его все, и ложится он вовремя и тихо».
– Как ты точно запомнил, – удивленно улыбнулся Петя.
– Запомнить-то запомнил, а оценил эти слова только сегодня. Жизнь подсказывала, а я отворачивался… – Павел Васильевич быстро взял с письменного стола этюд к картине: – Вот тот снег, перед которым старый плотник обнажил голову.
Петя видел, что этюд теперь многим отличался от картины. На нем из низких, вспухших облаков уже падал снег. Он успел протянуть по зяби белые заостренные полосы, и пашня стала еще черней.
– Не меньше ли стало поле? – настороженно спросил отец, и Петя смело ответил:
– Меньше… Снег в воздухе густой. Он застлал простор.
Не успел Петя проговорить это, как из кухни, приближаясь по коридору, мелко, но уверенно простучали каблуки туфель. Победно улыбаясь, Мария Федоровна переступила порог. В правой руке, обтянутой резиновой перчаткой, она держала длинный кухонный нож.
– А я что говорила?.. Разве я не говорила, что снегом запорошило глаза?.. Петя, потребуй, чтобы отец за консультацию поцеловал мне руку! Требуй, – с шутливой настойчивостью говорила Мария Федоровна, протягивая вперед левую руку.
Видя сконфуженного отца и догадываясь, что он мог бы сказать при подобных обстоятельствах, Петя с усмешкой заметил:
– Мама, рука твоя сейчас рыбой пахнет…
– Безусловно, – согласился Павел Васильевич и, легонько выпроваживая жену и сына из своей комнаты, сказал: – Самое трудное вы, товарищи, сделали – покритиковали… Мне остались пустяки – написать то, что надо…
Павел Васильевич плотно прикрыл за ними дверь. В кухне, где теперь Мария Федоровна и Петя жарили рыбу, хорошо были слышны его снующие взад и вперед шаги, вздохи и снова шаги…
– Хоть бы Василий Александрович приехал на минутку. Ведь он заезжал к нам еще в понедельник утром, а сегодня четверг… Я почему-то жду, что он привезет нам хорошие новости, – сказала Мария Федоровна. – И потом, Петька, отец всегда при Василии Александровиче успокаивается и после лучше работает, – говорила она, длинным кухонным ножом легко переворачивая кусок леща, который шипел и потрескивал на сковороде.
С каждым днем Мария Федоровна убеждалась, что картина становится лучше, ясней в ней раскрывается замысел. Почему-то она твердо верила, что если картина удастся, то и на фронте будет успех.
– Петя, а ведь отец кое в чем меня послушал?
Петя осторожно ответил:
– Немножко послушал.
– У отца часто бывает много лишнего, ненужных мелочей. У него не хватает формы в его работах. Ему бы нашу Анну Николаевну… Мы тогда были девчонками. С тех пор прошло семнадцать лет. Ты понимаешь, Петька, что мне уже тридцать четыре?! А я почти каждое слово ее помню так, как будто она говорила это вчера.
Мария Федоровна стояла рядом с сыном, зарумянившаяся, с приподнятой маленькой верхней губой, подвижной и выразительной, как у детей. Из-под туго повязанной темно-красной косынки с вышитой на ней еловой веточкой непослушно выбилась прядь черных волос; над небольшим прямым носом порой вздрагивали черные брови. В темных, чуть выпуклых глазах светилась радостная задумчивость.
Петя был уверен, что мать продолжала думать об Анне Николаевне – учительнице музыкального училища. Эту старушку, низенькую, с распущенными по плечам белыми волосами, Петя знал только по фотографии, бережно хранимой матерью в маленькой шкатулке.
Петя знал, что старую учительницу студенты музыкального училища любили и с ласковой шутливостью называли ее «музыкальной табакеркой». Петя наизусть помнил многие наставления Анны Николаевны, потому что мать повторяла их всякий раз, когда вместе с ним усаживалась за рояль.
«Ученик должен играть по форме: точно так, как написано… Научившись играть точно, должен учиться играть непринужденно, легко…»
– Мама, хвост у леща подгорает, – заметил Петя.
– Не вовремя задумалась, – засмеялась мать и перевернула подгоревший кусок. – А все-таки формы отцу не хватало!