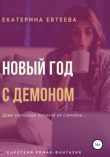Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц)

Михаил Никулин
Полая вода
На тесной земле
Жизнь впереди
Полая вода

Еще в те дни

Родился Хвинойкой, вырос – стал Хвиноем, и никто никогда не называл его Афиногеном, а это было его настоящее имя.
Схоронил Хвиной Гапку в полдень и стал ждать, стоя у могилы, когда с кладбища уйдут те немногие знакомые, что провожали покойницу. В сером, потертом ватном пиджаке, в шароварах с лампасами, узкоплечий, неприметный, стареющий мужчина, стоял он с опущенной головой, путая пальцами правой руки клочковатую русую бородку. В левой он держал казачью артиллерийскую фуражку.
Он стоял в забытьи, пока не был встревожен наступившим молчанием. Оглянувшись, убедился, что на кладбище, среди могил, желтеющих глинистыми насыпями, никого не было. Холмы, деревянные кресты, серые камни отрады и он… Кладбищенские ворота оставались открытыми, и видно было, как узкой, протоптанной пешеходами дорожкой, в направлении к хутору, уходила редкая вереница баб и стариков.
Теперь можно бы без помехи поплакать по жене, но неожиданно вспомнил, что Петька с гуртом овец ушел один. Овцы чужие, и ушел с ними Петька за семь верст от хутора, к Терновому логу, где водятся волки, где лужи грязной воды. Хвиной испуганно вздернул плечи. Оказалось, что и поплакать-то некогда…
Надев фуражку, он торопливо вышел с кладбища на дорогу, уходившую через некрутое взгорье прямо в степь.
Дорогой почему-то думал не о Ганке, а о том, как засыпали ее могилу. Казалось ему, что Гришин Митрошка старался захватить лопатой как можно больше земли, точно боялся, что мертвая встанет из гроба. Наташка голосила. Ваньки не было, и он не знал, что мать померла. Послать бы ему письмо, и неплохо, если бы его написал кто-либо из хорошо грамотных. Адрес он помнил: 12-й Донской казачий полк, 2-я сотня, казаку Ивану Чумакову. Указывать города не нужно: полк на одном месте не стоит. Гоняются за ним большевики. Офицер рассказывал Ваньке и всем казакам, что большевики хотят уничтожить казаков. Непонятно только, за что? И непонятно еще, почему это Филипп Бирюков, уважительный, умный и хороший парень, ушел к красным.
…Хуторской гурт – больше полутора тысяч овец – рассыпался по лощине и медленно продвигался все дальше и дальше от хутора. Лощина упиралась в красноглинистый крутой яр. Давно непаханое пастбище поросло бурьяном, пыреем, подорожником и заячьим капустником.
Издалека завидев овец, Хвиной не стал торопиться. Чувствуя грузную усталость в ногах, он шагал медленно. Колкие арбузики, высушенные зноем летнего солнца, сухо хрустели под ногами. Сентябрьское солнце уходило на запад. По ту сторону Осиновского лога тянулись первые борозды зяби. По черным пашням бродили грачи и озабоченно выклевывали из свежих дернов червей.
– До Покрова целых три недели, а погода стоит – будто завтра Иван постный. Зима должна быть ранней. Вспахать бы под зябь хоть какую десятину, – рассуждал сам с собою Хвиной, все больше и больше замедляя шаги. – А как ее вспашешь?.. Тягла нет, плуга тоже… Придется Петьку отдать в погонычи Аполлону. С гуртом как-нибудь сам справлюсь. В хате Галку заменит Наташка. Картошки в мундирах сумеет сварить. Как-нибудь до весны, а там, гляди, и Ванька придет. Не все же ему воевать с большевиками…
Букет прервал эти рассуждения. Виляя хвостом, он прыгнул хозяину на грудь. Хвиной, обозвав собаку дураком, легонько отстранил ее локтем.
– Рад и лезет… – заметил Петька.
Хвиной взглянул на сына и вспомнил Гапку. Невозможно не вспомнить – очень уж Петька похож на мать. Невозможно и потому, что на Петькиной рубахе очень много латок, и каждую пришивала Гапка. Вот эту большую, из мешочной холстины, она положила на подол рубахи с неделю назад, когда чувствовала себя уже совсем плохо: и во дворе, и в хате ей было душно.
– Петька, а кто тебе заячью шапку сшил?
Петька вдруг потупился, и Хвиной поспешил исправить свою ошибку.
– Я хочу сказать, что она у тебя еще новая. На две зимы хватит… – с наигранной бодростью сказал он.
Но было уже поздно: Петька заплакал.
– Молчи, сынок, – утешал Хвиной. – Молчи. Мать не встанет из гроба поглядеть на твои слезы. Молчи. Завтра у нас воскресенье. Ты погонишь гурт, а я останусь дома – поладить тебя Аполлону в погонычи. Надо заработать десятину зяби. Посеем сами. Серая кобыла хоть и старая, худая, но как-нибудь посеем. На сев оставим четыре меры гарновки, что в чувале… Не мешало бы и мягкого хлеба посеять с десятину…
Вытирая глаза, Петька с сомнением покачал головой.
– Не управимся, батя…
– Не управимся, тогда нам и в будущем году гурт стеречь.
– Вот если бы Ванька пришел домой, жита посеяли б немного, – мечтательно протянул Петька. – При Ваньке и Наташка была бы послушной, а то одно знает, что за Гришкой Степановым бегать.
Рассуждения Петьки Хвиной находил очень резонными, и ему стало еще обиднее, что нет Ваньки и неизвестно, когда он может возвратиться.
– Пойдем ближе к гурту, завтра будет видней, что делать.
Глядя себе под ноги и покачиваясь из стороны в сторону, Хвиной шел молча. Следуя за отцом, Петька тоже молчал.
Сегодня Хвиною как-то особенно мешала грыжа, ощущалась большая тяжесть в ногах, ныло в груди.
– Петька, – сказал он, не оборачиваясь к сыну, – ты веди гурт подальше от яра, а я тут немного посижу. Отдохнуть хочу.
Петька и Букет ушли, а Хвиной остался один. Тяжело опустившись на землю и рассеянно глядя перед собой, он задумался…
* * *
Хвиною было только семь лет, и уже тогда отец говорил, что, как только он вырастет, ему купят коня и седло.
– Батя, а конь у меня будет такой, как Карчик?
Отец Хвиноя, Павло Никитич, чернобородый, обиженный бедностью казак, был злым на все и всех и не терпел лишних вопросов.
– Дурак, – отвечал он и, закрыв глаза, досадливо морщился. – Не такой, а, может, лучше в десять раз.
Хвиной не обижался.
– А шашку и плеть отдашь мне?
Павло Никитич, снова закрывая глаза и грозно топая ногой, кричал:
– Да уйди ты, дурак! Уйди! Все твое будет!
Хвинойка не уходил, а убегал, боясь попасть под горячую руку. Все простив отцу, он тут же обращался к радостным мечтам, представляя себя настоящим, взрослым казаком…
Наденет он суконные шаровары с красными лампасами и темно-синюю гимнастерку… Нацепит отцовскую шашку и плеть и, вскочив на коня, тронет с места в карьер, оставляя позади себя пыльный вихрь…
Девки и молодые бабы скажут с удивлением:
– Вот служивый так служивый! Видать казака по казачьей удали.
Отец, мать и молодая жена будут плакать и непременно кто-либо из стариков станет успокаивать отца:
– Не надо плакать, Павло. Хвиной не подкачает! Казак – хват, и войска Донского он не опорочит.
Павло Никитич смахнет слезы и вместе со стариками будет пить водку и петь казачьи песни:
Прощай, страна моя родная,
Прощайте, все мои друзья…
или:
Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржет – кого-то ждет…
Но Хвиноя уже не будет видно: он ускачет далеко…
Размышляя так, маленький Хвинойка бежал в конюшню и, остановившись около Карчика, радостно смотрел на него. Он был непомерно счастлив и долгие часы мог стоять возле коня. И если Хвинойка нужен был отцу или матери, его искали прежде всего в конюшне.
Как-то в праздник во дворе Павла Никитича Чумакова собралось все хуторское общество. Это было летом. Старики, одетые в серые поддевки, в праздничных казачьих фуражках, оживленно разговаривая, прошли к конюшне и вывели оттуда Карчика. Затем они водили его взад и вперед по двору, открывая рот, смотрели зубы. И вот один незнакомый казак, рыжий, с большими веснушчатыми руками, взобравшись на Карчика, выехал на улицу. За ним вышли за ворота атаман и старики. Незнакомый рыжий казак сначала ехал шагом, потом рысью и, наконец, пустил коня карьером.
Прискакав во двор, рыжий с шиком, но тяжело соскочил на землю, и тогда все общество снова обступило Карчика. Его измеряли палкой, прощупывали под лопатками, заглядывали ему в рот… До самого вечера старики спорили, кричали и, зачем-то снимая фуражки, ожесточенно размахивали руками.
Павло Никитич, бледный и суровый, все время стоял в стороне и молчал.
Спор кончился тем, что этот рыжий незнакомый казак стоя написал какую-то бумажку, дал Павлу Никитичу расписаться на ней и увел за собой Карчика. Больше конь никогда не появлялся в конюшне.
Вечером, за ужином, Павло Никитич продолжал молчать. Дед Никита не слез с печи, а мать, убирая со стола, плакала. Она хотела рассказать Хвинойке, что Карчика забрали за долг. Дед Никита, покупая его отцу, уходившему в полк, не заплатил всего – остался немного должен. Но проценты росли с каждым годом…
Отец выскочил из-за стола и, топнув ногой, бросился к жене с кулаками:
– Молчи! Не рви сердца!..
Мать покорно опустила плечи и замолчала.
В хозяйстве остались маленькие бычата и паршивая, неудойная коровка.
Отец работал в поденщиках и брал с собой Хвинойку.
Дед Никита не вынес разлуки с Карчиком. Умирая, он подозвал к себе Хвинойку и со слезами на глазах завещал ему:
– Мои тебе, внучок, последние слова: все силы напрягай, чтобы коня и амуницию справить за свои деньги. Чтобы в полк ты пошел на своем коне и на своем седле. Чтобы военное снаряжение не отбирали у казака за долг. Коня и седло оправить не легко. Трудно бедному казаку… Тяжело снаряжаться на военную службу, а еще хуже позор переносить… Позорно, ежели полкового коня с торгов забирают: люди смеются…
Умер дед, но слова его, его завещание хорошо запомнил Хвинойка.
За всякую работу он принимался теперь с настойчивым упорством. Вместе с отцом они работали дома, работали и у Аполлона и у Степана. Отец понимал, почему так старается Хвинойка, и сам готов был работать за троих.
И вот Хвинойке – девятнадцать лет. Он жених, и ему пора подыскивать невесту. Искать ее теперь не стыдно: у них на базу две пары бычат, корова и лошадь. Лошаденка плохая, но все-таки…
Павло Никитич рассуждает с женой: девка из богатого дома за Хвинойку не пойдет, но подходящую невесту все же подыскать можно.
Они зовут Хвинойку и принимаются поучать его:
– Ты завязывай шарф по-жениховски: концами назад. Зимой и летом ходи в фуражечке…
Хвинойка не мог не заметить, что отец и мать относятся к нему теперь с большим вниманием и заботой, чем к его старшим сестрам. Девки плакали, жалуясь, что им выйти на улицу не в чем, но отец пренебрежительно бросал:
– А, проку от вас!.. Захлюстанки вы, а Хвиной – казак. Придет осень, станем с ним вырубать каменные корыта. Заработаем – и будет у Хвиноя жениховский наряд. А вы подождете…
Да, именно у Хвиноя! Так все чаще и чаще стали называть Хвинойку и отец и мать.
* * *
Случилось это глубокой погожей осенью. Хвиной и отец, пользуясь свободным временем, вырубали из красного камня корыта для свиней. Вчера Хвиноя трепала лихорадка, и теперь он чувствовал себя разбитым и слабым.
Иногда удары его кирки не попадали в цель, и тогда отец, вырубавший другое корыто, распрямлял спину, недовольно посматривал на сына.
Тяжелая работа прерывалась минутами отдыха. Павло Никитич, сидя на камне и раскуривая в старинной, прямой и длинной трубке махорку, ругал Хвиноя:
– От твоей работы больше шуму, чем пользы.
И, закрыв глаза, болезненно морщился. Его черную, широкую бороду окутывали клубы дыма.
– Работал бы так, как я работаю, – наставительно продолжал он, – мы бы в день по корыту сумели вырубить. А корыто – это семь гривен чистоганом! Семь гривен да еще семь гривен – выходит почти полтора целковых. Теперь многим позарез нужны корыта. Вот и подлатали бы кое-какие дырки в хозяйстве. Покрыли бы недостачу хлеба. Ты вот жених, а сапогов у тебя – черт-ма. Суконных, с лампасами шаровар – тоже нет… Стыдно на улицу выйти!..
Павло Никитич, не открывая глаз, ждал ответа, и Хвиной, виновато потупясь, отвечал:
– Буду стараться…
– Буду стараться! – негодовал старик, вскакивая с камня. – Буду стараться! Ты мне не старайся, но и не копайся в работе. Ты мне вырубай, как я вырубаю – с толком!
К вечеру корыта были готовы, а на следующий день, вооружившись лопатами и тяжелыми ломами, Хвиной и отец ушли в Крутенький яр выкапывать камни. С огромными глыбами ноздреватого красного камня они боролись, как рассвирепевшие быки. Они отрывали их лопатами и, подваживая ломами, скатывали вниз, на дно яра. Девки приходили помогать грузить.
…Как памятно все это и сегодня!
Грузили огромный круглый камень. Два дубовых бревна, положенных верхними концами на грядушку арбы, нижними упирались в землю. По этим бревнам, как по мостику, вкатывали камень. Он был очень тяжел и не поддавался ни воле, ни усердию людей.
– А ну, ну!
– Ну, еще!
– Ну, еще! – напрягаясь, кричали они.
Девки, повиснув на грядушке, старались удержать арбу в равновесии. И вдруг бревно сломалось и камень бесшумно опустился на землю, подобрав под себя Хвиноя. Пока отец пытался один сдвинуть камень в сторону, пока он бил растерявшихся, не умеющих ему помочь девок, Хвиной потерял сознание. Почерневшего и безмолвного, его наконец положили на арбу и привезли домой. Лекарка, пошептав на воду, побрызгала ему лицо, помяла живот, и стало Хвиною как будто немного легче. Ночь он спал спокойно, а на утро поднялся и снова вышел помогать отцу. Ударив несколько раз киркой о камень, внезапно почувствовал боль в паху.
Разными средствами лечили Хвиною грыжу, но ни одна из хуторских лекарок не сумела помочь. В конце концов привезли издалека, с песков, Доронину Палагу. Это был последний шаг, потому что старуха Доронина считалась самой прославленной лекаркой.
Почерневшими, расшатанными зубами кусала Палага место грыжи, шептала, крестилась, плевала на куриное яйцо и этим яйцом водила вокруг грыжи. Лечила усердно, но все оказалось напрасным.
После несчастья, постигшего Хвиноя в Крутеньком яру, хуторяне стали смеяться над ним, да и отец с матерью теперь относились к нему хуже. Словно Хвиной совершил какое-то преступление и всем теперь разрешалось унижать его.
Павло Никитич, сердясь на сына, кричал:
– Килан![1]1
Кила – грыжа.
[Закрыть]
А мать свое, чуть иначе:
– Калека несчастная, твое дело – молчать!
Все внимание родители уделяли теперь меньшому сыну – Оньке. Не суждено было Хвиною носить шашку и плеть отца. И строевого коня ему не готовили: с грыжей в полк не пойдешь. И вообще-то грыжный – не казак, а значит, и не человек.
Была у Хвиноя невеста. Подарила она ему перчатки из седой козьей шерсти и батистовый платочек с алой каемкой. Мало того – пошила ему кисет для махорки, и не простой, а из шерстяной зеленой материи. На кисете красными шелковыми нитками вышила:
Люблю сердечно, дарю навечно,
Дарю тому, кто мил сердцу моему.
Но, узнав, что жених нажил грыжу, не захотела она встречаться с Хвиноем, и женили его на другой – на Гапке, даже не спросив, нравится она ему или нет.
В дедовском курене Хвиной прожил сорок лет. За это время истязали работой и его самого, и жену, и старших детей. И все же при дележе имущества почти все перешло Оньке, меньшому брату. Стараясь найти истину, объяснить эту несправедливость, злые языки говорили, что Павлу Никитичу нравилась меньшая сноха, что гусаком ходил он вокруг Онькиной жены.
Дело это, конечно, темное, потому что ничего такого никто не видел. А наговорить на человека всякие небылицы и глупости проще всего. Но как бы то ни было, осталось непонятным, почему Павло Никитич обидел старшего сына.
Что же до самого Хвиноя, то он объяснял все это лишь несчастьем, постигшим его в Крутеньком яру.
Из связного куреня отец выделил Хвиною старую хату, а себе оставил горницу и коридор. Обделили его и скотом: дали двухлетку-телку и серую забитую кобылу, истоптавшую на своем веку немало травы. Но обиднее всего было другое: отец не позволил Хвиною срубить из левады ни одной вербы. А ведь вербы Хвиной сажал сам, вместе с покойным дедом! Каждую ямку рыли они с молитвой и с надеждой на бога.
– Вербы будут твои, Хвинойка, – говорил дед. – Срубишь из них хату, прочную хату! Дети твои в ней жить будут, а может, и внуки…
А что же вышло? Выросли вербы и уже можно бы срубить из них хату, да отец не велит.
– Довольно с тебя, Хвиной, – говорил он. – Я и так разделил все по-божьему. Грех тебе обижаться на отца. За это господь не пошлет счастья.
И, нахмурившись, он закрывал глаза.
Хвиной хотел счастья и потому, поклонившись отцу в ноги, смирился. Гапка заплакала, вытирая концами шали намокшее лицо. Дети сурово молчали.
Благословляя Хвиноя, Павло Никитич вручил ему дедовскую икону, иверскую божью мать – криворотую и подслеповатую. По всей вероятности, икону эту нарисовал расторопный владимирский богомаз, которого вовсе не смущало, что иверская мать на каждой новой иконе получалась все более уродливой. Вместе с иконой отец передал Хвиною портрет государя со всем его семейством.
– Молись, Хвиной…
Молчание. Отец молчал мрачно и торжественно. Черная борода его распласталась на груди.
– И потом, – продолжал он, – помни царя-батюшку. По его милости проживешь, и проживешь не хуже других.
– Стало быть, так… – послышался покорный ответ.
Серую кобылу впрягли в повозку, на которую усадили маленьких детей. Поджарую телку привязали к оглобле, и двинулось Хвиноево семейство к новому жилью.
Гапка шла за повозкой. Хвиной вел под уздцы кобылу.
В новой избе было черно, тесно, густо пахло сырой глиной и конским пометом. Перекрестившись, повесили «божью мать» в передний угол, а «царя-батюшку» – рядом, на стене. Присели на лавку.
В деревянной солонке на знакомом покосившемся столе стоит соль, а рядом лежит низкий черный каравай.
Старые люди упорно говорили, что с бедностью бороться можно. Она легко уступает, если идешь на нее ранним утром. И решил Хвиной следовать советам стариков: в мороз, в грязь, в дождь, едва рассветало, выходил он на войну с бедностью.
Но бежали годы, а бедность не уступала. И вот уже приблизилась старость. Да, постарел Хвиной. Годы вселили боль в спину, звон в уши, шум в голову… Вот и Гапка умерла… Ее нынче зарыли…
– А что же дальше? – очнувшись, спросил себя, свою жизнь Хвиной. Не найдя ответа, он не стал задумываться, заранее чувствуя свое бессилие. К тому же он просто устал, вспоминая о прошлом.
– Батя, ты не уснул?.. – окликнул его Петька. – Погляди на солнце. Пора поворачивать гурт к дому…
Хвиной вздрогнул от неожиданности, с трудом поднялся, взглянул на запад. Косые лучи низкого степного солнца, падая на холмистые просторы полей, золотили бурьян и серебрили стерню. Небо было безоблачным и густо подсиненным. Таким синим оно бывает только в сентябрьские дни перед заходом солнца.
– Вот так и думай… Не просто… Эдак-то и с ума, пожалуй, сойдешь… – раздельно сказал он и пошел подогнать левое крыло гурта.
* * *
Хвиной и Наташка обедали вдвоем. На столе над глиняной чашкой поднимался легкий пар. Свекор и сноха сосредоточенно и молча хлебали суп. Обжигаясь, Хвиной закрывал глаза и часто ворочал языком. Наташка подлила в третий раз. Теперь они ели уже с меньшим усердием.
Наконец Хвиной отложил ложку и, взглянув на сноху, распорядился:
– Достань-ка мне из сундука новую фуражку. К Аполлону схожу. Надо Петьку отдать в погонычи.
Это было для Наташки неожиданным. На бледном лице ее, намазанном дешевой, пахнущей овечьим жиром помадой, выразилось удивление.
– Батенька, а кто же будет с гуртом ходить? Уж не я ли?
– Сам буду ходить, – коротко ответил Хвиной и, немного подумав, добавил: – А ты гляди за домом… Петька жаловался, что не хочешь рубахи ему стирать. Так, Наташка, не годится… Петька говорит, что ты ночью к женихам бегаешь. Да я и сам про то знаю. Вот на тебе сейчас сатиновая кофта, а откуда она?.. Неоткуда ей взяться! Я тебе ее не покупал. Видать, правду люди говорят, что тебе ее Гришка Степанов справил. Ему что, Гришке-то!.. Денег у него уйма, и шесть гривен ему – ничто. Ну и тебе, молодой бабе, охота нарядно ходить… Гляди только, чтоб ущербу здоровью твоему не сделали. Ванька придет, а ты с изъяном… Не годится так.
Наташка, зардевшись как пойманный воришка, оправдывалась:
– Батенька, да я ничего. Это Петька набрехал. Ей-богу, я ничего.
– Я, Наташка, тоже ничего… Да не было б нам с тобой стыдно.
Хвиной говорил просто и вразумительно, и Наташка не стала больше оправдываться, тем более что улика – сатиновая кофточка – была налицо. Смущенная и притихшая, она приготовилась терпеливо выслушать наставления свекра.
– Ты, Наташка, не обижайся, а только будь со вниманием, – заключил Хвиной и вылез из-за стола.
Быстро оправившись, Наташка убрала посуду, достала из сундука фуражку, подала ее свекру. Фуражка была новая, из черного сукна, с красным кантом: такие носили казаки-артиллеристы. Каждый казак до самой смерти носил фуражку той воинской части, в которой служил действительную службу.
Хвиной не имел права носить казачью форму. Право надевать фуражку донского артиллериста досталось ему нелегко. Было время, когда на улице его встречали злыми шутками:
– Как поживаешь, Хвиной-артиллерист?
– Батареец, как здоровье?
– Бомбардир-наводчик, в какой батарее служил?
Хвиной молча переносил насмешки, и молчание оказалось самым верным средством заставить насмешников замолчать.
Надев артиллерийскую фуражку, Хвиной направился к Аполлону. У речки встретил Федора Евсеева – старшего брата Наташки, моложавого казака со смуглым бритым лицом и нагловатыми карими глазами. Федор тоже шел к Аполлону: у него сватают дочь, а у невесты нет штиблет с калошами. Разглядев девку, сваты так и заявили отцу:
– Слов нет – девка красивая, да нам с ее лица воды не пить. Не обижайся, голодранка она у тебя…
Сегодня утром Федор ходил к Степану, но старик заупрямился и отказал в деньгах. Оставался один исход: просить у Аполлона.
– Как думаешь, сват, займет или откажет? – спросил он Хвиноя.
– Как знать… Может, и даст. Только ты, брат, того: ниже низкого и тише тихого…
– Да надо же мне девок своих сбыть, руки развязать! – и Федор засмеялся в сивые усы.
Переулком, медленно ступая, подошли они к воротам Аполлона. В глубине двора высился большой щеголеватый курень. Вокруг него разбросались длинные каменные конюшни, базы, сараи и амбары. На гумне, около высокой клуни, стояла паровая молотилка. За куренем густые вербы кричали тысячью грачиных голосов.
Хвиной открыл ворота, собаки подняли оглушительный лай.
– Цыть! Замолчать! – послышался строгий окрик, заставивший собак разбежаться в разные стороны.
Из конюшни вышел сам хозяин, ведя в поводу гнедого, тонконогого и выхоленного коня. Конь, то и дело поднимаясь на задние ноги, закидывал вверх голову. Сам хозяин, гладко выбритый, поседевший, но еще бодрый, крепкий казак, одет был в полушерстяную пару. Сапоги его ярко блестели, а на голове сидела армейская фуражка, украшенная зубчатой кокардой.
Увидев вошедших, он остановился.
– Стой, сатана! Разыгрался, проклятый сын! – крикнул он на коня, одергивая его за повод.
Хвиной и Федор, держась на расстоянии, сняли фуражки.
– Здорово живешь, Аполлон Петрович, – приветствовал Хвиной хозяина.
– Доброго здоровьица, – сказал Федор Евсеев.
– Слава богу, – глядя в землю, отвечал Аполлон.
– Куда собрался ехать? – спросил Хвиной.
– Думал, да, верно, не придется. На общество надо.
Отвечая, он по-прежнему смотрел вниз и в сторону.
– Как же так?.. Говоришь, что общество будет, а хуторской полицейский с наказом не ходил, – обронил Федор Евсеев.
– Знытца, общество будет. Раз говорю, то и будет, – скороговоркой ответил Аполлон.
– На обществе-то о чем разговор пойдет? – спросил Хвиной.
– Надо, знытца, в Зыковом логу пруд запрудить. Нам со Степаном, хоть кричи, надо! У меня там сто десятин земли, у Степана – с полсотни наберется. Лето и осень там работаем, а быков поить негде.
– А нам-то, Аполлон Петрович, пруд в Зыковом не нужен. У нас земли там нету, – необдуманно сказал Федор Евсеев.
Хвиной незаметно наступил свату на ногу, хотя ошибку исправлять было уже поздно.
Аполлон небрежно улыбнулся.
– Нет, знытца, Федор, не так ты рассуждаешь. Нет у тебя скотины, так ты ее наживи. Ты вот приторговываешь на рынках скотиной, так? Умней торгуй, не ленись, не разгульничай! – вразумлял Аполлон, раздражаясь и хмуря седеющие брови.
– Понятно, пруд каждому нужен. Нынче у меня нет скотины, а завтра она, может, и будет, – примиряюще сказал Хвиной.
– Так-так, знытца, – подхватил Аполлон. – Ты, знытца, Хвиной, зачем пришел?
– Петьку в погонычи отдать надобно. Зяби хочу заработать.
– А ты, Федор?
– Деньжат занять. На калоши дочери… Выручи, Аполлон Петрович.
– Знытца, подождите, а я сейчас.
Пустив коня за ворота, Аполлон ушел в курень, а Хвиной и Федор остались на месте. Переступая с ноги на ногу, они долго молчали. Затем Федор Евсеев, быстро позабыв о своей неловкости, стал посмеиваться над сватом Хвиноем:
– Завтра приду к тебе, а у тебя – полный баз скотины. Наживешь ее…
Хвиной не отвечал. Ему было не по себе, хотелось скорее уйти, скорее вырваться на волю, вернуться домой, к тому серому, бедному, чем жил он каждый день и что сейчас казалось не таким уж тяжелым.
Из куреня послышалась брань Аполлона. Один из его работников, выскочив без шапки на крыльцо, побежал к гумну. Вслед за ним вышел и сам хозяин. Сойдя с крыльца, он поманил к себе Хвиноя и Федора и, когда они подошли, сказал:
– Погоныч мне нужен. Ты, Хвиной, присылай Петьку. Знытца, работа ему найдется.
Он вскользь улыбнулся, обратившись к Федору, внезапно стал строгим:
– Денег нету, Федор. Нету их. Откуда они?.. Можешь вот эту взять… – И достал из бокового кармана пиджака сорокарублевую керенку. – На вот… Только не забудь и мою просьбу: пришли жену и девку обмазать сараи. Высохнет обмазка – пришлешь побелить.
– Пришлю. Прислать жену и девок – дело не хитрое. Только ты, Аполлон Петрович, займи еще хоть столько же, – настаивал Федор Евсеев.
– А на обществе хорошо пошумишь? Пошумишь, чтобы пруд прудили и чтоб рабочих наряжали не с рогатого скота, а с души? С души, знытца! – твердо повторил Аполлон.
– Дашь, так и пошумлю! – нагловато усмехнулся Федор Евсеев и, получая вторую бумажку, спросил: – А когда же на общество?
– Сейчас же идите туда! Я подъеду.
Хвиной и Федор, направлявшиеся к речке, теперь повернули на выгон, через который лежал путь к атаману. Там должно было состояться хуторское общество.
* * *
В просторной горнице атамана, куда вошли Хвиной и Федор Евсеев, теснились старики. Длинный стол, покрытый цветастой клеенкой, одним концом упирался в передний угол, заставленный иконами в светлых ризах. Под иконами сидел сам атаман Иван Богатырев, казак лет сорока пяти. Отец его был крепким хозяином, и Иван Богатырев, к которому перешло хозяйство, сумел сделать его еще крепче.
С военной службы он пришел урядником на старшем окладе, был хорошо грамотным, умел вести себя с начальством, и потому его избрали хуторским атаманом.
По обе стороны от атамана сидели Аполлон и Степан, древний старик с окладистой бородой, одетый в темно-синий мундир с серебряными галунами на воротнике и рукавах.
Подальше разместились по лавкам и табуретам менее зажиточные казаки.
В горнице непринужденно разговаривали, посмеивались.
Поднявшись, атаман постучал ладонью по столу, и наступила тишина.
– Вот что, – сказал он, расправляя русые, пушистые усы. – Общество собрал не зря. Зря никогда не собирал. – И самодовольно усмехнулся.
– Зря и не надо, – заметил кто-то сзади.
Атаман гордо выпрямился, воспринимая это замечание, как похвалу.
– Не буду зря собирать!.. Теперь к делу. А дело немалое и важное. В Зыковом логу у нас нету пруда, а пруд там нужен. Стало быть, надо запрудить. Тут крути не крути, а прудить надо…
Стоя напротив стола, рыжий широкоплечий старик Матвей Кондратьевич внимательно слушал атамана, и внимание его росло с каждой секундой. Это было заметно по тому, как большой рот его с каждой секундой открывался все шире и шире, а круглая лысина покрывалась каплями пота. Рябое и красное лицо Матвея, похожее на обожженный кирпич, из простоватого становилось все более упрямым и злым. Щуря желтые глаза, он переводил их с атамана на Аполлона, а затем на Степана.
– Польза всем, явная польза всем от того, что запрудим, – продолжал атаман.
Матвей не выдержал и, улыбнувшись недоброй улыбкой, заметил:
– Постой, атаман… Ты за кого нас принимаешь?
– Как за кого? – строго удивился атаман, понимая, что Матвей разгадал его хитрость.
– За дураков считаешь! – решительно заявил Матвей и склонил лысую голову.
Наступила неловкая тишина.
– За дураков, – повторил он. – Аполлону и Степану нужен пруд, у них там участки… Выходит, что мы им эту самую… жареную прямо со сковороды да в рот?.. Животы у них заболят.
– Ты сам так умно придумал, атаман, или тебе разжевали и в рот положили? – поддержал Матвея Андрей Зыков, сухощавый и стройный казак.
– Ты за меня не думал! – бледнея, бросил атаман.
– За тебя подумали Аполлон и Степан, – хладнокровно возразил Зыков, ероша курчавый, черный, с легкой проседью чуб.
Опять наступило молчание, которое на этот раз нарушил Федор Ковалев, одутловатый, грузный казак, слывший за придурковатого, но в то же время хитрого и упрямого человека.
– Атаман, дозволь мне раскланяться. Передавай поклон нашим, ежели увидишь своих! – густым басом заметил он и поклонился, намереваясь покинуть общество.
В горнице засмеялись. И только Аполлон и Степан сидели молча.
Осмеянный атаман потерял самообладание.
– Я прикажу – и будете прудить! – крикнул он, и его серьга из царского пятиалтынного часто закачалась.
– Не прикажешь! – поднимая голову, громко ответил Матвей.
– А вот прикажу!
Молчание.
– Атаман имеет право приказать, – коротко пояснил Степан, расправляя бороду.
– Не имеет! – гаркнул Ковалев.
– Приказывай жене, когда надо, а на обществе нужно мнения слушать…
– Пруди сам, атаман, со Степаном и Аполлоном, – крикнул Андрей Зыков.
– Все будете прудить! – взмахнув кулаком и стараясь перекричать непокорных, бросил в толпу атаман.
– Не будем!
– Жене укажи на застежки, а не нам!
Крик возрастал. Брань, сквернословие наполнили горницу. Атаман, стуча по столу кулаком, грозил составить протокол, но и это не действовало. Наконец он вынужден был прибегнуть к последнему средству. Подняв над головой кулак, он крикнул:
– Тише! – и угрожающе указал на царские портреты, висевшие на стенах. – Не видите, кто там?.. Ослепли? Царские лики вас слушают. Под суд отдам за оскорбление их императорских величеств.
Да, атаману удалось найти способ укротить людей. Взглянув на портреты царей, Матвей, нарушив тишину, длившуюся несколько секунд, умиротворенно посоветовал:
– Придется во двор выйти.
– На дворе просторней!
– Выноси стол на двор!
– На двор, а то в горнице царские лики мешают высказаться! – крикнул Федор Ковалев.
Дружный гогот огласил горницу.
Пока выносили стол, скамьи и табуретки, старики, выйдя из комнаты, разбрелись по двору. Аполлон и Степан, захватив с собой Матвея Кондратьевича, чернобородого старика Обнизова и седоусого казака Мирона Орлова, прошли за ворота.