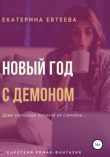Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
– Я тебя не понимаю, – неспокойно сказала Мария Федоровна и против своей воли оглянулась.
– Мама, у тебя тут целая ремонтная бригада поработала. Снаружи обили стены чаканом, чаканом закрыли окно и дверь в кухню. Очень здорово получилось, – будто у нас кухни нет и никогда ее не было… А там, в кухне, больной разведчик, и ты за ним ухаживаешь, – значительно тише проговорил Петя.
– Что ты плетешь? – вскочила со стула Мария Федоровна и кинулась зажать ему рот. – Не смей больше болтать глупости!
– А я уже все сказал… И ты, мама, не волнуйся, – это же здорово, что мы с тобой делаем одно дело!
Испуганно отмахиваясь от Петиных слов, Мария Федоровна быстро вышла на крыльцо. Она выскочила проверить, – не услышали ли фашистские часовые Петиных слов? Часовые уже не стояли, как в первые дни, на виду у всех, по глинистому крутобережью залива, а скрылись в доты, связанные между собой телефонной линией.
Мария Федоровна села на лавочку, прямо на желтые, опавшие листья акаций, что росли у самого крыльца. Она глубоко задумалась. Теперь ей не было смысла допрашивать сына, куда и зачем он ходил.
«О Сорокине он все узнал от Ивана Никитича. Да и сам Иван Никитич, когда я приставала к нему со слезами и с допросом, где искать Петю, уж очень спокойно и твердо уверял, что Петя не сегодня-завтра вернется. Они где-то были вместе», – думала Мария Федоровна.
До сих пор она думала с холодной ясностью, но стоило ей вспомнить про синяки на подбородке, как вставали сами собой страшные вопросы: «На Петю могло пасть подозрение, фашисты его мучили, били? И они могли убить его?!»
Щемящие тиски сдавили ей дыхание, маленький рот стал частыми глотками ловить воздух: «Нет-нет!.. На Петьку у меня больше прав… Он же еще маленький».
Она вернулась к Пете и сказала ему, взглянув в сторону кухни:
– Мне его привели больного. Его надо было покормить, приютить… Я никуда за ним не ходила… Я им скажу, что женщина имеет право оказать помощь… Но ты хочешь делать не свое дело!
Пока Мария Федоровна выражала сыну накипевшие чувства, Петя все с большим удивлением присматривался к ней. А Мария Федоровна торопливо повторила:
– Я никуда за этим больным не ходила! Его привели.
– А я думал, что ты у меня лучше, – волнуясь, начал Петя. – Значит, если бы той ночью Матвея Федоровича Сорокина не привел к нам Иван Никитич, ты бы сама ему ни за что не помогла?
– Это почему же не помогла?! – возмущенно проговорила мать.
– Вот видишь, помогла бы? – светлея в лице, сказал сын. – Я было поверил твоим словам. Конечно, ты бы помогла ему… Матвея Федоровича надо было спрятать во что бы то ни стало… А вдруг они нашли бы его и начали мучить, допытываться… Они, знаешь, как умеют мучить наших?
Мария Федоровна молчала, теребя свой платок из тонкой парусины, тот самый платок, который она держала в кармане парусинового фартука, обшитого, как и платок, красными шелковыми нитками.
«Фартук и платок из парусины с красной оторочкой не напоминают ли тебе, Петька, о вкусно сваренных и поджаренных вещах, коими нелишне побаловаться потрудившемуся человеку? Оставим кисть и примемся за завтрак», – вспомнил Петя слова отца, которые тот повторял чуть ли не каждый день перед завтраком и обедом.
– Мама, если бы ты подогрела вчерашнюю пышку, я бы с удовольствием ее съел. Как знать, может, и Матвею Федоровичу хочется пышки. Ты ведь его не спрашивала?.. Зря.
Это была отцовская манера разговаривать с матерью – полушутливо, полусерьезно. Он тут же положил руку на плечо матери и добавил:
– Мы с тобой как-нибудь потом о многом поговорим откровенно.
В эту же секунду Петя почувствовал, что материнские маленькие руки обхватили его с несвойственной им силой.
– Я что-то придумаю, и мы с тобой доживем до тех пор, пока минует беда и вернется отец, – горячо шептала мать.
– Обязательно доживем! Обязательно вернется папа! – отвечал ей Петя, но думали они всяк по-своему.
Мария Федоровна искала возможности удержать сына дома, около себя, в безопасности и в то же время остаться матерью, которую Петя любил бы и уважал бы больше, чем кого-либо на свете.
А Петя, обнимая мать и чувствуя на своей шее ее тугие, изредка вздрагивающие руки, начинал с каждой минутой все яснее понимать, что мать может стать серьезной помехой в его новой жизни. Этой жизнью он хотел жить так же, как живут отец, Василий Александрович, Дрынкин, Валентин Руденький, радист Ваня, старый плотник Опенкин и как жил Иван Владимирович.
«Да, а с Иваном Никитичем, когда уходили с кладбища, я почти поссорился… Мне так хотелось бы сейчас с кем-нибудь поговорить по душам… С мамой об этом нельзя… – думал Петя. – А с кем же можно?»
Как только Мария Федоровна вышла из комнаты, Петя взял с этажерки ученическую тетрадь, карандаш, пододвинул к кровати отцовский стул с плоским сиденьем. Умостившись под одеялом, он развернул на стуле тетрадь и стал писать:
«Зина, почему нет тебя сейчас в этой комнате?.. Мне так хочется поговорить по душам. О многом надо рассказать тебе, но сначала я рассказал бы о Кате Евсиковой и о моей ссоре со старым плотником… Зовут плотника Иван Никитич Опенкин. Ну, да ничего, что тебя, Зина, нет здесь. Я буду разговаривать с тобой на бумаге. Мне очень легко представить тебя такой, какая ты есть. Буду писать и по лицу и по глазам угадывать, в чем ты со мной согласна, а в чем не согласна. А может случиться, что это письмо я передам в твои руки. Почитаешь…»
Высоко над крышей стегачевского флигеля с глухим подвыванием пролетели фашистские самолеты на восток, – может быть, на Ростов. С торопливой решимостью Петя вырвал из тетради исписанный лист, порвал его на мелкие кусочки и скомкал… На новом листе он сейчас же по памяти написал то же самое, но только без слов «Зина», «Катя Евсикова», «Иван Никитич Опенкин».
«Я все написанное понимаю, а другой ни за что не поймет… Это как раз очень хорошо», – подумал Петя.
Вошла Мария Федоровна. Пока она доставала из буфета тарелку с вареной картошкой, кислой капустой и белую пышку, Петя держал тетрадь и карандаш под подушкой, а на стуле у него лежала повесть Гоголя «Тарас Бульба». Он взял эту книгу не только для отвода глаз, но и потому, что она стала теперь лишним напоминанием о Мартыновке, о Дрынкине, о Зине: ведь именно эту повесть, по настоянию Виктора Гавриловича, Зина должна была читать мартыновским колхозникам.
– Петя, вижу, что ты понемногу начинаешь успокаиваться. Полежи еще, и тебе станет хорошо. Ты только слушайся мать, – проговорила Мария Федоровна и, выйдя в коридорчик, долго там звенела ведрами.
«Понесла поесть Матвею Федоровичу. Ведрами звенит нарочно, чтобы я не услышал, как она будет стучать, чтобы я не услышал, как Матвей Федорович откроет дверь», – подумал Петя и тотчас начал снова писать Зине.
Как можно короче Петя описал похороны Ивана Владимировича и гибель Кати Евсиковой на его могиле.
«Видела бы, как она разгребала могилу, какие у нее были глаза!.. Она была его невестой.
Если бы ты хоть немного знала ее жениха, ты бы сказала, что его так и нужно любить. Теперь слушай, что же мне сказал старый плотник, когда она застрелилась: «Пойдем, сказал, ее и без нас закопают», – и еще дернул меня за рукав. Понимаешь, получается, будто ему и дела нет до того, что случилось на могиле».
Старательно избегая обращения к Зине, Петя продолжал писать:
«С тех пор, как застрелилась она, я не перестаю думать о тебе. Сгоряча я обозвал старика черствым. Он меня никак не обзывал, но сердито предупредил, что будет обо мне говорить с кем надо… Вижу, что он считает меня зеленым. Думает, что я не устою в серьезном деле до конца».
«Кажется, опять мама идет сюда? Допишу после», – подумал Петя.
Спрятав тетрадь, он раскрыл книгу и начал читать ее с такой жадностью, с какой давно уже ничего не читал.
* * *
На следующий день письмо к Зине Зябенко пополнилось еще двумя тетрадными страницами. Думая о Василии Александровиче, Петя писал ей:
«И сейчас я еще не знаю, согласился ли он со стариком…
Полностью ли согласился с ним или не полностью?.. Как я об этом узнаю, скоро ли узнаю? Чем больше проходит времени, тем больше я тревожусь. Хоть бы он не согласился со стариком. Для меня это важнее всего на свете».
Видимо, в этом месте письмо прерывалось. Мария Федоровна ли была помехой или что другое, но последующие строчки непосредственной связи с уже написанными не имели.
«Я только закончил читать «Тараса Бульбу». До чего же замечательная книга! Про нее, как про нашу страну, можно сказать: «Я другой такой книжки не знаю…»
Ведь правда, что лучше «Тараса Бульбы» книжек нет?.. Ты сразу со мной не соглашайся. Про нас с папой мама не раз говорила: «Вы с отцом как начнете что-нибудь хвалить или ругать, так уж и остановиться никак не сможете…»
Но папа ей тоже хорошо отвечал: «А может, это про нас с Петькой написано: «В наших жилах – кровь, а не водица»!»
– Я больше всего думал над этим вот местом из книжки. Тарас Бульба уже убил Андрия. Остановился около него «и глядел долго на бездыханный труп».
Помнишь, он говорил себе про Андрия:
«Пропал, пропал бесславно, как подлая собака!»
«– Батько, что ты сделал? Это ты убил его? – сказал подъехавший в это время Остап.
Тарас кивнул головою.
Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же:
– Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тела хищные птицы.
– Погребут его и без нас! – сказал Тарас. – Будут у него плакальщики и утешницы!»
Старик, с каким я поссорился, сухонький, маленький, а Тарас Бульба – огромный человечина. Чем же они похожие один на другого?..»
Дальше Петя писал уже не письмо, а записывал в свою тетрадь свои рассуждения:
«Они похожи вот чем: за землю родную не пощадят ни сына, ни кого другого… Тарас не захотел схоронить Андрия… Старик не захотел хоронить ее. Но ведь она никого не предавала! Нельзя же ее приравнять к Андрию?.. А может, Тарас и Андрия похоронил бы, так некогда же было!»
И Петя, точно горячо споря с кем-то находившимся тут же рядом, быстро перелистав книгу, нашел нужную страницу и начал с выразительной строгостью читать про то, как куренные атаманы один за другим докладывали Тарасу, что ляхи окрепли и начали бить запорожцев.
«– На коня, Остап!»
Эти слова Тараса Петя прочитал почти шепотом, но в голосе его было столько сдержанных чувств, что Мария Федоровна, должно быть, по незыблемому праву всех влюбленных матерей, давно следившая за Петей через приоткрытую дверь, невольно отступила, но сейчас же, вернувшись на прежнее место, убедилась, что сын серую тетрадь с записями прячет под тесный ряд книг на нижней полке этажерки.
С этого дня записки, которые делал Петя, прочитывались двумя читателями: первым читателем был сам Петя, а вторым – Мария Федоровна. Читали они их в разное время, читали с трепетной боязнью, как бы другой не застал за чтением.
О том, как Мария Федоровна провожала в дорогу окрепшего Федора Матвеича Сорокина, Петя записал:
«Что ни говорите, а она у меня молодец. Она была очень осторожна: ходила тихо и как бы между прочим. Ставни накинула на крючки, а дверь неслышно заперла за собой. Это чтобы я не увидел и не вышел».
Здесь Петя улыбнулся тому, что мать, будучи осторожной, все же не уследила, когда он заходил к Федору Матвеичу попрощаться и попросить его сказать Василию Александровичу, что он в последний раз разговаривал с Иваном Никитичем не так, как надо. В тетрадке он об этом записал:
«Признаюсь, что я не совсем еще закалился. Непременно закалюсь, буду стараться… Но ему тоже надо сознавать, – хоронить любимого человека мне было тяжело, а тут она застрелилась на могиле. Кровь так и брызнула по желтой глине… Я разволновался. А мне надо бы, как Тарас Бульба в трудную минуту: «Остап, на коня!»
…Сколько же можно мне лежать на кровати и ничего не делать?.. Хорошо слышно, как бомбы рвутся в стороне Куричьей косы. Встаю! Надоело валяться!.. На всякий случай наколю дров побольше, перенесу их в кухню. Из погреба наношу угля, картошки… Наношу с запасом на неделю или дней на десять… И почему ребята не приходят? Прямо зло на них!»
Мария Федоровна читала эти строчки, когда Петя, обувшись и накинув на плечи пальто, хозяйничал во дворе. Оторвавшись от тетради, покачивая головой, Мария Федоровна смотрела через окно на сына и в то же время старалась привести в порядок мысли о прочитанном. Прежде всего про себя она отметила, что дневник написан с большой осторожностью. Чужой человек не нашел бы здесь никаких намеков на живых людей, на обстоятельства. И чувства, волновавшие Петю, были чувствами сильно повзрослевшего человека. Но как трудно ей примириться с его взрослостью, отойти от сына, не опекать его больше.
Потом она, остановившись в дневнике на тех строках, где Петя писал, что кровь на могиле его взволновала, думала: «Нет, мы, матери, лучше чувствуем, что четырнадцатилетним позволительно знать и что им запрещено видеть и слышать! Матери должны уберечь детскую душу… Ну конечно, Петька дитя. Он даже забыл, что и такие записи сейчас лучше не делать…»
Оглядываясь, будто боясь, что и стены флигеля могут подслушать, Мария Федоровна, сжимая тетрадь, остановилась посреди комнаты.
– Почему их так жалко рвать?.. В них Петькино сердце, душа, и они у него хорошие. Павел, что мне делать? – спросили она так, как будто муж стоял рядом. – Положу на место, а потом спрячу подальше.
В Петиной комнате было тихо. Через открытую дверь виднелся рояль, стоявший в гостиной.
«Я сыграю что-нибудь хорошее… и успокоюсь. Нет, сначала позову Петьку и сыграю ему».
Она быстро вышла на крыльцо и позвала сына.
Мария Федоровна начала играть.
* * *
У крутого склона к морю появился полковник фашистской береговой обороны. Расхаживая по пустырю, он оборачивался к морю и, поднимаясь на носки, в бинокль смотрел через залив туда, где в пасмурной дымке осеннего дня смутно серели гирла Дона, желтели перезревшие камыши.
Полковник Мокке был малорослым человеком, а видеть ему хотелось побольше и подальше, и он то и дело поднимался на носки. Не удовлетворяясь тем, что видели его глаза, он вынужден был понемногу забирать и забирать в гору.
За полковником следовал тучный солдат с румяными, точно подкрашенными, щеками, по фамилии Монд.
Пока полковник Мокке, чтобы видеть ясней, что происходило в водах залива и в камышах донских гирл, поднимался и поднимался в гору, неизменно в пятнадцати – двадцати шагах за ним следовал Монд. На шее у солдата болтался автомат, через плечо висела небольшая сумка. В ней лежали хорошие русские папиросы, бутерброд с украинским салом и фляжка с ромом: полковник может проголодаться и спросить, нет ли чего-нибудь. Иногда и сам Монд залезал в сумку – только, конечно, украдкой.
Полковник Мокке наконец поднялся на самую высокую точку прибрежного взгорья, к опушке первомайского колхозного сада, и увидел стегачевский флигель с его маленьким подворьем за невысоким дощатым забором. Уставившись на это подворье, полковник замер на месте, и только его стек в закинутых за спиной руках беспрестанно двигался. По движениям стека, коротким и частым, Монд понял, что полковник решает, надо ли выселить жильцов этого дома. Таких распоряжений полковник вдруг не делает. Он обязательно должен поразмыслить, постоять и тогда уже распорядиться.
Монд скучающе думал: «Если бы сейчас с полковником находился кто-нибудь из адъютантов – Мильтке или Штреземан, – Мокке со вздохом сказал бы: «Мильтке, Штреземан, не все командиры национальной армии жестокосердые, но стратегия заставляет выселять… Я воспитан в религиозной семье. Мне не легко это делать». И тут он начал бы рассказывать о своих родственниках… А раз ни Мильтке, ни Штреземана нет, то полковник начнет тихо и скучно свистать…»
И действительно, Мокке начал невнятно и грустно насвистывать. Заслышав этот свист, Монд даже присел, собираясь подремать пять – десять минут, но полковник внезапно оборвал свист:
– Узнай и доложи, кто живет в русском коттедже!
Монд сходил к Стегачевым и, вернувшись, доложил полковнику:
– В коттедже живет русская фрау, жена русского художника Стегачева.
– Как ты об этом узнал?
– Фрау со мной по-немецки…
– Что она делает?
– Фрау с сыном. Сыну пятнадцать лет. Они, господин полковник, оба сидели около рояля. Увидели меня и окаменели…
Полковник Мокке изучающе посмотрел на солдата и строго сказал ему:
– Пояс у тебя низко опустился. Подтяни!
В это время до слуха полковника донеслись звуки музыки. Играли на рояле что-то грустное. Мокке не удалось стать музыкально образованным человеком, но музыку он чувствовал. Игра на рояле была ясной, мягкой и уверенной. В мягкости этой заключались и сила, и огромный простор, и грустная, чистая красота. Полковник невольно подумал: «Хорошая игра. Музыка, безусловно, русская… Культурная семья…»
При этой мысли его небольшое, смуглое, чисто выбритое лицо загорелось румянцем злого стыдя: ему всегда становилось стыдно, когда он наблюдал, с какой выдержкой держались русские, когда их арестовывали. Они не хотели видеть тех, кто их арестовывал. Когда их выселяли с семьями из квартир, они спешили молча выселиться, оставаясь безразличными к тем немцам, что пришли занять их жилье. Даже в минуты слабости и испуга они уходили в себя и потом начинали смотреть на угрожающих им немцев как на страшную нелепость.
– Русская фрау воскресла. Играет, – негромко, для самого себя, проговорил Монд.
Полковник услышал его.
– Она воскресла потому, что тебя перестала видеть, – с недоброй усмешкой заметил он и тут же вспомнил слова: «Мало подавлять завоеванных оружием. Надо уметь подавить их своими внутренними и внешними достоинствами». Это было излюбленное выражение одного генерала, которого он считал своим учителем и вместе с которым тайно подшучивал над фюрером.
С этими мыслями полковник Мокке медленно зашагал к стегачевскому подворью, приютившемуся около самого яра, у края большого колхозного сада.
* * *
Под вечер, думая о Зине, Петя записал в серую тетрадь:
«Он пришел как раз, когда мама играла любимую пьесу из «Времен года». Он слушал надутый и все принюхивался к своему платочку. Он причесан так, будто только из парикмахерской.
Он сказал, что Чайковский учился у немецких композиторов.
Мама спросила:
«Откуда вы это знаете?»
Он назвал маму «мадам» и сказал:
«Вы должны мне верить».
Мама стала красная, как бурак. До чего мне было обидно за маму. Она так неловко себя чувствовала, что начала заикаться. Она хотела сказать ему: «Надо же это доказать», а вышло у нее вместо «доказать» – «до-ы-озать».
Еще хуже маме стало, когда он на прощанье подарил ей свою фотографию. Он поставил ее на рояль, прислонил к гипсовому мальчику. Мы с папой купили этого мальчика в Ростове, в комиссионном магазине. Он лежит на животе, подпер ладонью подбородок и смотрит куда-то далеко-далеко. Мы с папой в один голос сказали тогда: «Он смотрит на море».
Он сказал, что с этой фотографией нам будет безопасней. Еще он сказал маме, что все культурные люди будут их союзниками.
Он говорил по-русски понятно, только очень медленно и вместо «у» выговаривал «ю», вместо «ы» – «и». У него получалось так: «Ви в трюдную минуту вспоминайт…»
Он обещал зайти послушать Баха.
Если бы ты знала, как он своим подарком расстроил маму. Как только он ушел, она схватилась за голову и начала со слезами кричать:
– Петька! Родной мой, ну, скажи, пожалуйста, что мне делать с этой дурацкой фотографией?.. Неужели она должна стоять тут?.. Куда девался отец? Хоть бы он подсказал, что делать?!
Я тоже не знал, что делать с фотографией. Я вышел к нашему яру. Присел на обрыве и задумался. До невозможности мне было тоскливо. Тесно мне стало дома и на земле. И тут как раз пришла радость…»
Петя настороженно задумался и сейчас же быстро вырезал из тетради все, что было записано сегодня, и уничтожил.
* * *
«Как жалко, что нельзя записать в дневник сегодняшней встречи с Иваном Никитичем. Незабываемая встреча, а все-таки что-нибудь могу забыть. А хотелось бы рассказать Зине о ней все, как было, – ночью, лежа в постели, думал Петя. – Я и не заметил его за деревом. Первое, что он сказал:
– Не удивляйся, что наткнулся на тебя, я тут теперь как надзиратель над их постами. Скоро они будут жалованье мне платить.
И тоненько засмеялся.
Он не забыл о нашей ссоре. Он вот как сказал:
– Петро, я тогда, на кладбище, не учел одного, что ты еще рядовой, и спросил с тебя как с командира дивизии.
А дальше он сказал:
– Завтра пойдешь в город. С отцом встретишься.
От радости я чуть было не забыл спросить его, что же нам делать с фотографией полковника Мокке…
Он очень обрадовался подарку полковника.
– Эта фотография будет вашей защитой, защитой яра, – сказал он. – Ни за что не выбрасывайте подарка.
И опять тоненько засмеялся и посоветовал:
– Досадно Марии Федоровне видеть его, так пусть она для облегчения сердца иной раз возьмет и покажет кукиш ему – портрету».
В этом месте своих воспоминаний о сегодняшней встрече с плотником Опенкиным Петя не выдержал и засмеялся.
– Петька, ты чему так рад? – приподнимаясь с подушки, спросила Мария Федоровна.
– Подарку полковника Мокке – его портрету.
– Ты своим умом дошел до этого? – обидчиво спросила мать.
– Один умный и хороший человек подсказал. Он сказал, чтобы ты для облегчения сердца показывала кукиш этому портрету.
– Врун. Это ты сам придумал. Хорошо придумал. – И Мария Федоровна засмеялась и потом не могла сдержать смех.
Петя вскочил с кровати и вместе с постелью в охапке перебежал из гостиной к матери в спальню и, раскинув матрац на полу, сказал:
– Мама, давай вместе посмеемся, – и, свалившись, стал смеяться. В его смехе были и восхищение старым плотником, и мечта о скорой встрече с отцом, и радость, что утешил мать. – Мама, ты что-нибудь в темноте видишь?
– Нет, не вижу.
– Я уже три кукиша показал тому Мокке, что стоит на рояле!
– И я ему один показала. И правда, немного легче стало, – сквозь смех говорила Мария Федоровна.
И сегодня, как вчера, стоял осенний пасмурный день с вольным восточным ветерком и низкими, плоскими облаками, похожими на весенний иглистый лед. И сегодня, как вчера, где-то левей Куричьей косы стучали пушки так, как будто огромными молотами кто-то злой утрамбовывал землю и она, жалуясь, глухо гудела.
И оттого, что земля жалобно гудела, а порой под разрывами тяжелых бомб трескалась так, будто тысячи деревьев, в одно мгновение разламываясь, валились вниз, в стегачевском флигеле стояла унылая тишина. Уныло-тихими казались Марии Федоровне и безлюдный обрывистый берег залива, и зеленовато-желтые, пенистые волны, хотя они безостановочно бежали одна за другой, неумолчно шумели, разбиваясь о берега мыса, на котором расположился онемевший город. Что в нем делается?.. Даже высокие серые трубы заводских цехов перестали дымить.
– Хоть бы кто пришел оттуда!.. Хоть бы кто рассказал, о чем там думают люди? На что они надеются? – разговаривала с собой Мария Федоровна. На коленях у нее лежала полотняная дорожка. На ней она старательно вышивала ярко-красные большие цветки мака. Она пристрастилась к вышиванию в те дни, когда не было Пети. Кропотливая, мелкая работа хоть на короткое время отвлекала ее от тревожных дум о сыне.
Сейчас сын жил дома, был здоров, хлопотал во дворе… Но он чего-то ждал, чего-то искал глазами так, что у Марии Федоровны все больше росла тревога за него.
«Чувствую, что он, как птица, вспорхнет и улетит. Опять улетит…»
За окном мелькнула фигура Пети, пробежавшего от сарая к дому. Под мышкой у него неярко блеснул небольшой топор. Полы незастегнутого пальто развевались от ветра. Каблуки сначала часто простучали на крыльце, потом в коридоре и стали глохнуть, уходя в землю.
«Опять полез в погреб исправлять ступеньки лестницы. Хочет, чтоб мне легче было спускаться, когда наши бомбят гавань… Поправил скобы на калитке, чтобы засов прочнее держался. Все спешит сделать перед дорогой. Не хочет оставаться в долгу у матери. Одного он только не понимает – что я сама бы десять раз все это сделала, лишь бы уберечь его… Интересно, что он записал вчера в свой дневник?»
Мария Федоровна пошла за серой Петиной тетрадью, но не успела ее взять – сын весело закричал ей со двора:
– Мама, а к нам из города гостья!
– Кто такая? – кинулась к окну Мария Федоровна.
– Клавдия Григорьевна! Сушкова!
– Да где ты ее видишь?
Петя, стоя на табурете, связывал потертую веревку, протянутую от крыльца через шесты к сараю. С табурета он и кричал матери, кивая за ворота.
– Мне ее отсюда очень хорошо видно. Она уже к калитке подходит!
Петя, спрыгнув на землю, побежал встречать Клавдию Григорьевну.
* * *
Через пять минут, нацеловавшись и наплакавшись, Мария Федоровна Стегачева и Клавдия Григорьевна Сушкова сидели рядом и, посматривая друг на друга еще не высохшими глазами, вели тихий, но жаркий разговор о тех, кто успел уйти из города, кто погиб и кто остался там.
– Клава, миленькая, а вот этот… живой? Ведь мы с Петькой сидим тут как на необитаемом острове! Как вы там?
– И не говори, Мария, и не спрашивай! Какая уж там жизнь: день да ночь – сутки прочь. Если положено терпеть двести суток, то утешаешься, что осталось сто девяносто девять. Кто-нибудь доживет до светлого дня… А вот мой папочка не дожил… не дожил…
Подруги снова обнимаются, потом вспоминают, каким сердечным отцом для одной из них был старый садовник Сушков и каким близким знакомым был он для другой.
– Пойдем посмотрим на его могилу. Мария, ты знаешь, где она? Туда не опасно?
Могила Григория Степановича Сушкова – тут же, в первомайском колхозном саду, в двухстах метрах от стегачевского подворья.
Мария Федоровна по дороге рассказывает, что она выскочила из дому, когда близко в саду раздался этот выстрел. Она издали увидела, что Григорий Степанович без шапки стоял около груши и держался за дерево. От груши уходили два фашистских солдата: один – с автоматом, а другой – с топором в руке и с пилой под мышкой. Они уходили к заливу.
– Признаюсь тебе, Клава, я испугалась, когда Григорий Степанович оторвался от груши и упал. Тут я кинулась домой.
И так как фашисты, по рассказу Марии Федоровны, и теперь заходят в сад подпилить яблоню или грушу на топку, то подругам легко было понять, что произошло 22 октября в колхозном саду.
– Они, наверное, срезали в саду мичуринский бергамотный ранет?.. Он так дорожил им!
Свежий красноглинистый могильный холмик. Опершись о плечо подруги, Клавдия Григорьевна плачет и, покачивая головой, слушает Марию Федоровну.
– Я, Клава, из дому сейчас же выбежала. Думаю: а может, только ранен и ему нужна помощь?.. Прибежала, а он мертвый. Лежал тут целый день, а ночью его кто-то схоронил. Кто?.. Не знаю. Пришла утром, а тут уже могила, а еще через день эта плитка появилась.
Каменная серая плитка. Весит она, наверное, килограммов восемнадцать – двадцать. Камень – степной, мягкий известняк. На нем не так трудно было высечь короткую, скупую надпись:
«Григорию Степановичу Сушкову – колхозному садовнику, патриоту. Вечно будем помнить!»
– Ну, что бы ему отойти, не упорствовать, отойти от них подальше! Они все равно, если захотят, все вырубят. Надо было потерпеть, – повторяла Сушкова.
Петя, провожавший мать и ее подругу к могиле садовника Сушкова, стоял в стороне и с настороженным вниманием прислушивался. В словах и поведении Сушковой было что-то такое, отчего Пете становилось и грустно, и досадно.
Ему бы отойти и спрятаться от них, остался бы жив и еще жил бы и жил, – говорила Клавдия Григорьевна, усиленно вытирая скомканным платком покрасневший нос.
Вернулись из сада. Петя хотел побыть во дворе и продолжать свою работу, но Клавдия Григорьевна, будто Петя ей был очень нужен, жалобно проговорила:
– Петечка, обязательно пойдем с нами. Я ведь и не успела толком взглянуть на тебя. Кажется, ты переменился…
– Клава, где же ты работаешь?.. Ведь мы тут жили наполовину деревенской жизнью, хоть маленький запас продовольствия делали, а вы каждый день с кошелкой на базар. На каждый день нужны деньги!.. Клава, я тебя сначала покормлю, а то тебе не до расспросов, не до разговоров.
Мария Федоровна кинулась к буфету, зазвенела тарелками и вилками.
– Мария, я ваши запасы хорошо знаю, не смей меня угощать. Я пришла взглянуть на могилу папы и вас проведать.
– Сиди и не мешай! – отстранила ее руку Мария Федоровна, подавая на стол ставшее неизменным блюдо вареной картошки и кислой капусты.
Клавдия Григорьевна сильно похудела. Это особенно заметно стало, когда она сняла с себя шерстяной вязаный платок, самодельные, из темно-синего сукна, узенькие рукавички с вышитыми на них тополевыми листками. У Клавдии Григорьевны и раньше шея была тонкой и длинной, но теперь она так подточилась с боков, что большая копна светлых волос, закрученных на затылке, казалась для нее обременительной. Пальцы рук Клавдии Григорьевны тоже сильно похудели и словно вытянулись. Когда она брала вилку, то вилка в ее пальцах делалась коротенькой.
Глядя на руку подруги, Мария Федоровна невольно вспомнила учительницу музыкального училища – маленькую старушку с подстриженными белыми волосами, в неизменном черном, туго застегнутом костюме, в белой кофточке с черным шелковым галстуком. Эта старушка не раз говорила Клавдии Сушковой:
– И зачем только тебе дались такие красивые, пианистические руки? Вот уж, в самом деле, природа не подумав растранжирила ценное!
«Неритмичность» помешала Клавдии Григорьевне окончить музыкальное училище, потом она помешала ей учиться на балетных курсах, в театральном училище. Против желания ей пришлось стать бухгалтером, но любовь к искусству у нее осталась. Она не порывала со своими подругами по музыкальному училищу и радовалась их успеху, огорчалась их неудачами. Тем, кто не знал, где она работает, она старалась об этом не говорить. Чаще, чем у кого-либо, она бывала у Марии Коневой. Мария Конева потом стала Марией Стегачевой, выехала из города в стегачевский флигель, а дружба их не прекращалась. Стегачева уважала Сушкову за ее бескорыстную любовь к искусству. Клавдии Григорьевне ничего не стоило выходной день или свободные от работы часы потратить в беготне и хлопотах, связанных с поисками нот, учебных пособий для своих подруг. На каждом воскресном концерте в училище она была заметна опять-таки своими мелкими заботами о других.
– А я достала тебе клочок чудного бархата на подушечку, – говорила она скрипачу. – Твоя подушечка ведь здорово облезла. Не возражай. Я давно это заметила.
А через несколько минут в другом углу маленькой концертной залы она упрашивала собирающуюся выступить в концерте молоденькую пианистку:
– Родненькая, бери эти ноты. Они в красивом переплете. Поставишь на рояль – и сразу другая картина.