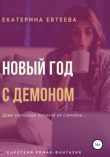Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
– Давно он тут?
– С вечера появился, – ответил железнодорожник. – Еще о чем спросишь?
Иван Никитич ни о чем не захотел спрашивать. Дернув Петю за руку, он сказал:
– Надо спешить… исправлять ошибку… За нее платить головами, а не пятаками.
С резкостью, отвечающей его мыслям и настроению, он будил потом Колю Букина и Диму Русинова, которые вместе спали у Букиных.
– Нежиться в постели будете как-нибудь после, а сейчас берите тачку и отправляйтесь с Петром за Марией Федоровной. Спешите и спешите! – И добавил, обращаясь только к Пете: – Строго посоветуй Марии Федоровне, что со шляпками и разными суквояжами возиться не следует.
Ребята потащились с тачкой за город, а Иван Никитич, провожая их, стоял под проливным дождем, понурый, каменно-неподвижный и собранный, как для прыжка. Образ окаменевшего, худого старика под дождем и сейчас стоял перед нахмуренным взором Пети, хотя тачка с узлами шла уже от стегачевского двора к городу. Образ этот наполнял сердце Пети грузом мужественной скорби, для выражения которой нужны были слова какие похлестче, и он сердито говорил матери:
– Шляпок и «суквояжей» не жалей! Если они понравятся постовым полицейским, скажем: «Пожалуйста, выбирайте»… – И он, отворачиваясь от косого ветра, швыряющего дождем, заспешил к друзьям, тянувшим тачку.
Что-то приблизительно такое же переживали Коля и Дима. За всю дорогу они разговаривали только о том, куда надо держать тачку – правее или левее, чтобы она не опрокинулась на косогоре, не застряла в грязном ручье. Но суровость Коли, как всегда, смягчалась плавным движением рук, неторопливой походкой, «стосвечовыми» добрыми и чуть лукавыми глазами… У Димы же сейчас, как вообще в минуты сурового настроения, ясней вырисовывались присущие ему лихость, подтянутость, легкость: серое с хлястиком полупальто его хотя и промокло до нитки, но казалось подогнанным под его неширокие плечи. Его мелкая овчинная шапочка, несмотря на дождь, не потеряла своего веселого вида и сидела на голове, как умелый всадник в седле.
Тачка через час выбралась наконец на пустошь, отделявшую Сортировочную станцию от окраинных городских построек. На травянистом покрове пустыря колеса не вязли, и идти здесь было легче. Раскрасневшаяся Мария Федоровна, двигавшаяся рядом с Полей позади тачки, освободив на шее узел шарфа, впервые за дорогу сказала:
– Вот и началась моя беспризорная жизнь…
– Ваша сегодня, а моя уже давненько, – в тон ей ответила Поля.
– Как ни говори, Поля, а лишиться обжитого места, где и делать и думать легче, – это горе… Дом – он у каждого один…
– У вас, Мария Федоровна, один, а у меня их целых три. Один под Вязьмой, в лесу, где товарищи по отряду похоронили убитого мужа, другой за Днепром, где с мужем учительствовали, где осталась мама с доченькой. Моей доченьке уже шестой… Ну, а третий дом – в Городе-на-Мысу. Совсем недавно тут я, а нажила хороших товарищей…
Мария Федоровна смотрела на Полю, будто сейчас впервые ее увидела. С острой настойчивостью она спрашивала себя: «Почему Поля всю ночь говорила о моих, а не о своих трудностях?.. Почему она считала прежде всего нужным успокаивать меня, заботиться обо мне?.. Почему она ни слова не сказала о себе?.. А рассказать, видно, можно было о многом! Она совсем другой человек…»
Мария Федоровна искала в облике этой сдержанной молодой русской женщины каких-то особенных внешних примет и не находила их. Непринужденная походка, ласковый голос – это же не то!.. Вот задержала она внимание на бровях и глазах Поли: брови у нее иногда смыкались как-то особенно тесно и начинали дрожать, как бронзовые крылышки, а серые глаза вдруг становились холодными и стреляли по сторонам так, как будто всюду притаилась смертельная опасность.
И Мария Федоровна подумала: «Поля такой не родилась. Жизнь научила этому. Как жалко, что я не похожа на нее, и как хорошо, что мы будем вместе».
И слезы грусти по дому, от которого оставался один только ключ в кармане пальто, вдруг отступили от глаз. При мысли, что еще три минуты назад могла заплакать, Мария Федоровна покраснела, скашивая смущенные взгляды на Полю, которая заинтересованно следила за ребятами.
– Посмотрите на сына, как он здорово грозит кулаком, – сказала Поля. – Победа будет за нами.
А Петя рассказывал друзьям то, что они сами уже слышали от Ивана Никитича: Чалый, конечно, получит по заслугам!
– Теперь многие наши из сел переберутся в город. Ночами фашистам побудки будут устраивать, – рассудил Дима, и ему, видать, понравился такой вывод, потому что мелкая шапочка его сразу же перескочила со лба на мокрый затылок.
Коля, переваливаясь, уточнял значение частых ночных побудок:
– Фашистам, значит, придется спать в кительках и в сапогах, а фуражки держать в руках… Для насекомых лучшего не придумаешь.
И они все трое затаенно посмеялись и сразу же притихли. Травянистый пустырь остался позади. Колеса тачки, перескочив через железнодорожные рельсы, тут же застучали по камням мостовой. Сквозь дождь впереди стали вырисовываться кирпичные отсыревшие стены одноэтажных домов городской окраины. Скоро тачка въехала в узкую улицу и, подскочив на неглубокой промоине, скрылась за домами вместе с сопровождавшими ее людьми. И никто этого не заметил, кроме железнодорожника, который, пропустив паровоз со станции на завод, стоял в стороне, на стрелке. Сутуловатый, невысокий, это был тот самый железнодорожник, у которого комната на пятом этаже, а окно, затянутое густой решеткой, выходит во двор, где разместилась фашистская комендатура. По наблюдению за всем, что сегодня утром делалось в комендатуре, старику ясно было, что готовились к облаве. Провожая тачку и людей, шагавших около нее, он чуть покачивал фонарем и пощипывал сивую бородку.
«Зачем они в такой день в город?.. Не осведомлены, – подумал он. – А ведь второй миловидный юноша, тот, что в шапке с меховой оторочкой, будто он ночью заходил ко мне с кумом?.. Значит, поехали в город, потому что другого выхода у них нету», – вздохнул и пошел на станцию.
А Стегачевы, мать и сын, через час вселились в тесную комнату с одним окном, наполовину заклеенным газетными листами. Не развязывая узлов, они смотрели через приоткрытую дверь коридорчика. Далеко за чертой города в дымке осеннего дождя был виден желтый обрывистый берег, первомайский колхозный сад, темневший оголенными ветвями, и прильнувший к нему веселый стегачевский флигель.
Полю позвал какой-то человек, и она ушла, строгая, ушла, не сказав ни слова.
Чуть позже к ним зашел Иван Никитич только затем, чтобы отвести в сторону Петю и сказать ему:
– До моего возвращения, Петро, будь при матери. Вернусь скоро. Тогда обсудим с тобой, что делать дальше. Думаю, что ты понял, разжевывать нечего, – оборвал он себя и исчез.
И вдруг Мария Федоровна взбунтовалась:
– Довольно Ивану Никитичу и Поле делать из меня стеклянную куклу: «не толкните, не шатните ее… вдребезги разобьется!» Напрасно они считают меня хрупким товаром. Привязывать тебя, Петька, к своей юбке ни за что не стану. Со всем справлюсь сама, а флигель мне с того берега будет напоминать, что придет день… А раз так, я пойду с соседкой на рынок, а ты развязывай узлы.
Петя развязал самый большой узел и только успел постелить, как вернулась заплаканная мать.
– Ты уже с рынка? – спросил он. – Кто тебя обидел?
– Я с полдороги вернулась. Соседка, Дарья Даниловна, принесет нам что-нибудь… Петька, я встретила человека… Хотела к нему кинуться на шею, а он посмотрел на меня зверем, показал кулак и прошел мимо… И кто бы это был? – вытирая глаза, спросила Мария Федоровна.
– Отец, – уверенно ответил Петя.
– Ты говоришь так, как будто в этом ничего удивительного нет, как будто так и нужно.
– Ну, конечно, так нужно, – негромко, но твердо ответил сын.
– Тогда выйди в коридорчик, посмотри на наш флигель и скажи: и это так нужно?..
Петя вышел в коридорчик, приоткрыл дверь и сразу увидел, что на том берегу залива горел их флигель. Дым ленивыми клубами растекался над темной прогалиной сада. Пасмурный влажный воздух глушил пламя, и оно, злясь, острое, как жало, кидалось то в окна, то в дверь и на мгновение пряталось, чтобы снова броситься на крыльцо, на крышу.
Мария Федоровна не дождалась, когда сын вернется в комнату, чтобы ответить на ее вопрос. Она сама вышла в коридор.
– Ну? Так и это нужно?
Если выгодно нам, а во вред фашистам, то нужно, – хмурясь, ответил Петя. – И Иван Никитич сейчас бы сказал тебе: «Мария Федоровна, не плачьте. Родная земля в огне. Что флигель?.. Сукваяж. Только чуть больше обыкновенного».
Петя взял мать под руку и увел в комнату, и они начали наводить порядок. Мария Федоровна долго молчала и все присматривалась к сыну округлившимися, настороженными глазами. Так присматриваются к самому близкому человеку, в котором неожиданно увидели то, чего раньше никогда не замечали.
Они повесили гардину, нашли более удобное место обветшалому письменному столику, оставленному прежним жильцом. Накрыли этот столик скатертью, а в его ящики сложили посуду, белье… И тут только Мария Федоровна сказала сыну:
– Петя, ты меня освобождай от них… – Она имела в виду фашистских захватчиков. – А то мне дышать нечем. Иди опять в дорогу. Только берегись, не рискуй напрасно. – И она, как все матери, стала повторять свои напутствия, которые сын знал уже наизусть.
– Три дня я пробуду с тобой. Я очень уважаю Ивана Никитича. Он сказал, что скоро вернется, и тогда мы вместе… С ним вместе – лучшего не придумать…
Вошла соседка, худенькая женщина лет пятидесяти. В авоське она принесла для Стегачевых кусок сырой в красных полосах тыквы и пшена в стеклянной трехлитровой банке.
– Тыква сладкая-пресладкая. Обед и ужин будут прямо свадебные, – усмехнулась она и, видя, что Мария Федоровна, вооружившись тряпкой, собиралась мыть пол, запротестовала: – Ну, нет, вам уже нельзя заниматься этим!
И чтобы Стегачева легче пережила смущение и неловкость, добавила:
– Буду и впредь мыть… Столько же раз и вы потом помоете в моей комнате.
– Я тоже придумаю что-то такое, чтобы быть хорошей соседкой, – сказала Стегачева.
– Еще как славно придумаете, – согласилась Дарья Даниловна, и скоро ведро ее зазвенело сначала в коридорчике, потом во дворе около водопроводной колонки и потом отрывисто звякнуло уже в комнате Стегачевых.
Только через три дня Мария Федоровна продолжила свой разговор с сыном:
– Три дня, Петька, прошло… Ивана Никитича нет…
– Нету его. Иначе он обязательно заглянул бы к нам, – ответил сын.
– Ты ночью не спал, вздыхал, о чем-то думал… Ты и сейчас думаешь об этом же. У тебя глаза большущие, и ресницы хлопают, как ставни: откроются и не скоро закрываются. Я как-то сказала отцу: «Погляди, какие у Петьки глаза большущие, когда серьезно думает». И он мне, помню, хорошо сказал: «Не вмешивайся, Мария, в мужские дела. Мужчины – народ положительный. Надо делать – делают, надо думать – думают». У моего Павла, – начала было Мария Федоровна хвастливый разговор о муже и, вздохнув, заговорила совсем другим тоном: – Какой он мой? Вчера кулачище показал и зверем поглядел… Будто хотел сказать: уходи, дрянь, с дороги, а то раздавлю!.. Петька, а ты не молчи. Я ведь не сгоряча сказала, что тебе надо делать то, что делает отец и другие. С Дарьей Даниловной по соседству мне не страшно оставаться…
– Тебе надо бояться полковника Мокке. Встретит… узнает… – задумчиво проговорил Петя.
– Меня узнает Мокке? А ну посмотри, похожа я на себя?
Мария Федоровна повернулась направо, налево… В стеганке, в валенках, в толстой шерстяной шали, завязанной большим узлом на спине, она была неуклюжа, как не в меру располневшая старуха.
– Конечно, похожа…
Мать не дала Пете договорить:
– Неужели на себя?
– Нет, на слона.
Они оба засмеялись.
– По этому времени мне лучше походить на слона.
За окном быстро вечерело. Дул ветер. По уцелевшим стеклам стучал дождь вперемежку с крупой. Из города, приглушенные непогодой, доносились брань, крики, которые с приходом немцев стали обычными. Казалось, что фашисты неустанно кого-то ищут, ловят, гонят в гестапо, в тюрьму… В комнате было холодно, сожженное в печке полено мало чем помогло Стегачевым. Мария Федоровна объявила сыну, что она будет спать, и легла. Сына она предупредила:
– Опять зажигаешь лампу? Опять писать будешь?.. Пиши, только помни – с керосином трудно…
Петя промолчал. Он долго писал. Иногда рука его останавливалась. Он задумывался, будто прислушиваясь к разгулявшемуся ветру, и снова писал. Он был уверен, что мать давно уже спит. Но она не спала и все время следила за сыном.
– Ты мой сын, и поэтому я твердо знаю, что ты пишешь Ивану Никитичу последнее письмо. – При этих словах она поднялась с постели, порылась в корзинке с мелочами, принесенными из дому, и поставила на стол скульптурную игрушку из металла. Это был всадник, мчавшийся на чудесном, быстром, как молния, скакуне.
– И чего ты вздумала именно про всадника? Спала бы. Успела бы и завтра поставить его на стол, – с удивлением проговорил Петя.
– Чует душа, что не успела бы.
– Ты что-то хочешь сказать? – спросил сын.
Мария Федоровна, чтобы не выдать дрожи в голосе, как можно медленней заговорила:
– Сынок, всадник сейчас скачет прямо на меня. Будем считать, что он мчится домой. Если соберешься уходить, когда я буду спать, поверни его к окну. Пусть он скачет из дому по важному и страшно срочному делу… Я проснусь и буду знать, что ты ушел, что мне надо ждать и ждать…
Она быстро отвернулась, торопливо легла и затихла. Она спала без сновидений. Сумрачный свет пятном лег на середину стола. Хорошо был виден и всадник. Он был повернут к окну – мчался от дома, а не домой.
Мария Федоровна взяла со стола письма сына, положила их в вишневую шкатулочку, вышла с ними в коридорчик и долго там возилась, пока не нашла надежного места, где спрятать. Потом она подошла к печке, подожгла сухое полено, умылась, расчесала волосы. Она шепотом говорила себе одни и те же слова: «Сто лет буду ждать его. Дождусь, вернется…»
Жизнь впереди


Миша Самохин, тринадцатилетний рослый и нескладный паренек, взбежал на глинистую насыпь дота и, приложив ладонь к глазам, стал смотреть вдаль.
День был осенний, пасмурный. В котловине плавал дым подземных очагов. Пелена его, низко расстилаясь, была похожа на большое озеро, берега которого с каждой минутой раздвигались все шире.
Миша пронзительно свистнул раз-другой. Не слыша ответа, он взял длинный шест, надел на него помятую кепку и поднял ее высоко над головой. В котловине из дыма вынырнул другой шест с натянутой на него кепкой, только не серой, как у Миши, а черной.
– Связь установлена, – улыбнулся Миша и стал спускаться в дот.
В темном углу дота стоял деревянный сундучок, заменявший им с матерью обеденный и кухонный стол. Неторопливо отодвинув его, Миша присел на бурьянную подстилку и, приложив губу к концу узкой железной трубы, спросил:
– Гаврик, ты слушаешь?
В это время на, самом дне котловины Гаврик Мамченко, перескочив через спящую Нюську, через низкую железную печку, кинулся к другому концу этой же трубы. Упав на колени, он закричал в нее:
– «Большая земля», алло, алло! На «острове Диксоне» слушают!
В узкой трубе слова его налетали одно на другое и сливались в бубнящую бессмыслицу: «Али, вали, дзум, бум!»
Миша отнял от трубы оглушенное ухо, и в дот ворвались отчетливо-звонкие слова Гаврика:
– Давай сводку! Скорей давай! Мамы нет, а Нюська спит – хоть из пушек пали!
– Гаврик, сам ты как из пушки! Что кричишь?
– А ты не тяни.
– Будешь кричать – скорей не будет, – сказал Миша и стал передавать сводку о том, как идет первое собрание колхозников, вернувшихся из эвакуации домой. – Опять ругают фашистов, опять вспоминают и подсчитывают, что враги сожгли, что разграбили. А чего считать? Будто не видно, что ничего не осталось.
– Хорошего, значит, ничего?
– Кое-что есть…
– Миша, не тяни!
– Из района приехал майор, раненный, рука перевязана…
Миша предусмотрительно отдернул от трубы ухо. В дот влетел звенящий голос Гаврика:
– Танкист?
– Не угадал.
– Летчик?
– Нет, артиллерист.
– Сам бог войны?! Ты, Миша, не ошибся?
– На нашивке две пушки крестом. И знаешь зачем приехал?
Медлительному Мише Самохину захотелось с толком рассказать интересную новость. Он лег поудобней на бок, привалился плечом к стене и закинул ногу на ногу. Пока он устраивался, из трубы слышались тяжелые вздохи Гаврика и его огорченный голос:
– И через трубу вижу, что ты, Мишка, загордился. Как тысячу трудодней заработал! А мне с Нюськой возись. Чуть отвернусь, сейчас же затянет: «У-гу-у», «Распрягайте, хлопцы, коней», – дальше ехать не будем. А мама начнет свое.
Мише стало жаль товарища, и он заговорил:
– Гаврик, потерпи. Дорога намечается. Боевая дорога. Верь слову, – если поедем, то только вместе!
– Расскажи, хоть немного, – попросил Гаврик.
– Пока еще нечего рассказывать. Майор этот, значит, пришел на собрание… Послушал, как Алексей Иванович, председатель, убытки подсчитывает, а остальные почти все ревут… Послушал и говорит: «Поплакали, товарищи колхозницы, и довольно. Теперь вытирайте слезы насухо: слезами детей не накормим. Мне, говорит, Василий Александрович, секретарь райкома, наказ дал не терять ни минуты, наряжать человек трех в Сальские степи, за коровами, к шефам. Пошлите, говорит, расторопного старика и двух старательных подростков…»
Я, Гаврик, стою у дверей и вижу, майор ко мне приглядывается.
– Ух ты! – удивился Гаврик. – А дальше что? Что дальше он сказал?
– «Дальше, дальше»! – недовольно передразнил Миша. – Дальше надо было послушать, а я скорей к прямому проводу. Боялся, что ты помрешь от нетерпения. Тебе с Нюськой трудно, а мне с тобой не легче. Тут бы как раз к майору подойти, старика Опенкина попросить… Старшим в Сальские степи обязательно его пошлют. Сам знаешь, тут надо не опоздать, спешить надо…
Миша хотел сказать еще что-то, но Гаврик досадливо остановил его:
– Это и так ясно – ведь сам Василий Александрович сказал, чтоб не терять ни одной минуты!
Миша обиделся:
– Думал, ты посоветуешь, как быть, а ты сам не знаешь.
Гаврика мучила досада, что он ничем не сумел помочь товарищу, его тревожила мысль: сумеет ли Миша произвести хорошее впечатление на Ивана Никитича Опенкина? Плотник был человеком беспокойным, горячим в работе, и с виду неповоротливый Миша мог ему не понравиться, Гаврик знал, что два дня назад из района приехал новый директор школы – Зинаида Васильевна. Она была в партизанском отряде, ранена, еще не выздоровела, живет в землянке колхозницы. Можно было бы забежать к ней. Гаврик верил, что такой боевой директор обязательно помог бы им с Мишей, но смущало, что Зинаида Васильевна его совсем не знает.
И вдруг Гаврик вспомнил – вечером мать говорила, что из эвакуации уже вернулась Ольга Петровна, завуч. Вот она сказала бы Ивану Никитичу: «Михаил Самохин способный, дисциплинированный. Без огонька только, но если их сложить с Гавриком Мамченко – гору снесут. Они у меня всегда сидели за одной партой».
Теперь Гаврик знал, что надо делать, и он снова закричал в трубу:
– Миша, алло! Друг, лети на третьей скорости прямо к Ольге Петровне. Ты слышишь?.. Алло, у прямого?!
Но на том конце «прямого провода» стояла обидная тишина, а здесь, в землянке, разбуженная пронзительным криком брата, пятилетняя Нюська уже затянула свою нудную песню:
– У-у-у-хым, у-у-у-хым-хым… Мама придет… Скажу, как ты по трубе с Мишкой дружил…
Гаврик зло посмотрел на сестру, собираясь ей высказать все, что он думает о доносчиках, но побоялся, что Нюська откроет матери тайну трубы, и смолчал.
Недавно мать Гаврика положила конец встречам сына с Мишей Самохиным:
– Бездельничаете, а Нюська – беспризорная! Мишка, ступи только на порог землянки – оба подзатыльников получите!
К счастью товарищей, была обнаружена эта замечательная труба, связывающая дот с землянкой. По ней, когда здесь была линия фронта, текла в доты вода. Но сейчас у Миши и у Гаврика труба была «прямым проводом», один конец которого назывался «Большая земля», а другой – «Остров Диксон».
Нюська продолжала тянуть:
– У-у-у-хым-хым…
Гаврик вздохнул и заговорил с принужденной лаской:
– Нюся, я же тебя люблю. На вот… Понимаешь, сам не съел, на!
Из кармана куртки Гаврик вытащил сухарь и отдал его сестре. Нюська перестала плакать, но по ее надутым мокрым щекам брат догадывался, что сухарь не поможет делу.
Гаврик нашел за печуркой тонкую сосновую дощечку и, присев около сестры, заговорил:
– Вот из этой дощечки можно смастерить тебе мельницу. Так мамка знаешь какой шум поднимет? Ей она на растопку нужна. Что будем делать? А мельница может получиться… Ну просто замечательная мельница!
Нюське очень захотелось «замечательную мельницу». Она поднялась, оглянулась на дверь и шепотом проговорила:
– Гаврик, я не скажу маме про трубу. Миша хороший, труба хорошая. Я ее укутаю травой, чтоб не простудилась…
Обнимая сестру, Гаврик говорил:
– Ты ж у меня вся в папу, военной тайны никому не разболтаешь.
Он достал из посудного ящика нож, наточил его на камне и стал делать мельницу. От этой работы он оторвался лишь на несколько минут, чтобы наломать бурьяна, бросить его в печку и принести в чайнике воды из родника. Весело насвистывая, возвращался он от родника домой. На пути ему повстречалась высокая старуха Нефедовна. Она несла на плечах мокрое белье.
– Гаврик, чего радуешься-свистишь? Хату новую отстроил? Покажи ее! – сказала старуха, оглядывая пустошь косогора, изрытого снарядами, усеянного камнями разрушенных построек.
– Бабушка, новую хату не видно из-за дыма. Ветер сдует его – увидишь, – ответил Гаврик.
– Сбыться бы твоему слову, свистун! – сказала старуха, долгим взглядом провожая Гаврика, который, удаляясь, уже не насвистывал, а пел:
Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море…
Когда четырехкрылая мельница была посажена на воткнутый у порога шест, а осенний ветерок, набежавший с залива, с жужжанием и треском заиграл в ее белых крыльях, Нюська захлопала в ладоши и затанцевала:
– Муки намелю много! Мама пышек напечет! Будем есть, есть. Мишке Самохе тоже дадим. Всем дадим!
– До чего ж ты у меня умная! – засмеялся Гаврик.
Через минуту Нюська целиком погрузилась в хлопотливое дело мельника, а Гаврик, подложив в печку бурьяна, почувствовал себя свободным, как приазовский ветер. Открыв трубу, он позвал:
– Алло! «Большая земля»!
«Большая земля» не отвечала, но Гаврик знал, придет время, «Большая земля» непременно заговорит, и он терпеливо стал ждать этой минуты.
* * *
Миша Самохин избрал наблюдательным пунктом развалину каменной стены бывшего скотного сарая МТФ: отсюда был хорошо виден уцелевший от войны флигель с зелеными ставнями, где шло нескончаемо длинное собрание; невдалеке от сарая стояла лошадь майора, привязанная к расщепленному стволу молодой акации.
Если майор появится на пороге флигеля, Миша сразу его заметит. К лошади майор может идти только тропкой, что чернеет меж каменных развалин, а тропка эта проходит мимо сарая. Встреча с «богом войны» неизбежно должна была произойти здесь.
В затишье, за развалинами каменной стены, ничто не мешало Мише думать над тем, что надо сказать майору и как его убедить, чтобы он послал в Сальские степи его и Гаврика.
Майор может спросить Мишу: «Но почему послать вас? Чем вы лучше других?» Сказать ему, что и в самом деле они лучше других, будет очень хвастливо. И все же Миша твердо верил, что стоит только начать разговор с майором, а уж там он обязательно уговорит.
«А может, начать так? – спросил себя Миша. – «Товарищ майор, конь у вас хороший, похож на фронтового. Вы садитесь в бедарку, а я подержу его за узду. Слыхал, что на нем поедут в Сальские степи… Вот бы и нам с Гавриком туда».
Снизу, от станции, донесся свисток паровоза. И Миша легко догадался, что ответил бы ему майор: «Зачем гнать лошадь в Сальские степи, если можно уехать туда поездом?»
Миша с досадой понял, что он неудачно придумал, как начать разговор с майором.
Из домика по одному, по два стали выходить люди. Они забирали стоявшие у стены вилы и грабли и направлялись в степь. Доносились отрывистые разговоры:
– Марью Захаровну Самохину позовите!
– В степи она нужней!
– Лопаты у председателя!
– Пальцами окопы не будешь загребать!
Слыша эти голоса, Миша не захотел сидеть сложа руки. Он отошел от стены и стал очищать улицу от камней, складывая их в кучу.
Майор появился около бедарки так неожиданно, что Миша невольно выронил желтоватый кругляк и, вытянувшись, приложил ладони к козырьку кепки.
– Вольно, – сказал майор и, будто споткнувшись, остановился, рассматривая свои начищенные сапоги и в то же время искоса поглядывая на Мишу небольшими сверлящими глазами.
Майор был человек пожилой, невысокого роста, грузноватый. Плечи его плотно облегало черное кожаное пальто.
– Ты что делаешь? – спросил он, словно осуждая Мишу за какие-то упущения.
Миша, не отвечая на вопрос, поднял камень и поднес его к куче.
– Понятно, – сдержанно засмеялся майор. – Но зачем ты это делаешь и кто тебя заставил?
– Никто не заставлял, а улицу все равно расчищать надо. Сейчас тут и бедарка не проедет, а машина и вовсе…
– Где ты видишь эту машину? – спросил майор, закидывая здоровую руку за спину и прищуривая глаза в сетке лукавых морщинок.
Миша собирался говорить о серьезном, а майор шутил с ним, как шутят взрослые с детьми. Миша понимал, что и ему надо перейти на шутку, но он не мог этого сделать. Он не умел запросто разговаривать с незнакомыми, не умел находить нужные слова. В школе его за это называли «мешком с цибулей». Злясь на себя, Миша сказал:
– Машины, товарищ майор, сейчас все на фронте. Пустите, камень возьму. – И он потянулся поднять тот самый камень, на котором каблук к каблуку стояли начищенные сапоги майора.
Майор, подавшись в сторону, задумчиво наблюдал, как Миша Самохин, посапывая, носил и носил камни, бросал их в кучу, куда они падали с тяжелым звоном.
– Может, ты и хороший парень, даже наверное хороший, – вдруг заговорил майор, – но сам по себе единоличник…
Миша взглянул на майора округлившимися от обиды глазами.
– Понимаешь, единоличник! – настойчиво проговорил майор, и лицо его при этом насмешливо искривилось. – Голубчик мой, – не то с прискорбием, не то с сожалением продолжал он, – я человек военный, люблю действовать с батареей, дивизионом, а ты… один…
Майор круто повернулся и, легко перенося свое грузное тело с камня на камень, направился к лошади.
Миша стоял с опущенными руками, не успев рассказать, что он не раз с пионерским отрядом собирал колосья в поле, помогал очищать сад от личинок, строил скворечницы.
А майор уже развязывал вожжи, садился в бедарку. Еще минута, и он уедет.
– Товарищ майор, Иван Никитич Опенкин вас, должно быть, звал! – испуганно прокричал Миша, заметив у правления торопливого суховатого плотника.
Опенкина вовсе не интересовал майор. Он сейчас распекал бабушку Гулю, цепкую, моложавую старушку, у которой только что вырвал из рук короткое бревно:
– До чего ни коснется, все к ее рукам липнет! А распорки для возилок из чего буду делать?!
Видя, что старый плотник вскинул бревно на плечо и пошел круто спускавшейся стежкой к мастерским, Миша, как бы винясь перед майором, уныло проговорил:
– Старик разгорячился и забыл про вас.
– Можно напомнить. Товарищ Опенкин, на минуту! – крикнул майор и помахал черной барашковой шапкой.
Плотник Опенкин не услышал майора. Миша устало опустился на камень и сказал:
– Он, должно быть, хотел спросить у вас, кого из ребят нарядить в Сальские степи за коровами.
– Совсем непонятно! Я же, помимо тебя, никого из здешних ребят не знаю! – удивился майор.
– Обо мне говорить нечего, – скучно заметил Миша.
– Это почему?
– Я же «единоличник».
Майор уже поворачивал чалую лошадь, но голос обиженного мальчика остановил его.
– Ты одинокий? – настороженно спросил майор.
– С матерью.
– А отец?
– На фронте, – не поднимая головы, ответил Миша.
– Письма присылает?
– Присылает.
– У тебя беда, – нахмурился майор, – а какая, не догадаюсь.
Миша не отвечал.
– Это ты был на собрании?.. Ты стоял и слушал и ушами, и немного… ртом?
– Интересное так слушаю, – признался Миша. – Вы ж как раз заговорили про поездку в Сальские степи… Так бы и слушал целый день.
– А дорога в Сальские степи интересная? – живо спросил майор.
– Лучшей, товарищ майор, не придумаешь, – вытирая вспотевшие щеки, ответил Миша.
Майор достал из кармана блокнот, спросил у Миши имя и фамилию, быстро что-то написал и, вырвав лист, распорядился:
– Эту записку отдашь товарищу Опенкину. Раньше сам можешь прочитать, потом с ней к плотнику в мастерские. Мчись к нему на самой большой скорости. Аллюр три креста! – как говорят военные. Чалая, но!
С места громко застучали колеса бедарки.
Миша читал:
«Товарищ Опенкин, присмотрись к этому мальчику, Мише Самохину. Проверь его в деле. По-моему, он первый кандидат на поездку в Сальские степи. Майор Захаров».
– Что значит артиллерист! Бог войны! – с восторгом воскликнул Миша и подбросил кепку высоко над головой.
Майор был уже далеко, но подброшенную Мишей кепку он увидел и, сорвав барашковую папаху, потряс ее над своей большой стриженой головой.
– Аллюр три креста! – скомандовал себе Миша и кинулся с крутого откоса к берегу.
Плотницкая и кузнечная мастерские помещались в каменном строении на обрыве к морскому заливу.
Голубоватый дым застилал кузницу. На глинобитном полу тесно было от железного хлама. Здесь валялись рессоры подбитых машин, щиты пулеметов, колеса пароконных подвод. Точно огромные ежи, сердито пыхтели мехи, звенели молотки по наковальням. Горны бросали снопы густого малинового света на высокий прокопченный потолок.
Широкоплечий, усатый кузнец стучал молотом и хрипловатым басом говорил своим помощникам:
– Кругом развалины… А у нас в мастерских – жизнь!.. На полный ход жизнь!
«Жизнь! Вот бы Гаврика сюда!» – радостно подумал Миша, быстро проходя через кузницу к двустворчатой двери плотницкой.
* * *
– Алло, алло! «Большая земля»! – кричал Гаврик. – Мама скоро придет! Давай сводку! «Большая земля»!
«Большая земля» упорно молчала. Гаврик решил использовать последнее средство – сигнал бедствия, о котором они с Мишей узнали от капитана-моряка:
– «Большая земля», СОС!.. СОС!
«Большая земля» по-прежнему не отвечала. Гаврик зло сказал в трубу:
– А еще «Большая земля» называется!
…А Миша в эти минуты переживал трудности деловой встречи со старым плотником. Оба они стояли в плотницкой мастерской, около верстака, обсыпанного стружками.
Опустив длинные руки, которых не закрывали короткие рукава серой шинели, Миша застенчиво говорил старому Опенкину:
– Иван Никитич, товарищ майор пишет вам…