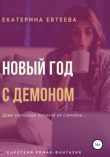Текст книги "Полая вода. На тесной земле. Жизнь впереди"
Автор книги: Михаил Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
– Ну как я смогу теперь проверить часы?
Она перестала тревожиться об этом только тогда, когда Петя шутливо сказал ей:
– По часам Валентина надо было проверить.
– Петька, ты на Валентина смотрел как-то особенно. Про тебя можно было сказать то же, что про меня говорил твой отец… Он говорил: «Если тебе, Мария, кто понравится, ты смотришь на него как на елочные игрушки». Ты точно так смотрел на Валентина. Значит, ты все-таки немножко похож на меня… Только ты уж лучше больше будь похож на отца: по такому времени лучше быть похожим на него. Увидишь его – обними. Скажи, что мать осталась разучивать сонату Баха… для Мокке.
После этих слов у нее выступили две мелкие слезы и держались на щеках все время, пока она упрашивала сына есть, как едят настоящие мужчины, пока она показывала ему сонату Баха, приготовленную для разучивания.
Прощаясь с сыном, она сказала:
– Нет, я тебя хочу поцеловать не в губы, а в лоб. Я хочу, чтобы ты в дороге был не только храбрым и выносливым, но и рассудительным…
Петя уже подошел к двери и здесь задержался. Мария Федоровна, стоявшая сбоку, заметила, что он дышал чуть чаще обычного, а невидимая веревочка стянула ему брови.
– Мама, если будут бомбить берег, ты не забывай спускаться в погреб. Я скоро вернусь.
И Петя почти неслышно вышел в коридор, а через несколько секунд – Мария Федоровна видела это – скрылся за зеленой калиткой.
* * *
Петя помнил совет Ивана Никитича – входить в город лучше около металлургического завода: там охранники из рабочих-немцев – сами под гнетом у фашистов и к нам имеют сочувствие.
Немецкий часовой стоял на скрещении профиля и железнодорожной ветки, обслуживающей цеха завода. Только что прошел паровоз с Сортировочной станции. Шлагбаум был опущен.
Часовой уже пожилой немец в поношенной шинели, в обмотках, с обгорелой деревянной трубкой в прокуренных зубах. С унылой и добродушной назидательностью он разговаривал с Петей и по-немецки, и по-чешски, и по-русски… Петя отвечал ему такой же смешанной речью. Если точно перевести их разговор, то получилось бы нечто такое:
– Мать есть хорошо. Война – сидеть дома хорошо, – говорил часовой.
– Соли нет, спичек нет… Нехорошо. В город… там есть…
– Город, город, много город хотел…
Часовой, ощупывая Пете карманы, сумочку, обыскивал его для одной видимости. Он все оглядывался на железнодорожную будку, как будто хотел, чтобы оттуда видели, насколько исправно он занимается своим делом. Он даже забыл открыть шлагбаум, и у переезда за это время скопилось около полутора десятка запыленных темно-серых и очень странных машин. Кузовы их – громоздкие ящики – отовсюду были наглухо забиты. Не было в них ни окошек, ни просветов. На боковых узких дверцах висели цепи, а на них замки.
Шоферы из кабин начали кричать часовому:
– Мальчишка остановил!
– Этого часового надо отдать русским в няньки!
Часовой испуганно и сердито толкнул Петю в сторону города со словами: «Машины гестапо!» – и кинулся поднимать шлагбаум.
Петя быстро перешел железнодорожную насыпь, подался левее от грейдера и зашагал пустырем.
Пустырь отделял цеха металлургического завода от Восточного рабочего поселка. Далеко впереди он упирался в окраинные дома города. Притаптывая высохшую траву едва заметной стежки поношенными сапогами, Петя искоса поглядывал на странные гестаповские машины.
А машины уже обогнали его. Их темная сплошная лента, извиваясь, стремительно двигалась к городу, обволакиваясь пылью, поднятой тяжелыми колесами.
«Может, это те самые страшные?.. О них писали в газетах, рассказывали дома и в школе?.. Их даже сам часовой испугался», – подумал Петя, чувствуя, как сердце сжимается от нахлынувшей тоски.
От завода к Восточному поселку шли трое рабочих. Они тоже поглядывали на удалявшиеся гестаповские машины. Заметно было, что рабочие что-то обсуждали.
«Должно быть, разговаривают о них… Хоть бы слово услышать», – горячо вздохнул Петя и ускорил шаги с расчетом, чтобы на скрещении стежек встретиться с металлургами.
От рабочих ему удалось узнать очень немногое.
– Верно, операцию будут проводить, – сказал бритый, с осунувшимися щеками. Недобро стрельнув глазами в сторону Пети, он добавил: – В Киеве также вот объявились эти машины…
– Такие же? – не то спросил, не то выразил скрытое удивление чернобородый, с широкими, покатыми плечами, с густой сединой на висках.
Более молодой из них, опередив этих двоих, недовольно обернулся и сказал:
– Ну что вы плететесь?.. Вон хлопец, – кивнул он на Петю, – спешит. Стало быть, у него есть дело…
Петя видел, как он, отмахнувшись от своих попутчиков, быстрее пошел в сторону беленьких домиков поселка.
Через четверть часа Петя уже переходил городской базар, значительно сокращая путь до Вокзальной улицы. Настроение его, испорченное встречей с гестаповскими машинами, в существование которых ему трудно было верить, опять стало хорошим. На базаре какие-то старомодные старички и старушки торговали боговым маслом, иконами, белыми перчатками, керосиновыми лампами и замками… Пшено они продавали на стаканчики и стопочки, а кружево отмеряли на локти. Указывая на этих старичков и старушек, женщина в сером вязаном платке, с кочаном капусты и куском тыквы в авоське, тихо спросила Петю:
– Сынок, ты не знаешь, каким порошком этих козявок пересыпали, что они не сгнили за столько годов?.. Не знаешь?.. Давай, сынок, сплюнем, – может, они исчезнут.
По примеру женщины в сером платке Петя плюнул и, смеясь, пошел дальше.
В конце базара белой лентой было обведено место для торговли с немецкими захватчиками. Здесь продавщицы были, как на подбор, молодые, в белых халатах. Они называли немецких солдат и офицеров «господин германский офицер», «господин германский солдат». То и дело слышалось: «Битте, пожалуйста, сладенький медок».
Сумрачное утро к девяти часам распогодилось. Выглянуло из-за облаков солнце, и мед, переливаемый торговками из ведер в железные банки фашистов-покупателей, заблестел веселым янтарным блеском. Тут же банки с медом запаивал маленький, порывистый в движениях паяльщик. Через очки, спустившиеся на кончик его небольшого носа, он с усмешкой никогда не унывающего человека громко говорил немцам:
– Извольте вашу баночку. Можете нести ее на ваш почтамт. До фрау в Берлин мед доедет невредим!
И тут же этот щупленький, невзрачный паяльщик смело переводил свои слова с русского на немецкий.
– Фью! – свистал он. – Нах Берлин! – выкрикивал, взмахивая рукой так, что спина его коричневого пиджачка наезжала ему на затылок.
Петя смеялся над клоунской развязностью этого человека.
Два подвыпивших кума в рыбацких резиновых сапогах, в треухах и брезентовых плащах издали наблюдали и за весело сновавшими фашистскими солдатами и больше всего за щупленьким рыжеватым паяльщиком. Один из кумовьев стал тихонько просить другого:
– Кум, держи меня, а то подойду к этому Нахберлину и в секунду сделаю из него блин.
– А я не хочу тебя держать, – отмахивался другой.
– Держи, тебе говорю!
– Не буду. Делай из него блин…
Сожалея, что нет времени дослушать, чем кончится разговор кумовьев, Петя вышел из людской тесноты базара. До Вокзальной улицы оставалось всего лишь полквартала, когда вдруг сзади послышался плачущий женский голос:
– Гришу! Гришеньку бросили в машину! Помогите! У нас двое детей!
Не останавливаясь, Петя оглянулся. Три гестаповские машины, тяжело раскачивая глухие ящики темных кузовов, медленно выходили из боковой улицы к базару. Поправляя винтовки, за ними бежали трое раскрасневшихся полицаев с белыми повязками на рукавах. От задней машины они отталкивали высокую черноволосую женщину, сорвавшую с головы платок и продолжавшую звать на помощь:
– Помогите! Гришеньку увозят!..
Машины уверенно входили в живую гущу базара. Люди стали кидаться в разные стороны, прячась за прилавками, за киосками, а некоторые заторопились домой, ныряя в ближайшие переулки. Машинам теперь было просторно колесить по базарной площади, где остались только немецкие покупатели, молодые продавщицы в белых халатах да подвыпившие кумовья в рыбацких резиновых сапогах. Передняя машина уже готова была выехать с базара, когда тот из кумовьев, что собирался сделать из паяльщика блин, со всего размаха бросил камень в кузов машины. Через три-пять секунд оба кума изворотливо защищались от наседавших на них полицаев.
«Здорово обороняются! Хоть бы убежали… Нет, не убегут: вон целая стая шоферов повылезала», – с горечью подумал Петя и на миг остановился.
– Пошли, пошли, – услышал он негромкий и очень знакомый голос и, повернувшись влево, готов был с удивлением спросить: «Виктор Гаврилович, откуда вы? И как же я вас не заметил раньше?»
Но Дрынкин вовремя приложил палец к губам, и рот Пети не открылся.
– Мы только распрощались с Иваном Никитичем. Он попросил встретить и проводить тебя куда надо.
Широкая Вокзальная улица шла в гору. На асфальтированных тротуарах ее почти никого не было. Несколько хозяек, возвращавшихся с неудачного базара, обогнали Дрынкина и Петю. Из их встревоженного разговора выяснилось, что у Гриши Давидовича есть брат Борис и он умно сделал, что еще позавчера скрылся, ушел куда-то.
– Гладкой ему дороги, – озираясь, перекрестилась старшая из женщин.
Дрынкин и Петя узнали, что кумовьев, дравшихся с полицаями, уже посадили в гестаповскую машину. Кумовья и в самом деле были рыбаками.
– Да это ж Гуркины! Прославленные рыбаки! Неужели ж так-таки и пропадут в этой чертовой повозке?!
И вдруг моложавая женщина, высокая, с уверенной походкой, опасливо заговорила:
– Цыть! Едут! Идут, гонят! Свернем!..
И она решительно потащила за собой своих попутчиц налево, за угол красного кирпичного дома.
Дрынкин и Петя продолжали идти по Вокзальной. Будто не глядя, они видели, как справа, по Трубному переулку на Вокзальную, шли люди вереницами, группами и в одиночку. Были тут старики, старухи, подростки и дети. Многие несли в руках узелки, чайники, катили детские коляски.
Аллея и мостовая отделяли этих молчаливых людей от Дрынкина и от Пети, и все-таки Петя среди многих незнакомых людей узнал известного в городе врача Татаркина. В дымчатой новой шляпе на побелевшей голове, в легком дымчатом пальто, со свернутым зонтом вместо палки и с плащом на руке, он шел прямо, глядя перед собой и поддерживая старика, у которого из кармана ватного пиджака торчала красная резиновая грелка.
Скоро и из других переулков стали выходить люди с такими же пожитками. Скорбное шествие сразу разрослось и протянулось по Вокзальной до ее верхних кварталов, примыкавших почти к самому обрывистому берегу не видного отсюда моря. То здесь, то там стали появляться гестаповские машины. Из кабин высовывали головы офицеры в жестких, нелепо задранных спереди фуражках с огромными кокардами. Они выкрикивали оттуда:
– Шнель-шнель! (Быстро-быстро!)
– Кнуте-кнуте! (Кнут-кнут!)
Они выкрикивали это негромко: один – через дым папиросы, другой – из-за платка, которым протирал очки, третий – просто так. Но все выкрикивали одинаково заученно и скучно. Солдаты, отвечая на их выкрики, прикладами подталкивали отстающих. Падавших бросали в машины.
– Деятели «Новой Европы», – глухо заметил Дрынкин.
Петя, изнемогая, ждал этого первого слова от Виктора Гавриловича, ждал его как разрешения спросить о том, чего не в силах был понять.
– Виктор Гаврилович, куда они их? – прошептал Петя. – Говорят, что их гонят в Семенову балку.
Дрынкин не ответил. И Петя, взглянув ему в лицо, не пытался снова спрашивать. У Виктора Гавриловича из-за очков потекли слезы.
– У комендатуры вон офицеры толпятся. Обойдем. А то еще за слезы придется ответить. А что в них, в слезах? Водичка. Ими не поможешь делу.
Впервые Петя увидел Дрынкина смущенным, и сердце его не могло смириться с этим.
– Виктор Гаврилович, я свои слезы уже вытер. Нате и вам платок. Мама мне дала их целых три. Берите и вытирайте, – участливо говорил Петя. В этом глухом переулке, куда они свернули, чтобы обойти комендатуру, можно было разговаривать, потому что фашистов поблизости не было.
Дрынкин молча взял платок. Он как-то сразу ушел в себя: плечи его приподнялись, подавшись вперед, большая голова, выделявшаяся на его невысокой сутуловатой фигуре, склонилась немного набок. В теплой распахнутой поддевке поверх знакомого Пете поношенного серого пиджака он шагал все быстрей и быстрей. Едва поспевая за ним, Петя думал: «Даже такие, как Виктор Гаврилович, могут заплакать… Мне тем более простительно. А все-таки надо крепко сдерживать слезы… Они же водичка».
* * *
Ту же самую картину, которую на Вокзальной улице видели Дрынкин и Петя, из окна жилого небольшого дома наблюдали Василий Александрович и художник Стегачев, Павел Васильевич.
Оба потрясенные, стояли они поодаль от окна, наполовину завешенного полотняной, с прошвами занавеской. Дом находился на высоком месте, недалеко от каменистого обрыва к морю. Им хорошо было видно, как уже сотни людей загонялись гестаповскими машинами с Вокзальной улицы в Запольный переулок. Узкий переулок круто скатывался к морю. Сегодня, несмотря на позднюю осень, море подернулось яркими всплескивающими пятнами. Под белизной едва приметных высоких облаков оно казалось маняще широким, звало в дорогу…
Из окна им видно было не только море, но и дальний склон Семеновой балки, желтевший боками глубоких яров.
Все трое знали, что тот, кого гестаповцы и полицаи уводили туда, уже не возвращался.
Встреча у Пети с отцом произошла в ту же самую минуту, когда скорбное шествие людей, подгоняемых прикладами, скатилось по Запольному переулку вниз, к Семеновой балке. На осторожный стук в дверь оба, угрюмые и настороженные, резко повернулись. Тут же Павел Васильевич, будто крадучись, кинулся к порогу, схватил сына своими длинными, жилистыми руками и то целовал его в голову, в лоб, то обнимал и спрашивал:
– А ты, Петька, говорил, что мы не встретимся! Ты говорил, что не встретимся!
– Папа, не придумывай, я так не говорил… Ты при людях много не целуй. Я уже взрослый, – говорил Петя, смущенно краснея и радуясь.
– А свидетели у тебя есть, что ты взрослый?
– Мама.
– Петя, почему только мама? – спросил повеселевший Василий Александрович. – Называй меня, называй его, – указал он на Дрынкина.
– Свидетели у тебя такие, что нельзя не поверить, – сказал Стегачев. – Значит, здоровы и ты и мама? Знаю, трудно ей там. Она же у нас была трусишка, а тут еще выпало такое.
– Нет, папа, она не трусишка. Мы с тобой плохо ее знали…
Оторвавшись от Пети, Павел Васильевич заметил, что Василий Александрович и Дрынкин с улыбкой следят за ним. Стегачеву вдруг стало неловко быть счастливым отцом в то время, когда тех людей все ближе подгоняют к Семеновой балке. Неловко ему стало и потому, что отнимал время у товарищей, которые пришли сюда вовсе не ради его семейного счастья. Продолговатое, костистое лицо Павла Васильевича, по-домашнему выбритое, густо покраснело, и он вдруг порывисто шагнул к столу и, опустившись на стул рядом с Василием Александровичем, сказал:
– Я уже отвел душу.
– Нет, вы лучше пройдите с Петей туда, – показал Василий Александрович на открытую дверь соседней комнаты. – Душу отведите там. – И чуть-чуть погромче произнес: – Поля, возьми их туда, а сама на пост.
Через минуту Петя с отцом сидели в соседней комнате. Здесь так же бросалось в глаза, что порядок в квартире резко изменился: это прежде всего было заметно по пятнам на стенах, отмечавшим места еще недавно висевших портретов, по опустевшему стеллажу, по снятым с окон портьерам и по другим мелочам.
Русая моложавая женщина молча поставила перед ними два стакана чаю и мелкую тарелку с галетами. Не суетясь она открыла шифоньер, надела черную глубокую шапочку, почти незаметно что-то сунула Пете в карман его распахнутого пальто, и вот ее, рывком набросившую шубку на плечи, не стало в комнате.
Пете некогда было проверять, что она положила ему в карман.
– Вот тебе мой. – И он крепко поцеловал отца в щеку. – А вот тебе мамин. – И поцеловал его в другую щеку.
– Спасибо. Спасибо, – сказал отец, и в глазах его засветилась страшно знакомая Пете злая задумчивость, та задумчивость, когда он, вздохнув, обычно говорил: «Петька, ничего не получилось сегодня из моего рисования. Пойдем погуляем, пойдем к людям – посмотрим на них, послушаем их». Но отец сказал сейчас совсем другое: – Душа, Петька, болит по матери. Не думал, что так может болеть. Но ты же знаешь, что в практических делах я всегда был беспомощным. Вот и Мокке уже заходил к вам в гости… И, видно, опять придет…
Петя кивнул головой.
– Мама боится его и плачет. Она поставила ноты на рояль и сказала: «Отцу передай, что разучиваю сонату для Мокке».
Чтобы успокоить расстроенного отца, Петя со вздохом добавил:
– Хоть бы этот чертов полковник пореже ходил к нам.
Павел Васильевич невольно улыбнулся:
– Не могу ему этого подсказать… Скажи матери, что Иван Никитич будет жить с вами. Его освободили от всех дел… Он сейчас у Букиных, отдыхает. Ты зайди к нему. Кстати и Колю проведаешь.
По-отцовски стянув брови к носу, Петя безмолвно слушал, изредка решительно покачивая головой. Когда отец задумался, подыскивая слова, чтобы предупредить сына об осторожности, Петя услышал, о чем говорили в соседней комнате.
Виктор Гаврилович глухо, но раздраженно рассказывал о каком-то беглеце Чалом и возмущался, что прошло уже три дня, а его еще не поймали.
А Василий Александрович почти с лаской в голосе успокаивал его, говоря, что в Троицком Чалого стерегут, послали людей в Петровку. Везде, где у предателя родственники и друзья, уже есть наши засады.
– Ну, если в этом вопросе все ясно, – убежденно заговорил Дрынкин, – то отпусти меня… Боюсь, что мой компаньон Бумажкин справится с полицейскими делами и уедет. Тогда мне придется пешком, а ноги болят, как на непогоду.
И Петя услышал, как загремел отодвигаемый стул, как неширокие и громкие шаги проследовали к выходу, но потом снова приблизились к тому месту, где стоял стол, и сейчас же Петя услышал настораживающе тихий голос Дрынкина:
– Еще раз напоминаю, что завтра в половине второго ночи на Сортировочную придет порожняк, а через два часа будет идти наезд с оружием для складов полковника Шмухера.
И опять неширокие шаги Дрынкина стали удаляться, негромко стукнула дверь, а через несколько секунд к Стегачевым вошел Василий Александрович и не присаживаясь озабоченно сказал:
– Павел Васильевич, покажите, что у вас там…
Петя видел, как отец, суетливо пошарив во внутреннем кармане короткого ему, чужого демисезонного пальто, достал несколько тонких картонок, сложенных колодой, как карты, быстро составил из них прямоугольник, похожий на тетрадь, и Петя с Василием Александровичем увидели нарисованного Гитлера.
Гитлер выглядывал из-за придорожного полосатого столба. Чуб его пьяно повис. Один глаз у него был закрыт, а другой в сумрачном освещении наступающих потемок зловеще вглядывался во что-то, что должно было появиться на дороге. Руки у него были спрятаны за спину. Нельзя было не заметить, что на молоденьком дереве, через которое вглядывался Гитлер, верхушка была сожжена, а листья на ветках побурели и свернулись.
Петя увидел, что у Василия Александровича, смотревшего на рисунок, набрякло лицо.
– Как вы эту «птицу» назовете? – глухо спросил он.
– Как-нибудь так: «Джентльмен с большой дороги», «Джентльмен высматривает добычу». Еще окончательно не решили, – ответил отец.
Василий Александрович не успел сказать, нравятся или не нравятся ему эти названия, как началась автоматная и винтовочная стрельба. Она донеслась издалека, оттуда, где была Семенова балка. Стрельба эта была неровной: то затихала, то усиливалась, становясь порывистой и жадной, как пламя пожара на сильном ветру. Под окном один за другим пробежали несколько человек. Они бежали согнувшись, будто им угрожали те пули, что расстреливали людей в Семеновой балке. За углом дома кто-то прокричал:
– Боже ж мой! Да что ж это делается на белом свете!
И, словно в ответ на это, на обрыве, в рыбацких подворьях захлопали калитки, и все затихло. Только далекая стрельба стала ясней и яростней.
Василий Александрович сказал:
– Павел Васильевич, надпись над Гитлером сделайте покороче, поясней: «Бандит».
По скуластому лицу его, по поседевшим вискам короткими вспышками забегали волны, и он быстрей заговорил:
– Множьте и давайте клеить.
И он стал застегивать бобриковое черное пальто и натягивать на большую темноволосую голову кепку с широким козырьком.
– Вы еще минуту-другую побудьте с Петей, а я пойду.
Командир уже протянул руку, чтобы попрощаться, но в просвете двери неожиданно появилась Поля.
– Взрослые, ко мне. А ты посиди немного, – сказала она Пете.
Петя не слышал, чтобы распахивалась и захлопывалась дверь, и потому был уверен, что ни Василий Александрович, ни отец не ушли. Во всяком случае, по его соображениям, отец всякую минуту мог вернуться к нему.
«Мы же еще не попрощались», – думал Петя, глядя на стакан остывшего чая. Когда затянувшаяся тишина в соседней комнате стала подозрительной, он прошел туда. Ни отца, ни Василия Александровича там не было. Поля ставила на место большой, но не громоздкий буфет, закрывая им дверь, выходившую прямо на улицу.
– Во дворе до десятка фрицев, но ты выходи, не бойся. Скажешь, если спросят: на улице попросил у меня хлеба, а я зазвала тебя чаем напоить… Постой! – Она кинулась за галетами, что лежали нетронутыми в маленькой комнате на письменном столе, пересыпала их с тарелки в карман Пети, быстрым движением поправила ему его темный чубик. Потом она прижала платок к глазам и сказала: – Ну уж иди, иди!
* * *
Радость встречи с отцом все больше омрачалась: перед глазами Пети неотступно стояли длинные вереницы людей, тоскливо бредущих по Вокзальной улице, мечущиеся по городу гестаповские чудовищные машины, людской плач… А в ушах Пети все еще не заглохла страшная стрельба, доносившаяся из Семеновой балки.
Поспешая к Букиным, Петя надеялся увидеться с Иваном Никитичем, с Колей, с Димой.
«С ними будет легче пережить этот день», – думал он.
Но во дворе Букиных не было ничего утешительного: оказалось, что Иван Никитич, Коля и Дима, захватив тачку, ушли из города. Куда? Зачем?
На эти вопросы ему отвечала мать Коли.
– Есть-то уже нечего ни у нас, ни у Русиновых. А кое у кого хуже, чем у нас. Иван Никитич придумал поехать за пшеницей. Говорил, что на двенадцатом километре постовые немцы пропускают на правую сторону от железной дороги… Петечка, было бы тебе на часик раньше прийти. А ведь Иван Никитич знал, что ты в городе, досадовал, что нейдешь к нам. Говорил – с ним бы мы побыстрей управились в Яблоневой котловине и скорей бы вернулись к Марье Федоровне, – выпроваживая Петю за ворота, говорила Колина мать. В лице и в глазах ее, увеличенных выпуклыми стеклами, виделись сердечное сочувствие и напряженное желание во что бы то ни стало подсказать Пете, как ему быть. – Может, зайдешь к Юрику Антипову или к Косте Кузьмину. Они тоже собирались с ними, а потом ушли домой и не вернулись. Уж почему, не знаю…
И она, скрестив на груди ладони, долго стояла у калитки, провожая Петю сочувствующим взглядом.
* * *
На Доменном переулке, № 19, где жил Юрик Антипов, калитку Пете не открыли, а в № 63 произошло с Петей тягостное недоразумение. Прежде чем постучать к Косте Кузьмину – своему однокласснику, он подошел к забору там, где из доски выпал маленький сучок. В дырку он заглянул из-за опасений: нет ли во дворе гестаповцев?.. На ступеньках домика он увидел Костю с открытой книжкой. Обрадовавшись, Петя застучал. Но вышла мать Кости и, сделав вид, что она не знает Пети, недружелюбно сказала:
– Кости нет. Он уехал. Да и не нужен он тебе. Проходи дальше.
С горькой обидой Петя шагал теперь по Восточному переулку, торопясь выйти за черту города. На Восточном, как и на всех других переулках и улицах заводского района, было пустынно и глухо. Лишь изредка из двора во двор или к колонкам за водой пробегали женщины. Связывая оброненные ими слова, Петя уже знал, что в центре города появились с огромными узлами те самые солдаты, что были в Семеновой балке. Узнал Петя также, что на Запольном переулке подняли куклу, погремушку, распашонку… А гестаповские машины уже ушли из города, на их кузовах и колесах видели кровь.
В Семеновой балке раздался взрыв.
В городе сто пятьдесят тысяч жителей. Есть в нем большие заводы, кинотеатры, клубы, морской порт, рыбацкие пристани, вокзал, депо, но как глух стал он, когда где-то на море затих раскат взрыва. Эта тишина вызвала у Пети тоску и боль одиночества, о которых некому было рассказать… В городе все знали, и Петя об этом слышал, что фашисты, взрывая обрывы яров в Семеновой балке, под многотонными глыбами земли хоронили расстрелянных.
По мелкой волне залива шел темно-серый сторожевой катер фашистов, а их часовой ходил по уступу в порт, и всякий раз, как он поворачивался, с его автомата и каски срывался острый блеск.
Радости дня бесследно исчезли, и сами собой вставали вопросы. «А может, никакой встречи ни с отцом, ни с Василием Александровичем, ни с Виктором Гавриловичем у него не было? – спрашивал себя Петя. – Может, все, о чем они говорили, что собирались делать, лишь примерещилось? Может, в жизни осталось только страшное?»
Пете стало жутко, у него выступили слезы, и он шел, не замечая их. Очнулся он от стука копыт и колес о мостовую. Рыжая пара коней, запряженных в бричку, обгоняла его. Лошадьми управлял Бумажкин: такой же длинноусый, нескладный и важный, он был в новой папахе и с белой повязкой на рукаве. Спиной к нему, а лицом к Пете в задке брички трясся Виктор Гаврилович. В сравнении с Бумажкиным он казался совсем маленьким. Взглянув на Петю, он быстро порылся в карманах и, завернув что-то в бумажку, бросил на мостовую. Петя поднял этот сверточек. В нем оказался тот самый платок, который он дал утром Виктору Гавриловичу вытереть слезы.
«Значит, он видел, что у меня мокрые глаза… Решил, что платок мне теперь нужней», – подумал Петя о Дрынкине и засмеялся радостным, негромким смехом. Тоска, теснившая его сердце, вдруг сломалась, уступая место острой надежде и твердой вере. И ему показалось, что не такая уж трудная задача найти Ивана Никитича и ребят. Тем же путем, каким шел в город, он вернулся к первомайскому саду и крадучись пересек дорогу на шестом километре. Он шел не по дуге, а напрямую. И если путь Ивана Никитича и друзей лежит в Яблоневую котловину, то он неизбежно встретит их.
* * *
Громкое название – Яблоневая котловина!
Котловина действительно глубокая, просторная, но, осмотревшись кругом, с удивлением спросишь, если не спутника, то самого себя: «А где же эти самые яблони? Неужели вон те?» – и укажешь на крутой склон, покрытый, точно колючими сорняками, кустарниками дикой яблони. Разрослись эти кустарники и по самому склону и по скатам трех его широких промоин… Место вовсе не живописное, но в свое время Иван Никитич сказал о нем Василию Александровичу:
– Поверьте мне, старику, – лучшего места, чем Яблоневая котловина, нам не найти… По левому склону, если идти с востока на запад, поднимешься на крутизну, и тут тебе ко всему есть свободный доступ. Кати кустарниками под уклон, к заливу, в город, на шоссе и на грейдер. Обязательно там надо устроить хоть маленький складик зерна.
Василий Александрович, будто споря с самим собой, ответил:
– А черт его знает, бывает трудней заметить то, что на виду, под носом. Иван Никитич, своими силами ты попробуй организовать там на всякий пожарный случай складик?.. Очень может понадобиться.
И полтора месяца назад старик Опенкин с самыми близкими колхозниками вырыл яму на левом склоне в Яблоневую котловину. Дно ее застлали соломой, сложили туда две подводы пшеницы, опять накрыли соломой, потом засыпали землей, утрамбовали и замаскировали. Все это они сделали с большими предосторожностями, ночью.
С тех пор Иван Никитич ни разу не заглянул на левый склон Яблоневой котловины и теперь впервые пробирался сюда кустарниками. На запустевшем летнике он заметил Петю и пересек ему путь.
– Хорошая встреча, – вскользь улыбнулся он, – но за переход дороги в опасном месте нелишне было бы наказать. – И улыбка вмиг исчезла с его сухонького лица.
– Я спешил к вам… А где же ребята? – спросил Петя.
– Живы-здоровы, скоро прибудут. Увидишь… Только дай мне слово о них сейчас не заводить разговор. Пошли.
Шагая сбоку, Петя с жадностью разглядывал старого плотника. За минувшие два дня он не успел побриться. Морщинистое, сухонькое лицо его стало колючим, и оттого сам он походил теперь на усохший репейник. Сходство с репейником усиливалось, когда он начинал себе под нос ворчать.
Сейчас Иван Никитич ругал маленьких птичек, что перелетали с одного подсолнечного поля на другое. Тонко посвистывая, они кружились теперь над кустарниками дикой яблони.
– Они так летали, когда я был в твоих годах. И при колхозной жизни так летали, и теперь… Им все равно. Перед снегом они любят таким манером веселиться. А снег нам, Петро, как веревка к горлу.
– Почему? – поинтересовался Петя.
Иван Никитич, отмахнувшись, остановился и стал прислушиваться.
В котловине было тихо. Только иногда где-то, на самом дне ее, резко начинали стучать один-другой моторы мотоциклов. Прочертив ревущую полосу звука, они затихали в той стороне, где был фронт, где почти день и ночь шла глухая, едва слышная схватка орудий.
– Захватчики проложили себе дорогу по самому дну. Там голо. Они боятся кустов, как пуганые вороны. В Куницыне у них мотоциклисты, эсэсы. То и знай скачут на фронт и с фронта, – будто внушая самому себе, что опасного пока ничего нет, разговаривал старик.
На следующей остановке, прислушиваясь, он между делом заинтересованно спросил:
– Как поживает Мария Федоровна?
– Мама живет ничего, – тихо ответил Петя.
– С позавчерашнего дня меня перевели на мирное положение – велели оберегать Марию Федоровну. А мы с тобой вот где оберегаем ее.
– Иван Никитич, я же только утром ушел из дома. Мама живая, – успокаивающе сказал Петя.
– Так живую и надо оберегать.
Они обменялись мальчишескими усмешками.
– Извинительное дело, что я еще не дошел до Марии Федоровны, – уже серьезней заговорил старый плотник. – В городе семьи самых близких нам людей начали приголодовывать. Кое-кому надо срочно помочь хотя бы пшеничкой… – И тут он оборвал самого себя: – Разговору конец – тут кусты гуще, по сторонам не видно…
Несколько минут медленно и осторожно взбирались на кручу. Остановились на полянке в двадцать – тридцать квадратных метров. До гребня оставалось не больше сотни шагов, так же близко было до глинистого ската в промоину. Иван Никитич долго присматривался на полянке к сучьям, к лежалым листьям, к мелкому полынку.