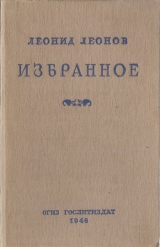
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Леонов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 45 страниц)
Письмо второе
Мой добрый друг!
Пусть это – публичное признание моего бессилия. Я никогда не создам этого рассказа. Скорбную эту повесть надо писать на меди: бумагу прожигали бы слова об этих двух безвестных женщинах. Я не знаю ни национальности их, ни имён. Вернее, я теряюсь, какие из семи тысяч я должен выбрать, чтобы не оскорбить памяти остальных членов этого страшного братства.
Ты без труда представишь себе этих двух героинь ненаписанной повести, мой неизвестный американский друг: пятилетнюю девочку и её мать. Маленькая была, совсем как твоя дочка, которую ты ласкал ещё сегодня утром, отправляясь на работу. Её мать, верно, очень похожа на твою милую и красивую жену, только одета беднее и у неё очень усталое лицо, потому что жить в городе, занятом немецкой армией, несколько труднее, чем под безоблачным небом Америки. Они помещались в крохотном, с бальзаминами на окнах, домике, у которого отстрелили снарядом угол в недавнем городском бою. Починить его было некому, так как их отец, русский солдат, ушёл со своим полком и где-то, на далёком рубеже, без сна и устали бил в костистую морду смерти, что поднялась ныне над всем цивилизованным человечеством.
Фронт был отодвинут в глубь страны, и грохот русских пушек, этот гневный голос родины, перестал быть слышен в том тихом городке. Наступила великая тоска, и в ней один предзимний, ещё бесснежный денёк. Мороз скрепил землю, и лужицы подёрнулись стрельчатым ледком. Всем нам в детстве одинаково нравилось ступать по этому хрусткому стёклышку и вслушиваться в весёлую музыку зимы. Когда в то бессолнечное утро девочка попросилась у матери на улицу, та одела её потеплее, в рваненькое и уцелевшее, и выпустила с наказом не отходить далеко от дома. Сама она собиралась тем временем заделать пробоину в стене и не могла отказать дочке в этом скромном удовольствии.
Ставши у ворот, маленькая боязливо улыбалась всему, что видела. Она бессознательно хотела задобрить громадную недобрую тишину, обступившую городок. Никто не замечал присмиревшего ребёнка, все были заняты своим делом. Порхали воробьи, и шумел за облаками самолёт. Сменные немецкие караулы чеканно направлялись к своим постам. Изредка робкая снежинка падала из пасмурного неба, и, подставив ей ладонь, девочка следила, как та превращалась сперва в прозрачную капельку, потом в ничто. У маленькой не было её пестрых, любовно связанных бабушкой перчаток. Ночью случился обыск, а у немецкого солдата, который приходил за трофеями, видимо, имелась дочка такого же возраста в Германии.
Шум в конце улицы привлёк внимание ребёнка. Объёмистый автобус, с фальшивыми нарисованными окнами, остановился невдалеке. Сняв рукавицы и подняв капот, шофёр мирно копался в моторе. Шеренга немецких пехотинцев, как бы скучая и с примкнутыми штыками, двигалась сюда, и в центре этого полукольца плелись безоружные местные жители, человек сорок, с узелками, старые и малые. Некоторые застёгивались на ходу, потому что их внезапно выгнали из дому. Годных к войне между ними не было, грудных несли на руках. Это походило на невод, который по мелкой воде тянут рыбаки. Шествие приблизилось, впереди шли дети.
Всё выглядело вполне обыдённо. И хотя все понемножку о чём-то догадывались, никто не плакал из страха вызвать добавочную злобу у этих равнодушных солдат. Видимо, всем этим людям предстояло ехать куда-то во имя жизненных интересов Германии, – и маленькой в том числе! Ей очень нравилось ездить в автомобилях, хотя только раз в жизни она испытала это наслаждение. Установился обычай в нынешней России катать детей по первомайским улицам в грузовиках, разукрашенных цветами и флагами; обычно дети пели тоненькими голосками при этом… Кстати, девочка поискала глазами в кучке ребят свою старинную подружку. Она ещё не знала, что её, контуженную при занятии городка, закопали прошлым вечером в вишеннике, за старым амбаром.
Скоро мёртвая петля облавы захлестнула и домик с бальзаминами, возле которого стояла моя пятилетняя героиня. Комплект был набран, и раздалась команда. Козырнув, шофёр обошёл сзади и открыл высоко над колёсами толстую, двустворчатую дверь. Людей стали поочерёдно сажать вовнутрь фургона: слабым или неловким охотно помогали немецкие солдаты. Одна древняя русская старушка, не шибко доверяя машинам и прочим изобретениям антихриста, украдкой покрестилась при этом. Девочка удивилась не тому, что внутренность машины была обшита серым гладким металлом; её огорчило отсутствие окон, без которых ребёнку немыслимо удовольствие прогулки. Она ничего не поняла и потом, когда худой и ужасно длинный солдат под руки, как русские носят самовар, понёс её к остальным, уже погружённым детям: она только улыбнулась ему на всякий случай, чтобы не уронил. В ту же минуту на крыльцо выскочила, с руками по локоть в глине, её простоволосая мать.
Она вырвала ребёнка и закричала, потому что видела накануне этот знаменитый автобус в работе. Она кричала, неистово распахнув рот, во всю силу материнской боли, и я очень удивляюсь, если не был слышен в Америке этот несказанный вопль. Она так кричала, что ни один даже не посмел ударить её прикладом, когда она рванулась и побежала с дочкой наугад, и запнулась, и упала, – и лежала в чудовищной надежде, что её почтут за мёртвую или не заметят в суматохе. Но маленькая не знала: она силилась поднять мать за руку и всё твердила: «Мамочка, ты не бойся… я поеду с тобой, мамочка». Она повторяла это и тогда, когда её вторично понесли в цинковую коробку фургона. Но тогда вдруг заплакали и закричали все от жалости к маленькой, а громче всех дети. Это был беспорядок, противный германскому духу, и чтоб прекратить скандал в зародыше, в автобус поднялся хорошо выбритый ефрейтор с большим фабричным тюбиком, что хранился в его походной сумке. Одновременно в его правой руке появилась узкая, на тонком стержне, кисть, вроде тех, что употребляют для гуммиарабика. Из тюбика выползла чёрная змейка пасты, несколько густой, но, видимо, более удобной в перевозке. Солидно, протискиваясь в тесноте среди детей, военный смазывал этим лекарством против крика губы затихших ребят. Порой, для верности, он без промаха вводил свой помазок в ноздри ребёнка, этот косец смерти, и, как скошенная трава, дети клонились и опускались на ноги обезумевших взрослых. Наверно, у него имелось специальное образование, так ловко он совершал свою чёрную процедуру. Крики затихли, и солдатам уже не составило труда отнести и вдвинуть на пол камеры, в этот людской штабель, потерявшую сознание мать.
Дверь закрыли на автоматический замок: шофёр поднялся на сиденье и завёл мотор, но машина не сразу отправилась на место назначенья. Офицер стал закуривать, солдаты стояли вольно. Всё опять выглядело крайне мирно: ничто не нарушало тишины, ни шумливые, краснодарские воробьи, ни – почему-то – треск выхлопной трубы. И хотя машина попрежнему стояла на месте, время от времени как-то странно кренился кузов, точно самый металл содрогался от роли, предназначенной ему дьяволом. Когда папироска докурилась и прекратились эти судорожные колыханья, офицер дал знак, и машина поплыла по подмёрзшим русским грязям за город. Там имелся глубокий противотанковый ров, куда германские городские власти ежедневно сваливали свою продукцию… Теперь, после возвращения Красной Армии на временно покинутые места, эти длинные могилы раскопаны, и любители сильных ощущений могут осмотреть фотографии завоевательских успехов Гитлера.
Это краткое либретто темы, способной целые материки поднять в атаку, я дарю Голливуду, инициативный размах и коллективный гений которого я глубоко уважаю. Несомненно, он получится сильнее обычных гангстерских фильмов, этот впечатляющий кинодокумент. Жаль, что его не успели поместить в той вместительной железной коробке – посылке в века, что закопана под Нью-Йоркской всемирной выставкой. Любовную интригу, если понадобится, можно присочинить, по ходу действия. Хорошо было бы также показать этот боевик многочисленным свободолюбивым армиям, которые ждут приказа о генеральном наступлении против главного изверга всех веков и поколений.
Конечно, встретятся неминуемые трудности при постановке. Вашей актрисе трудно будет воспроизвести смертный крик матери, да и вряд ли плёнка выдержит его. Режиссёру и зрителю покажутся экзотически невероятными как самый инвентарь происшествия, так и перечисленные мною вкратце детали. И хотя я вовсе не собирался писать корреспонденцию из ада, я полагаю необходимым, однако, перевести на англо-саксонские наречия название этого невиданного транспортного средства, изобретённого в Германии для отправки в вечность: душегубка… Это дизельный, восьмитонный грузовик, с камерой, обложенной изнутри листами надёжного металла, – который невозможно ни прокусить, ни процарапать ногтями. Отработанные газы мотора нагнетаются в это герметически закупоренное пространство непосредственно через трубку с защитной от засорения решёткой. Горячая сгущённая окись углерода, СО, немедленно наполняет кабину и быстро поглощается гемоглобином крови заключённых там жертв. Отравление начинается с удушья и головокружения; не стоит приводить остальных симптомов при смертельных случаях, а это приспособление создано специально для смерти. Это вряд ли потребуется в проектируемом нами фильме. Впрочем, в классических немецких исследованиях по токсикологии Винца, Шмидеберга и Кункеля подробно разработана симптоматика этого дела.
Как видно, достижения германской науки пригодились сегодня негодяям, которым Германия вверила свою национальную судьбу и жизни. И когда Геббельс вопит со своих радиостанций о немецкой культуре, он, видимо, требует от своих будущих жертв, чтобы они до последнего дыхания сохраняли почтительное изумление перед сверкающей аппаратурой палача. Рационализация человекоистребления и дешевизна его доведены до баснословного предела. Знаменитые яды истории – демонский напиток Борджиа, или «лейстеровский насморк» елизаветинского министра, или изящная, как музыка Моцарта, отрава маркизы Бренвилье, и сама бледная аква тоффана, что, продавалась в средние века в пузырьках с изображением св.Николая, – всё это дорогостоящие забавы для мелкого, индивидуального пользования. Сама Локуста, которую тоже с промедлением догадались казнить только при Альбе, чернеет от профессиональной зависти к Гитлеру, который отбросы дизельмотора включил на вооружение германской армии. Не добывать же окись углерода, например, разложением щавелевой с помощью крепкой серной, слегка подогретой кислоты!
Эта механическая колымага гибели, что путешествует по просторам оккупированных областей России, обслуживается специальным отрядом, зондеркомандой, из двухсот человек. Должность свою они исполняют не в патологическом исступленьи боя, а с трезво обдуманной полнотой большого государственного мероприятия. У них ведётся учётный журнал с точными графами, куда заносятся как дата и способ уничтожения, так и пол, национальность, возраст и количество уничтоженных за сутки жертв. Не верится, что у этих чёрных бухгалтеров смерти тоже были мамы, которые ласкали их в детстве и, пряча свои лица, достойные Гойи, просили у неба счастьишка для своих рычащих ублюдков… Обширный штат зондеркоманды вполне окупается размерами её деятельности. И верно, при максимальной ёмкости кузова в восемьдесят живых единиц, при дозировке срока в десять минут, дольше которого не выдерживает самый прочный молотобоец, плюс двадцать минут на обратный рейс, включая разгрузку, – а машина действует и на ходу! – пропускную способность этого автобуса можно довести до полутора тысяч покойников в сутки. Таким образом, дивизион таких агрегатов, даже при умеренной, но бесперебойной работе, может в месяц опустошить цветущую площадь с двухмиллионным населением.
Представь себе этих людей хозяевами земли, мой добрый друг, и содрогнись за своих любимых!
Народ мой словом и делом проклял эту подлую арифметику дьявола. Народу моему ясно, что если бы не было пушек у мира, следовало бы голыми руками расшвырять это бронированное гнездо убийц. И я люблю мать мою, Россию, за то, что ум и сердце её не разъединены с её волей и силой; за то, что, гордая своей правотой, она идёт впереди всех народов на штурм пристанища зла. Видишь ли ты её, когда она безустали сокрушает обвившего её ноги дракона? Святая кровь всемирного подвига катится по её лицу, и кто в мире назовёт мне лицо красивей? Вот почему сегодня родина моя становится духовной родиной всех, кто верит в торжество правды на земле!
К вечным звёздам люди всегда приходили через суровые испытания, но в такую бездну ещё никогда не заглядывал человек. Уже мы не замечаем ни весны, ни полдня. Реки расплавленной стали текут навстречу рекам крови. Никто не удивится, если хлеб, смолотый из завтрашнего урожая, окажется красным и горьким, как горох, на вкус. Самая сталь корчится от боли на полях России, но не русский человек. При равных условиях, в библейские времена, Иезекиили с огненным обличеньем на устах нарождались в народе. Во все времена появлялись они и благовестили людям, эти колокола подлинного гуманизма. Ты помнишь исполина Льва Толстого, который крикнул миру – «не могу молчать», или пламенного Барбюса, с его прекрасным «J'accuse!», или Горького и Золя. Миллионноголосое эхо подхватывало их призыв, и подлая коммерция себялюбия уступала дорогу совести, и на века становился чище воздух мира… Ты помнишь и чтишь русского человека, Фёдора Достоевского, чьи книги в раззолоченных ризах стоят на твоих книжных полках. Этот человек нетерпеливо замахивался на самоё Провидение, однажды заприметив слезинку обиженного ребёнка. Что же сказали бы они теперь, эти непреклонные правдоносцы, зайдя в детские лазареты, где лежат наши маленькие, тельцем своим познавшие неустройство земли, пряча культяпки под одеялом, стыдясь за взрослых, не сумевших сберечь их от ярости громилы? Что сказали бы они маститым пилатам, напрасно омывающим руки, ибо прочно прилипает к рукам эта безвинная кровь. Они подивились бы человеческой породе, в которой и горячечное пламя тысяч детских глаз не выплавило гневной набатной меди!
Каждый отец есть отец всех детей земли, и наоборот. Вот правда, без усвоения которой никогда не выздороветь нашей планете. Остановить в размахе быструю и решительную руку убийцы – вот неотложный долг отцов на земле. Иначе к чему наши академии и могучие заводы, седины праведников и глубокомыслие государственных мудрецов? Или мы затем храним всё это, чтоб пощекотать больное и осторожное тщеславие наше? Фашизм, эта страшная язва Европы, так же гнусно зияет среди обманчивых утех нашей цивилизации, как если бы длинный витой хвост пращура просунулся между фалдами профессорского сюртука. Можно ли смотреть на звёзды из обсерваторий, пол которых затоплен кровью? Тогда признаемся в великой лжи всего, что с такой двуличной и надменной важностью человечество творило до сегодня. Может быть, и сами мы – только размалёванные обрубки в сравнении с теми красивыми и совершенными людьми, что завтра осудят моих современников за допущение на земле страшнейшей из болезней.
Нет, неправда это! Прекрасен этот свет, вопреки сквернящим его злодеям. Прекрасны дети и женщины наши, сады и книги, чистой мудростью налитые до краёв. Человек ещё подымется во весь рост, и это будет содержанием поэм, более значительных, чем сказания о Давиде и Геракле. Народ мой верит в это и ценит локоть и близость друзей, – и тех, что пойдут вместе с ним наказать дикаря в его логове, и тех, кто с опасностью для жизни подносит патроны к месту боя. И никакой клевете не разъединить этих соратников, благородных в своих исторических устремлениях и спаянных кровью совместного подвига. Их породнили племена Варшавы и Белграда, руины Сталинграда и Ковентри. Термитным составом выжжены на пространствах Европы имена изобретателей тотальной войны. Когда один из них, перечислив преимущество ночных рейдов на мирные города, предупреждал народы, если бы они посмели ответить тем же оружием: «Горе тому, кто проиграет тотальную войну», в тот день подсудимый сам произнёс себе приговор.
И вот он начинает приводиться в исполнение. Мы проникнуты нетерпеливым ожиданием победы. Самый колос старается расти быстрее, чтоб сократить сроки ужасного кровопролития. Цвет наций одевается в хаки. Железные ящеры, урча, сползают с конвейеров, – уже им нехватает стойл на родных материках. Владыки океанов неторопливо сходят со стапелей во мглу ночи. Стаи железных птиц, более грозных, чем птицы Апокалипсиса, крылом к крылу покрывают равнины. И когда мысленно созерцаешь сумму стали, людей и резервов у стран-свободолюбцев, глубоко веришь, что и горы не устоят перед натиском этого материализированного гнева.
Я не умею разгадать логику зреющего в недрах генеральных штабов великого плана разрушения фашизма. Я простей человек, который пишет чёрным по белому для миллионов своего народа. Может быть, я не прав, но мне всегда казалось, что совершеннолетний мужчина, который в цинковой коробке травит пятилетнюю девочку, заслуживает немедленного удара не в пятку, а в грудь или по крайней мере в лицо. Они совсем не Ахиллесы, эти берлинские господа. Конечно, все дороги ведут в Рим, но всё же кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая. Я не рассчитываю, что большие стратеги, занятые великими планами, ответят на моё послание. Верю, однако, что ты уделишь мне минутку – поделиться соображениями по поводу этой волнующей нас проблемы. Ведь честная дружба, истинная дружба мира, которою отныне будет жить планета, создаётся сегодня на полях совместного боя. Именно здесь познаётся величие характера и историческая поступь передовых наций.
Из затемнённой Москвы я отчётливо вижу твоё жилище, и стол, за которым ты сидишь, и на столе – твои сильные руки, которые тоже работают для победы. Тебе подаёт ужин милая твоя жена, и пятилетняя девчоночка на твоих коленях торопится рассказать тебе сложные дневные происшествия своей и куклиной жизни. Ночь движет стрелки на циферблате, и красивый, ярко освещенный город шумит за твоим окном… Покойной ночи, мой неизвестный американский друг! Поцелуй свою милую дочку и расскажи ей про русского солдата, который в эту ночь, сквозь смерть и грохот, по эвклидовой прямой движется на запад за всех маленьких в мире.
15 июля 1943 г.
Размышления у Киева
Ещё гремит поле боя и сопротивляется враг, исхлёстанный нашей артиллерией, издырявленный штыковым ударом, но сердце народное чует приближение победы. Она в десятке признаков и прежде всего в нашей неукротимой, всё возрастающей ярости.
Сейчас уже не сыскать на свете чудака, что сомневался бы в конечной судьбе Гитлера и его банды. Взвешено его подлое царство, исчислены его дни, в затвор введена пуля, которой доверено оборвать его поганое дыханье. Скоро пылающие головни загонщиков коснутся тощих рёбер зверя, прижатого в его логове. Тогда отчаянье охватит разбойничью берлогу, как пожар, где сгорит дотла наглая германская спесь. Преступнику судьи предъявят улики размерами в миллион квадратных километров, воины совершат справедливость.
Так будет, так хочет армия, народ. Потому что вся страна наша сегодня – военный лагерь, где нет равнодушных к исходу исполинской схватки. Свирепый удар, нанесённый исподтишка в грудь нашей родины, пробудил в ней небывалую волю к жизни. Единством, какого не знавала прежняя Россия, охвачено у нас всё живое. Жёрла пушек и ненависть малюток наших – всё направлено в сердце врага. Спроси самые реки и леса наши, о чём они шумят в ночи; ветер спроси – чего жаждет он? И всё ответит эхом, от которого содрогнутся горы: слёз твоих, гитлеровская Германия, и крови вашей, гитлеровское ворьё!
Нет у нас иной мечты сегодня. Тупой немецкий обыватель, всегда стремившийся установить свои порядки и лишь скрепя сердце допускавший существованье соседей, – целый век он готовился к походу на Восток. Каждому куску стали, выплавленному в его домнах, было предназначено поразить чьё-то русское сердце. Нам никогда не нравились его истошные вопли о превосходстве германской расы над другими, и нам, наконец, смертельно надоело столетнее бряцание оружием у наших ворот. Она разъярила, наконец, наши народы, эта барабанная дробь военного шантажа.
Напрасно Бисмарк наказывал внукам не соваться и в прежнюю-то русскую овчарню, а с тех пор великое переустройство произошло в России. Однако волчата пренебрегли заветами зоркого и матёрого волка. На горе себе, они величавую тишь просторов наших приняли за сонливую лень, наши мирные призывы к труду и братству – за декларацию слабости.
Что ж, история сердито учит пошляков, не умеющих отличить спокойствие могущества от принижения робости, и русский солдат охотно поможет ей в этом.
Нет, не Германия будет превыше всего на свете и никакая иная держава, а единая владычица мира – правда, высокая и суровая, разящая наповал, начертанная на знамёнах наших армий. Не бывать на свете нациям господ, потому что нет и наций служанок, и никому не дано взвешивать исторические судьбы народов на неправедных весах военной удачи. Не обширностью воровских налётов на мирные города, не количеством расстрелянных детей, не замысловатостью содеянных преступлений измеряется величие народа, а человечностью его духовных взносов в сокровищницу мировой культуры и прежде всего действенной решимостью защищать её до последней кровинки и – своими собственными руками. Вот почему слово русский звучит сегодня как освободитель на всех языках мира.
Замышляя своё беспримерное злодеяние, гитлеровская Германия не задумывалась, хватит ли слёз у неё смыть пролитую кровь. Пусть попробует на деле, это надёжно излечивает от безумия. В самом деле – готовить ярмо смельчакам, совершившим прыжок через смертельную пропасть, – России, только что вырвавшейся из рабства на простор вольного существованья!
Кто ты, Гитлер, чтобы размахивать над нами бичом господина? Это вас, современники мои, он собирался тащить в петле порабощенья на плаху бесславной гражданской смерти, – вас, орлы Сталинграда и Киева, родные братья светоносных Зои и Александра Матросова, – вас, конструкторы небывалых машин, строители Днепрогэса и Магнитогорска, осушители болот, озеленители пустынь размером в пол-Европы, суровое племя мечтателей и воинов, творцы, в жилах которых льётся пламя Ленина и Толстого, Горького и Сталина!
Воистину, только в иссушенном мозгу политического ублюдка, изучившего в жизни пару жалких книжонок – наставление по окраске квартир да руководство к разведению племенных свиней, откуда и пошла идея о расе господ, – мог зародиться этот низменный бред. О, ты достаточно потрудился, австрийский маляр и мастер мокрого дела, удобряя немецкой кровью поля России и Европы; и ты добился, наконец, что слово германец приобрело значение угнетателя на всех наречиях земли. Пора уходить, полно тебе торчать на сцене, презренный, освистанный балаганщик! Миллиард честнейших людей нетерпеливо ждёт, когда ты уляжешься, наконец, в яму с хлорной известью, Гитлер.
Пусть улыбнутся вдовы, перестанут плакать ребятки, распустятся заедино все цветы на планете. Трауром отметит Германия день твоего восшествия на канцлерское кресло; мир сделает праздничной дату твоей гибели. Гляди, уже бегут с Украины твои гаулейтеры и человекоеды, домушники и маровихеры, зажав подмышкой фомки, этот инструмент нынешней пруссацкой славы. Тешься, грабь, нагуливайся напоследок, тевтонская душа. Закладывай замедленные с химическим взрывателем бомбы в фундаменты детских домов, хватай подвернувшееся барахлишко для своих белокурых берлинских марух, сдирай своему ублюдку чулочки с девчоночки, зазевавшейся на улице, отбирай у нищей старухи её последнее достоянье, курочку-рябу, – из её яичек ещё выведутся тебе красные петушки!
Торопись, близится жаркий день расплаты: придётся платить за все садистические упражненья и долгий кровавый дебош. Трясись, гитлеровская орава! Придётся иному повисеть, иному побыть падалью, иному слезливо взглянуть в глаза нашему русскому парню, размахнувшемуся смертной плюхой.
Скучно нынче в Берлине, но ещё скучнее в столицах помельче, что лежат на столбовой дороге наступающей Красной Армии. Хозяева этих державок также рассчитывали на поживу при делёжке неумерщвлённого медведя. Понятно, на пирушке у атамана хищников всегда что-нибудь достаётся и шакалам, и воронью.
С молчаливой усмешкой народы моей страны слышали их чудовищные и оскорбительные притязанья. В год коварного вторженья в исконные наши земли соседние к нам европейские захолустья враз объявили себя великими. Они размечали свои госграницы до Урала, до Волги, до Астрахани; их аппетиты умерялись, видимо, только географическим невежеством.
То была убогая заносчивость блохи, что, затаясь на шерстистом хребте главного волка, возомнила себя набольшим зверем, индрик-зверем, из русской былины, страшилищем всего живого на свете. Они забыли, что в войне с Россией основная стратегическая задача всегда делилась на две части – как найти проход в её необъятных границах, и ещё – самое существенное – как в наиболее целом виде и, по возможности, с головой удалиться из неё во-свояси. Первая половина Гитлеру как будто удалась, вторая, в отношении головы, этому тулову не удастся. Мы, русские, своими победами не обольщаемся и так полагаем, что и Сталинград, и Орёл – только вступительная глава в великой книге Победы.
Мы знаем, чем грозило нам пораженье; народ мой хочет сделать эту победу с наибольшим запасом прочности. Такого лютого, столетнего врага должно видеть либо мёртвым, либо на коленях. И вот стремительное наступление наше превращается в соревнование танкистов и лётчиков, артиллеристов и пехоты. С закушенными губами они рвутся вперёд, не чуя боли в ранах, ломая сталь обороны, ибо есть кое-что на свете покрепче пресловутой германской стали. Новые, вчера ещё безвестные имена героев миллионами уст любовно повторяет родина, новые орлята крепнут на подвигах и расправляют молодые крылья. А уже Днепр! И далеко позади Полтава, но никто ещё не знает, который из городов наших станет последней Полтавой германской армии. Так кто же из вас, богатыри Сталина, первым окончательно перебьёт уже надломленную хребтину зверю?..
Итак, ты снова наш, Киев, и быть тебе нашим, доколе катится Днепр и солнце ходит в небе. Ты, как часовой, века стоял на рубежах наших земель, вглядываясь в смутные горизонты Востока, кишевшие крымчаками да половцами, разными тугорканами да боняками, – и Запада, откуда извечно, не мигая, глазели на твою красу завистливые очи другого Идолища Поганого; там, где-то на древних славянских рубежах, лежал в дозоре малый твой сынок, город Киевец на Дунае…
Священное и нерушимое братство народов – русского и украинского – начертано в книгах твоих исторических судеб, милый Киев; нет ближе родства у нас, чем это крестовое братство. От тебя, плодовитый старый диду, пошли русские города, по слову летописца. Ты, как семена, разбросал их по Руси, но первым поднял твою славу русский новгородский хозяин Владимир… Слишком пять веков звенит на твоих холмах цветистая украинская речь, как звенит она нынче, но по-русски перекликались грозные ватажки былинных удальцов, погуливая по твоим раздольям, а среди них – Микула да Вольга, Колыван и Дунай Ивановичи. Где-то здесь, на дремучей возвышенности, возлежал ужасный исполин Святогор и стоял перед ним оберегатель русской земли Илья Муромец, готовясь на новые, сверхгеракловы подвиги. Ты есть родина знаменитых сказов о нечеловеческих мужестве и молодечестве славянских, Киев, – ты есть живая летопись прошлых деяний наших.
Деды да бабки наши – и мы, внуки, с ними! – с непокрытой головой, пешком, босые, с коркой хлеба в крестьянской суме, изовсюду – из Сибири, от студёных морей, хаживали на поклоненье к твоим историческим святыням. Каждый камень твой дорог сердцу нашему, как замшелый кирпич московского Кремля. Много тянулось к тебе жадных рук, много их потлело, отрубленных, под ковылями твоих привольных степей.
И вот снова, простреленный, порубанный, горишь ты, как свеча, знаменуя пору скорби и величайшее наше испытанье. Ветер несёт до Москвы твой священный и горький пепел; он ест глаза, и слёзы выступают на глазах патриотов.
Но не горюй, добрый диду! Оглянись на бессчётные молодые рати, гневно проходящие среди твоих пепелищ. Скоро-скоро они залечат твои раны, снова окружат тебя хороводами весёлых садов, и прежняя, воскрешённая слава зелёного изумруда Советской Украины вернётся к тебе.
Ты ещё увидишь, как праправнуки старого казака Ильи Муромца одолят и повалят наземь фашистское чугунное Идолище Поганое. И когда рухнет оно на колени, рассыпаясь на куски, пусть баяны наши прибавят к киевскому циклу былин – новые, про советских богатырей, что прорубали дорогу нашей славе на запад, головой касаясь серого предзимнего неба.
8 ноября 1943 г.








