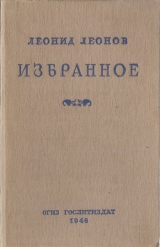
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Леонов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 45 страниц)
– …с самого себя требуешь, дубина! Твоё же, детей твоих… – увещевал неотступного возницу Увадьев, успевший прославиться скупостью.
– На дитёв у меня хватит, я мужик справный, на всё горазд, ничто у меня из рук не валится! – непонятливо усмехался Брягин, помахивая кнутовищем. – А ежели мне собственное дитё в бутылке откажет, не дитё оно мне, а хуже мачехи!
Локомобиль стоял на катках, весь в грязи и масле; похоже было, что он испытывал смущенье перед такою глухоманью. Мужики, приехавшие на базар в Макариху, ходили вокруг, испытующе постукивали в его заклёпанную грудь, дивились с восхищением и угрозой.
– Э, трубок-то что! – не сдержался один, зевая единственно от чувств, охвативших его; дразнили мужиковский глаз и сами просились в самогонный аппарат двухмётровые смазочные трубки, опоясавшие стальное тулово локомобиля. – Ишь, гляди, лёг к стопам и не дышит.
– Втора революция случится, и придётся его вновь развинчивать – грыжу на ём наживёшь! – прибавил другой, тоже не без восторга.
Увадьев так и подскочил к нему:
– Ты что тут болтаешь, мухолов?
– Не пужай, заикаться стану, – шутил тот, но пятился от увадьевского взгляда и уже, наверно, каялся в ненарочном признаньи. – Мы тут никто, мы постороннее лицо, мы токмо жители.
На другой день издан был приказ о воспрещении базаров в Макарихе, а Увадьев уже сбирался окружить забором построечное место, все сто десятин, но одумался и лишь выставил новых сторожей с дубинами. Походило, будто ждут войны: так умножалась армия на Соти. Приезжали механики, фельдшера, электротехники, приехал, наконец, Бураго, и однажды, когда приспело строить сучильную камеру, корявая баба привезла со станции иностранного инженера; всю дорогу он дико взирал из подводы на зыбучую хлябь этой небывалой трущобы. Иностранец думал, что Россия самая непонятная страна из всех, где ему приводилось устанавливать сушильные камеры. С представлением о скудости и нищете не вязались никак эти сто десятин, по которым дорогу в века прокладывала себе эпоха; привычному страху перед дикостью страны противоречил облик этой самой бабы, которая всю дорогу укрывала домотканым половичком его сверкающие, апельсинного цвета, краги. Перед яминой, куда нырнуть телеге, баба оборачивалась и кротко говорила: «Держись, милай!» – Он скоро научился понимать русскую речь…
Всё же, приехав на место, он достал резиновый таз и вытерся одеколоном, невзирая на хозяйского мальчишку, который глазами и носом суеверно впитывал его с полатей. Потом, не стерпев тараканьей духоты, он вышел на крыльцо за свежим воздухом, и тут-то выпал ему приятный случай познакомиться со знаменитым Фаддеем. Отработав положенное за день, зверствовал как раз Акишин в помянутой отрасли… В этот день моросило с утра, и до вечера отражались в Соти щипаные какие-то, железного цвета, облака, а к вечеру повеселело, лист зазвенел в ветре, и солнце высунулось на часок из-за облачной закраины.
– Verynice – сказал иностранец, улыбаясь на Фаддея, который бережно, как кружево к невесте, прилаживал резьбу к карнизу своего строеньица.
– Чего-с? – приветливо оживился Фаддей, выбирая гвозди изо рта. – Вот, место украшаю… оно бани главней, а без бани и домовой жить в избе не станет. Тут, извиняюсь за нескромность, сидит человек и думает, воспоминает своё естество. И должно ему тут вольготно быть, тогда и мысль к нему лёгкая приходит. А конфузу в том нет: живое – рази ж оно стыдное?
– Oh, yes, – повторил иностранец, прислушиваясь к таинственному и скороговорчатому щебетанию туземца.
А тот всё распространялся, радуясь, что нашёл, наконец, молчаливого задушевного собеседника, с которым говори хоть целый век!
– …и это я своим опытом дошёл, что дух тот должен быть сухой, смолистый, древяный. У вас в городе поди, и древо-те камнем пахнет, а в камне сердца нет. Душа не может в камне жить, нет ей там прислонища. И как мне досталось понять ноне, душа, милый, навсегда уходит из мира, а ейное место заступает разум. Она, бывалча, не смотрит, как бы ускользнуть, вся так и ходит в царапинах, а новый хозяин – он не применяется. Опять же религия с другого конца, – извиняюсь за нескромность, – чище рубанка её стругает: не души, а брусья в нас стали, милый вы мой заграничный господин! Знавал я в стары годы хлюста одного, с усиками: душа, говорит, мешает итти в шаг прогрессу нашего времени. Оттого, дескать, к северу и лежит Бело море, а с юга Чёрненько, а посередь болтается серая мужицкая лужа. Умный, слов нет, и никто с ним говорить не смеет… и мы непрочь, а только боязно: моряна-то, котора внутри-то нас… она цветы жжёт, видите ли что! Хитро больно устроено… – Он доверчиво подался вперёд, и борода его обжигающе защекотала ухо иностранца: – Солнце, к примеру, ровно овца… утром выгони, к вечеру само прибежит. А рази я, скажем, Фаддей, гожусь ему в пастухи… какая вещь! Омману, боязно…
Вдруг он оборвал, накинул картуз и побежал к прерванной работе. Стороной шёл Бураго, главный инженер; он ежедневно обходил так, дозором, это обширное поле будущих битв. Был то некрупный, но широкий и заметный человек с круто откинутым лбом, над которым дымилась грязноватая проседь; глаза, даже не родня друг другу, сидели совсем по-разному в подбровных ямках: левому дано было повергать в страх, а правый в то же время смешливо щурился и пропадал под мясистым веком… Инженер уже скрылся, а фаддеев молоток всё ещё твердил что-то суетливо о полной его, фаддеевой, благонадёжности. Разочек покосился старик и на иностранца, чтоб не выдавал душевного секрета, но тот уже уходил… Кажется, он совсем отказывался понимать смысл и судьбы этой пространной географической нелепости, в которой уживались и треск социального половодья и мудрая, проницательная тишина. На крыше двухэтажного дома стучала вторая смена плотников, крепя стропила; отрывисто сверкали в закате их неторопливые топоры. Где-то, как бы за спиной, пел на высоких грустных нотах девичий хор, а впереди подымались нешелохнутые, тонкие туманцы; пахло свежей земляной раной, об ней и песня… Лишь утром он увидел, как непостоянна эта российская тишина.
Ещё только вылезало солнце, закутанное в оранжевую дымку последнего заморозка, а всё уже было в движении. В начатом котловане, видные лишь до пояса, возились землекопы, и лёгкий пар исходил от мокрых спин. Справа, где плотники сплачивали кровли над бетоньерками, неслась звенящая дробь топоров вперемежку с тяжёлым дыхом локомобиля. Крича и обвившись верёвками, семеро устанавливали телеграфный столб, а четверо других тащили огромную катушку с ниткой, которая должна была отныне связать Соть со всем остальным миром. Двое отчаянных, наверно, маляры, покачивались на расчищенных елях, привязывая антенну, и один закуривал, чудом держась над бездной. Бегали десятники, производя разбивку зданий; везли кипятильный бак, и рябой мужик, идя сбоку лошади, приговаривал: вези, мать, вези, и тебя чайком попоят!.. Там, где сверкала утренняя вода, босой парень с небрежной и крикливой удалью переезжал реку, стоя на одном бревне. Во всём была устремлённость к одной какой-то цели, и даже шестилетняя девчоночка, которой поручили няньчить младшую сестру, не разбивала целостности впечатления. Младшая норовила ухватить гуся за шею, но убегал гусь, а старшая догоняла и тащила сестру назад.
– Не бяжи, баба, не бяжи… Чего за облаками гоняешься!
И правда, в том усиливающемся солнечном ливне и гусь слепил, как облако.
II
Стояло шершавое дерево на взъезде; чёрные спутанные ветви его суматошно тянулись вверх. Ещё неделю назад никто из новосельцев не знал его породы, и вдруг все увидели, что это черёмуха… Весна трудилась и по ночам; не валялось и щепочки, на которой не отпечатлелось бы её могучее волшебство. Весна ускоряла разбег Сотьстроя, а с приездом Потёмкина работы новый получали разгон; тут и потребовалось место, занятое Макарихой. Отчуждение земель требовалось произвести до начала весеннего сева, так как в намеченные сто десятин входили и крестьянские поля. Федот Красильников собственнолично видел в конторе архитектурный проект, нарисованный как бы с облаков: скиту там не оставалось места, а на макарихинском берегу вдоволь наворочено было корпусов и даже подобия башен, а из башен вился как бы серный дымок. Чертёж, разумеется, не пахнул, а запах происходил от спички, которую закурил случившийся гидротехник, но в память Федотову он успел пророчески впитаться… Оный Федот, потомок старого сплавного роду, от века владевшего сыроварнями да лесосеками на Кажуге, волновался за скит не меньше самих скитчан. Кроме обстоятельств душевного свойства, имелись тому особые причины: был он младшим братом слепого Азы, который при пострижении не отказывался в Федотову пользу от наследственных прав. Вряд ли в канун могилы потянулся бы тот за братним добром, но и самая возможность появления сего полумертвеца в дому устрашала Федота. Сомнительно было, вдобавок, чтобы при переносе деревни Увадьев согласился на перенос и его двухэтажного, с каменным низом двора, ставленного прадедом на вечные времена.
Лукинич, связанный свойством и призванный на совещанье, уверял, что Увадьев не станет ссориться с мужиками из-за пустяков:
– На чьи деньги строить-то!.. мы его на копеечке ровно на верёвочке содержим.
Федот недоверчиво скалил жёлтые крупные, как бивни, зубы и мигал Василью, инвалиду войны и единственному сыну. Втайне знал он обходительную лукиничеву повадку, а по мужицкой прозорливости догадывался и ещё кое о чём, но не подавал виду, чтоб не лишаться последней помощи. В молодости на Кажуге, куда заводила его кроме наживы, и охотницкая забава, прыгнула как-то с дерева раненая рысь на Федота и напрочь сцарапнула ухо; то случилось годов тридцать назад, но прыжок этот помнил Федот крепко, и, когда встречал Лукинича, невольно тянулась рука пощупать ушной лохматок, прикрытый степенной сединою. Не полагаясь, однако, на одну уловку председателя, не ленился действовать Федот и за свой риск.
Всякий раз, когда бывала ему нужда зайти к соседу заводил он речь о тех недоуменьях, которыми с зимы наполнилась Соть. Навестил он и Николая Кузёмкина, что живёт как праведник на отлёте, окружённый пятью безнадёжными невестами; побывал у Гаврилы Савина, незадачливого плотника, который сколько раз ни ходил в жизнь с голыми руками, всегда возвращался с пустыми карманами; напоследок забрёл по случайной оказии и к Проньке Милованову, гармонному лекарю и секретарю деревенской ячейки, жившему в новорубленном доме у леска. Пронька приклёпывал медный ладок к гармони и поминутно, постучав зубильцем, пробовал его на звук, который получался голый какой-то, цыплячий и смешной. Федот поискал образов и, не найдя, остался в шапке.
– Богов не содержишь?
– Обхожусь.
Федот усмехнулся:
– Ишь, как ни зайдёшь к тебе, всё ры да ры! – и присел на ящик позади себя.
Пронька на мгновенье поднял взор:
– Ты, отец, не садись туда: это инкубатор. Наделаешь нам задохликов да и штаны пожжёшь.
– Хо, – подивился Федот, оставаясь стоять, – естеству насильство. Кака ж у тебя птица-т машинная вылупится. У ней, думается, и мясо те железом отдавать станет. Все затеи у вас с Савиным: то цветы, то цыплята, зря карасин тратишь. – Он помолчал. – Хорошая гармонь, чья такая?
– Моя. Хорошая, так купи!
– Куды мне, я старик.
– Всё деньги копишь да в крыночку кладёшь, – засмеялся Пронька, вспомнив, как в прошлом году принёс Федот в налог полтораста новеньких полтинников. – Смотри, сгниют они у тебя!
– Ничего, сухая у меня крыночка, сухая. Может, двести коров у меня в крыночке сидит, а поди, выкуси! – поддразнил Федот, а из бороды его просунулись зубы. – Про чудеса-то слышал? Пустынь желают разъять, а на ейном месте фабрика для бумаги.
– А ты поговори в конторе, может, и отступятся!
– Поговорил бы, да мужику ноне внимания нет.
– Мужик мужику рознь! – Солнце упало на колени Проньке, и пискучий ладок засверкал в нём. – Зачем прикатился-то?
Федот исподлобья окинул стены:
– Да, как это ноне говорится, связь установить. Катька-то цветы, что ль, всё содит?.. – Так звали пронькину сестру. – Василий хотел к тебе зайти.
– Не сватайся, отец, не выйдет.
– Куды нам в советску родню лезть!
– Да, уж тут и крыночка заветная не поможет…
Вражда началась ещё раньше: неспокойная кровь текла в жилах миловановского рода. Со временем смирнела родовая немирность, и Пронька собственно только тем и раздражал односельчан, что, связавшись с опытной селекционной станцией, то ячменей да клеверов заморских насеет на полосе совместно с Савиным, то цветов разведёт полон полисадник. Василий, заползая в пронькин дом по праздникам, всякий раз засовывал в цветок свой поганый изжёванный окурок. Он и вообще вёл себя непристойно в отношениях на деревне; первое время Пронька терпел дружескую напасть, а потом случилось, за ухо выволок его из дому и при людях показал ему кулак размером чуть помене годовалого кочна.
– Этим кулаком, Вася, я раз, по военному делу, человека с коня ссадил. Не затевай ссоры, а живи, как тебе положено…
Обиженный Василий тоскливо смеялся, сидя в дорожной пыли и теребя порвавшийся на деревянной ляжке-ремешок. Война не удалась, зато и окурки перестали из цветов рость. Кстати, вымокли в этот год хвалёные пронькины ячменя, и деревня была удовлетворена в своей первобытной жажде мести и равенства. Василий снова заходил к Миловановым, и те не гнали, потому что страшно иметь врага в деревне. Так тянулась эта насильственная дружба; выгоднее было Проньке держать врага своего перед глазами, под рукой. Но Василий не забыл обидного слова про калечину, в которой, к слову сказать, был неповинен. В своё время, объятый горячкой тщеславия, Федот настоял, чтоб и Василий добыл военной славы красильниковскому роду. Год спустя, выехав по письму на станцию, Федот долго с померкшим лицом вдыхал удушливый карболковый запах, исходивший от сына. «Вишь, укоротили малость, – сказал Василий. – За что ж меня так?» – «Как за что? – растерялся Красильников. – За веру, за престол, за государя-императора…» Он не договорил; сын рванулся, точно хотел по лицу отца ударить, но не дотянулся и упал. «Ничего, прошло, – сказал он через полминутки. – Теперь подсадите меня в подводу тятенька». Федот молча поднял его, и они поехали продолжать жизнь.
Вместе с приятелями, всяким людским отребьем, льстившимся на дармовое угощенье, пробовал он пить, – здоровая красильниковская кровь не принимала алкоголя. Такому жениться на Миловановой – значило бы восстановить утраченное к самому себе уваженье. Ради неё он пошёл бы на любое, но рослая, простодушная Катя не замечала его любовной суеты. Из деревенских невест одна лишь старшая кузёмкинская вековуха была ласковой к нему. «Чего мне в ней, она всегда моя…» – шепнул он отцу, который советовал брать хотя бы это пересохшее явление природы. Не помогали ни угрозы, ни золотые серёжки, которые Василий на всякий случай таскал в кармане, ничего ему не оставалось, кроме как одинокая пастуховская любовь. Весь род шёл насмарку, и в таком-то обороте нужно было отвоевать место себе на новой Соти…
Война началась однажды на маслянице. У Проньки сидели гости, Кузёмкин с Савиным, и все одинаково ели гречневые блины, и всем одинаково резали шею тугие ворота рубах. Кузёмкин позёвывал, а Савин внимал военным пронькиным историям, и на лоб его поминутно всползала взволнованная бровь. В этот вечер впервые стреляли в пронькино окно и, не потянись Кузёмкин за маслом, хоронили бы его в среду красным обрядом, под гармонь. Пуля ударилась в печку и, отскочив, пробила новёхонький баян, который принесли ему чинить.
– Эх, придётся заплатки ставить, – громко сказал Пронька, раздвигая онемелые меха; из дырки такой же, как из окна, выдувал острый холодок.
Он стал внимательней присматриваться к Василию, а тот, узнав о злодействе, принял участие и даже советовал написать в газету, после чего виновника непременно засадят на казённые хлеба.
Пронька притворно качал головою:
– Да как его найти-то, злодея?
– Через посредство собаки унюхают, – настаивал Василий, лаская взглядом широкие пронькины плечи. – Сейчас они, скажем, дают собаке пулю понюхать, и собака моментально бежит, а за нею сыщики едут на велосипедах. Ныне такие есть, если не врут: левой лапой за воротник злыдня придерживат, а правой протокол пишет, во!
Тот перемолчал васькино издевательство, а весной стал уже откровенней проявлять свою вредность. На перевыборах он горячо высказывался против Лукинича, выставляя доводом родство с Красильниковыми и его неопределённое лакейское прошлое. Вместе с тем сам он от власти отказался, а за голяками в то время не пошла бы волость: Лукинич прошёл единогласно, и даже Кузёмкин голосовал за Сороковетова, в надежде породниться с ним через такую услугу. Лукинич, однако, медлил с женитьбой, а не чёсаные кузёмкинские дылды так и пребывали в своё целомудрии. В первый же месяц своего владычества столкнулся новый председатель с Пронькой при распределении семенной ссуды. Ни Красильниковы, ни Мокроносовы и не нуждались в ней вовсе, но самое лишение обидело их и обозлило. И когда возвращался Пронька из Шонохи, стреляли в него вторично, и опять охранила его удача. Соскочившему с телеги в лес Проньке недолго пришлось искать приятеля; он стоял тут же, среди трёх голых пней, сам как пень горелый; обрез его валял тут же, уткнувшись дулом в снег. Пронька весело приблизился к инвалиду и притянул руку, но не ударил, а лишь вскинул вверх за подбородок окаменевшее васильево лицо:
– Паляешь, так уж попадай! А то собаке и понюхать будет нечего…
С того и наступила открытая борьба за преобладание в округе, и первый бой произошёл как раз на сходе, где одновременно с участью Макарихи решилась и горькая судьбина скита. Сбирались на сельской площади, где каждую осень, в летопроводца Семёна день, съезжали великие базары; высокий и тёмный дом Красильникова стоял на ней сундуком, и в нём сосредоточилось всё прошлое не только села, а, может быть, и всего уезда. По местному обычаю, мужики пристраивались на корточки, курили почтенную махру и поплёвывали вокруг себя; к концу сходов, когда подходило решенье спорных вопросов, подобие колец бывало наплёвано вокруг них, в которых и отсиживались, как в крепостях. Все испытующе глазели в пустое красильниковское окно, прищуренное накось занавеской, но там словно вымерли. Зато ржавый стон исходил от дома; дуновения вечерней реки качали железный фонарь, повешенный на глаголе, и ветхую вывеску, пробуравленную непогодой; на ней было проставлено – Шышкин и нарисовано колесо. Лука, живая память Макарихи, помнил день, когда набивал её к косяку сам кузнец, сбежавший потом в чёрное имя Филофея. Переводя взор на сотьстроевские бараки да прислушавшись к железным стенаньям Шишкина, Лука понял вдруг, что уж не стоять впредь красильниковскому дому на горнем месте, где прокрасовался три четверти века.
– Стоит дом на горы и глядит в тарары… – вздохнул он и сделал первый плевок.
Мужики зашумели; со стороны подходили Увадьев с Потёмкиным, которого никто ещё не знал в лицо. Записанный говорить первым, Потёмкин быстро взбежал на трибуну; Увадьев поотстал, – жидковатый настил ступенек прогибался под ним. Точно в огневой лихорадке, Потёмкин зорко окинул собрание; ему понравилось подвижное лицо Николая Кузёмкина, и на нём он сосредоточил весь жар речи. Она началась с улыбки; выгоды соседства с Сотьстроем представлялись столь ясными, что бессмысленно было растолковывать их… Он даже сократил своё слово наполовину для придания ему деловитой крепости и прежде всего поздравил мужиков с честью быть свидетелями и участниками новой победы социалистического отечества. Увадьев, к которому перешло потом слово, не преминул подробнее остановиться на преимуществах, о которых туманно намекал Потёмкин. Кроме близости культурного очага, волость получала электрификацию, постоянную медицинскую помощь, школы фабзавуча и непрерывную работу на предприятиях комбината, этой столбовой дороги во всепролетарскую семью. Кроме того, по договору, который уже с месяц лежал в губземуправлении, крестьяне получали готовую деревню в четырёх верстах от нынешнего места, школу и клуб, и, наконец, среднюю стоимость урожая по данной полосе; рытьё колодцев шло за счёт переселяемых. Он кончил и, перечислив напоследок ряд лесных и налоговых льгот, неуклюже прокричал «ура» первому на Соти кирпичу социалистической кладки.
– Аминь! – неожиданно вскричал Кузёмкин, и смешливый ропот мужиков одобрил кузёмкинскую дерзость. – А ты птичкам воздух подари, а рыбам водичку: то-то милости твоей возрадуются.
Эта явная измена Кузёмкина заставила всех насторожиться: вместе с тем ни от кого не было секретом, что переселение всё равно состоится, потому что уже и лес везли на новую Макариху, и оттого все следили лишь за выполнением установленных правил игры. Видимо, лишь для усложнения забавы и по сговору с сотинской знатью и выступил тогда Лукинич.
– Эй, не шумите тама, окажите почёт хозяину! – Он шутливо набросился на Кузёмкина: – Ты чего ж, таракан, рот-те, как гашник, раззял?
Игра началась, и мужики оживились. Кузёмкин однако, отказался от чести вступить на трибуну, куда его настойчиво зазывал Лукинич. Был он вертляв от какой-то душевной чесотки и имел вдобавок такую видимость, точно в детстве наступили ему на лицо.
– У меня не гашник, а крестьянский рот! – важно сказал он, и самые скулы его зашевелились. – И когда он говорит, обязан ты, приказчик, слушать. А что же он говорит, крестьянский рот? – Он вздохнул, набирая силы, и украдкой взглянул в красильниковское окно. – А то, что надо бы раньше с мужиками посоветоваться, чем руку на Макариху заносить. А может, нам с этого места и сойти невозможно? Может, мы тут корешок имеем и всякий пёнышек нам брата милей? Опять же пизаж! – Он произнёс стыдливым шопотом это полузнакомое слово и с тоской взглянул в пустое, совсем пустое хозяйское окно, откуда он черпал слова и силу. – Эва, здесь-то ровно небо разлилось, легчае нет ничего взору моему, а оттель какой вид? Сосна, да на сосне сорока качается… и, положим, день я на неё гляжу – качается, два гляжу – качается, а на третий и придёт мне мысль, а с чего же она, братцы, качается? И напьюсь я тоды, милые вы мои граждане, от одной мысли… и выйдем мы все алкоголики своего быту. Не, нам то место не житейско. Опять же до черквы станет пять вёрст. Да тут, пока свадьбу нонешню довезёшь, и жених-то сбежит!
– А ты женишка-то на лычку да к дышлу!
– Не порть молебну, Николаха.
– Эй, брось болтать, дело общественное…
Ячейка переглядывалась, а Кузёмкин не унимался. В окне блеснуло что-то медное, точно самовар, либо огромную копейку пронесли, и в ноги крикуна новое влилось воодушевление. Рот его надувался и лопался, как пузырь, а в толпу летели злые, плодущие брызги, которые немедля прорастали в рыхлый людской чернозём.
– …извиняюсь, никто в цельном мире не может мне мой крестьянский рот заткнуть. Я и сам общественну работу вёл, два года в исполкоме конверты клеил и потому имею вопрос. Какой ещё ты нам храм заместо скита воздвигнешь?.. сколько ещё отступного дашь? Ты, как во власть всходил, сапожки мне обещал, а я посель в лапотках крохи мои промышляю. Эй, может, гидра сапожки мои износила?.. и ещё ты нас попрекнул, что пришлых дерём. Мы теперя сами навыкли яичку есть: её сварить надо, а потом с сольцой, с сольцой её, окаянную. Погодите, мы ещё, гляди, окошки заколотим да к вам в Москву пойдём: кормите, скажем, нас, богатеньки братцы…
– Правильно, мужик вдосталь станет есть – злаку на земле не останется! – пригрозил самый ближний, чертя палочкой по земле какие-то свои чертежи.
– Эй, Кузёмкин, – досадливо закричали другие, – не там лижешь! Здесь на гривенник больше дают… Дарма себя Федоту продал.
Кузёмкин устало скалил зубы, и пот лил с его висков, точно из дырочек. Ветер услужливо доносил его речи в пустое окно, где появился, вот, и сам хозяин. Увадьев посмотрел туда и мигом смекнул обстановку; ещё прежде чем предупредил его Пронька, он уже знал, что истинное настроение мужиков непременно скажется при голосовании. Со дня прибытия городских людей поколебалось не только древлее благочестие, но и самая земля под ногами у сотинцев; немногочисленная советская горстка получала подкрепление, стали случаться неописуемые вещи: то внезапный комсомолец иконы на дрова порубил, то тишайшая Зина Чеплакова так себе лик напудрила, что хоть картошку садить. Жаловались и на то, что старые песни, степенные, как сама здешняя природа, извелись, а в новых только и пенья, что про машины, которых ещё нету.
– Ты слышишь, что он говорит? – тревожно шепнул Увадьеву Потёмкин, косясь на Лукинича, который поглаживал свои усы и не впутывался в драку. – Они теперь так голоснут, что и глаз девать станет некуда!
– Ладно, не наводи паники, – отстранил его Увадьев и продолжал слушать Проньку, – слушай его, он дело говорит.
Только тут разъяснилась причина увадьевского спокойствия. Со стороны бараков всё новые подходили кучки строителей и тотчас размешивались с мужиками; скоро сход почти утроился, и тем, которые сидели, пришлось встать. Лукинич волновался, мужики зловеще шептались, не смея гнать этой враждебной армии: были то всё расейские Федосеи да Иваны, такая же потомственная лаптеносная голь. Вдруг стало ясно, что Увадьев перекроет всех Федотовых козырей, и тогда в бабьей гуще схода обнаружилось странное движение, точно кто-то, мальчик или собака, незримо бегал по рядам и сеял раздорное семя.
– …там, в толпе, выходи! – звеняще крикнул Увадьев, и толпа расступилась, а Потёмкину показалось, что человек стоит на коленях: он впервые видел Василия Красильникова.
Тот приближался, задевая за подолы баб и одержимый своим убогим демоном. По дороге ему попалось длинное толстое бревно, и все с любопытством ждали полезет ли он через него на карачках, перескочит ли; не в силах одолеть препятствие, Василий остановился там и стоял с закрытыми глазами. Должно быть, он терялся, кого ему ненавидеть более: Увадьева ли, смотревшего в небо недобрым совиным взором, бревно ли, лишний раз подчеркнувшее его убожество. Ему хотелось плакать, но вот дрожащий и щекотный пополз в тишине звук: инвалид смеялся.
– Дожили, а?.. со свиней, с кур, с собак, с блох наших дерут… да ещё попрекают! – проквохтал он, и кожаная куртка его скрипела, как промороженная. – Зачем было людей созывать, мы к приказанию привыкли. Тыщу лет нам приказывали, Расею приказали соорудить – эку махину наковыряли… И ты не тяни, а прикажи, и думать нас не понуждай, не обижай напрасно! – Он качнулся и сдёрнул картуз, обращаясь ко всему миру; под картузом обнаружилась тугая, расфиксатуаренная причёска, и ближние к нему потянули носом: похоже стало, точно незримо возвратясь из прошлого, возлегли поперёк Макарихи огромные пахучие исправничьи усы. Трясущейся рукой он достал из кармана перламутровую спичечницу и с достоинством закурил. Вдруг вместе с дымом и кашлем вырвалось из него бешеное слово: – Кто, кто теперь судьбу нашу станет решать, они? – Он яростно толкнул в колено ближнего черемисина из артели владимирцев, и удивлённо поднял брови. – Мы тут от века живём, папаньку рысь ела, николахину мамку, беременну, медведь запорол, а они какие тут жители? Они огни бродячие…
– Я везде житель, я плотник, – чуть обиженно отвечал черемисин, не отводя глаз от пахучего темени инвалида.
– …ты! Ты не житель, ты вонь… вот как шкуры квасят, вонь идёт. Ты пискульник, что в прибороздках растёт. Я вот дуну в тебя – легчай пёрышка взлетишь!
– О дунь, пажалста! – с ленивым восхищеньем просил черемисин и даже присел на корточки, чтоб не особенно утруждать Василья.
Он был, как дерево, полное весёлых и тенистых листьев; ему невдомёк была инвалидная горечь. Он искренно поверил в могущество человека с такой духовитой причёской, и в лице его отразилось искреннее сожаление, когда тот постыдно бежал со схода. Презирая побеждённых, деревня проводила его свистом и хохотом; кто-то пронзительно мяукал, кто-то смешливо советовал отправить к скотьему доктору красильниковских овец для тайного обследования. Так, в обстановке шуток и весёлого препирательства, Увадьев приступал к голосованию.
Стоял вечер – не вечер, когда луна уже лик кажет, а солнце ещё не тухнет на краю земли. Оранжевое пламя зари проникало всё; в деревьях, верилось, текли оранжевые соки; чёрные руки, поднятые за снос скита, пылали тем же оранжевым светом, и даже мычанье коровы, отставшей от стада, представлялось тягучим и оранжевым. Совершенную тишину, пока Пронька считал голоса, пробуравил жук и застрял где-то в липкой оранжевой мякоти. За это время случилось только одно происшествие: увадьевский картуз упал с перилец, и Кузёмкин, давно томившийся неопределённостью, бросился его поднимать, но не поднял, стыдно стало, а кинул на прежнее место:
– Врёшь, ляжи тута! – и с отчаянием погрозился картузу.
Глубже вдавливались тени вещей, цвета таинственно менялись; рождалась неосязаемая голубизна, – она густилась, плотнела, и мнилось – её можно было скоблить отовсюду и, как синьку, растворять в воде.
– …сто восемьдесят семь… восемь… девять. Эй, не стесняйся, товарищ! Двести один, два…
– Да нечего уж, единогласно, – нетерпеливо вставил Лукинич.
– Не спеши, друг, я и сам по баньке соскучился!.. – Был субботний, банный день. – Двести одиннадцать, двенадцать…
Мальчишки с гиканьем прогнали коней в ночное. С реки дохнула ночь. Перепел где-то за околицей начал перепиливать своё скрипучее полено. И, ещё прежде чем босая нога Кузёмкина ощутила росу, участь скита была решена: скитское место предоставлялось под лесозавод, имеющий быть воздвигнутым в ближайшие три года. Монахам давалась свобода итти в любую сторону или гибнуть любою гибелью, а самые строения кто-то предложил даже запалить с четырёх сторон, что было отвергнуто лишь из опасения лесного пожара. Уже разошлись, бабы разогнали телят по клетям, а Увадьев с Пронькой всё ещё писали протокол. Вдруг рука просунулась к ним сквозь перила.
– Картузик-то, – молвил знакомый голос. – Вот он, картузик-то!
Молча приняв услугу, Увадьев крупным шагом пустился домой; Кузёмкин бесшумно бежал возле.
– Эх, ноне иного за рупь укупишь, дешёвое ноне стало людьё! – навязчивым говорком лез он в мысль Увадьеву. – А за иного и рупь жалко, меня, к примеру. Каждый день разов семь помираю, а всё смерти нет… А ведь когда сыт, на меня и смотреть зазорно: валяюсь, и даже пёс понюхать меня гребует…
– Ну, чего ты пристал! Я тебя не бью, не попрекаю: беги туда, может, и выгадаешь, – сказал Увадьев, замедляя шаг.








