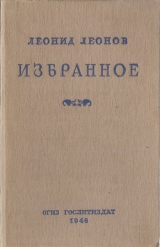
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Леонов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 45 страниц)
– Мама, что такое бог? – заикнулась она вечером за общим столом.
Родители переглянулись.
– Кто обучил тебя этому слову? – строго спросила мать.
Она показала матери записку, и тогда получился крикливый, смехотворный скандал… В этой семье, поставленной на естественно-научных основах, всякий вёл себя так, как ему потребно было для физического здоровья. Было, значит, вредное в том, что так тщательно скрывали от Сузанны; нужно, значит, было произносить некоторые слова шепотком, когда говорилось о рабочих. Девочка пристальнее вглядывалась в заводскую жизнь со своего благополучного берега, на котором не обо что было измарать её беленькое платьице. Она не успела подвести итоги своим наблюденьям; вскоре Ренне перекочевали в город, на старую квартиру. Потекла гимназическая юность; в скрипучем и скользком паркете восемь лет бесстрастно отражались классические истуканы, но вдруг пришли солдаты и стали сушить на них мокрые, порою кровавые портянки. Подуло необычным ветром, и Сузанне однажды опротивело нарядное благочиние отцовской квартиры, горничные в крахмальных наколках и мебель, запустившая корни в пыльные углы. Там, на изразцовом камине, стояли в фарфоровой посуде кактусы, любимцы матери; жёлчный, прокуренный свет падал на них из северного окна, но они свыклись и, хотя не давали ростков, не портили тяжеловесного величия кабинета. Сузанна жалела лишь один из них, – это был свечевидный цереус; подъяв бородавчатый палец, он сердито вопрошал свою соседку, индийскую опунцию, стоит ли ему, такому уроду, жить. А та, походившая на небритую щеку тюремщика, и сама давно заблудилась в смыслах бытия. Назаром звала Сузанна этого растительного Гамлета. Не раз ей снилось, как у хмурого сего великана отрастают хилые ножки и ручки; он помахивает ими и всё не смеет спрыгнуть, чтоб бежать без оглядки в свой знойный Гондурас. Помощник Ренне, которого Октябрь вырядил в какой-то защитный френчик, имел привычку дёргать шипы из Назара, которыми рассеянно чистил жёлтые свои ногти; она не любила его и за его неправдоподобное имя Порфирий и за его томные, резиновые вздохи.
– Какое у твоего Порфирия лицо тёмное… точно трупное пятно, – бросила Сузанна отцу в одном совсем излишнем разговоре. – Это потому, что он и сам часть трупа… – Она не объяснила, что имела в виду уже обезглавленную империю, а Ренне понял, что дочери просто надоели тесные рамки семьи.
– Не держу – уходя, захлопни дверь – шубы! – резко дёрнулся он.
Тогда она решилась, и даже не булькнул под ней половодный кипяток эпохи. Утром за чаем ни слова не было сказано о пропавшей Сузанне; созревшему семени всякий ветер попутный. Поезд, набитый искателями хлеба и соли, донёс и её, искательницу воли своей, до мизерного, безыменного полустанка. Здесь как раз проходила зона того очистительного сквозняка, который, вопреки законам, во все стороны света дул из России. Покинув теплушку, она бесцельно пошла по дороге. В тишине чудился как бы подраненный крик, и тот, кто раз услышал его, навсегда сохранял мучительное и радостное беспокойство. Свирепой раскраски закат громоздился впереди, точно где-то, тотчас за горизонтом, неслыханный происходил пожар. В застылом отсвете его, на невспаханных полях, качались бурые стебли пижмы. За бугром циклопической величины родилась деревня. Чёрная тряпка болталась на высоком шесте; грозным этим знаком анархии или чумы мужики защищались от постоя солдат. Она зашла, её напоили молоком, вкус которого она почти забыла, но отказали в ночлеге: тогда не верили никакому человеческому слову. Улыбаясь, она вышла на дорогу, когда жёлтая звезда уже возвещала пришествие ночи. Дорога прямолинейно уводила куда-то в гибель и мечту; до мечты стало ближе, чем до покинутого дома. Здесь догнал её парень в матроске, смуглый, острый и с тугой моряцкой завитушкой на лбу. Он заговорил, она отвечала, он попытался овладеть ею, она пригрозила ему горстью дымного степного праха в глаза. Он не обиделся, а засмеялся; в такой напряжённой дружбе они продолжали путь. Во мраке явились тополя, похожие на закутанных, спешащих в неизвестность женщин. На хуторе светилось окно. Рослый мужик, лицо которого походило на сплошное приспущенное веко, отворил им на стук.
– Тебя искали, Савка, – шепнул он.
– Это моя… – откликнулся тот, пропуская Сузанну.
На хуторе им дали коней, и утром они примчались в одну из банд, которою, как ложкой, эпоха помешивала в кипучем украинском котле. Банда действовала в тылу у белых, но, когда красное командование попыталось прибрать её к рукам, банда круто извернулась и перешла на сторону желтолицего Махно. Всё это была пыль, взметнувшаяся из-под сапог героев. В этом многолюдном таборе, не признававшем никаких истин, кроме отрицающих истину же, Сузанну приняли довольно охотно, и Савка ревниво оберегал её от всяких скоропалительных друзей. Она ещё не имела цели, кроме настойчивого желания отряхнуть с себя вонючую пыль прошлого; пленяло самое время, в котором несбыточные лозунги цвели, как песни, с кровью и дымом вырвавшиеся из сердца. Иногда, сидя за пулемётом в своей тачанке, двигаясь в смертельную беспредельность, она воистину веселилась о гибели проклятого и чем-то дорогого мира… Именно по его руинам, сквозь гам и пыль, грохоча и взвизгивая, летели эти полугуннские колесницы, и призрак иного, жёлтого пращура незримо шествовал над людским потоком. Бывали связаны по две в ряд тачанки; на дощатом дребезжащем настиле плясал под песню какой-нибудь осатанелый казак, готовый и умереть вот тут же, в пляске. От его лихих сапог, памяти об одном зарубленном, оставались только голенища, остальное исплясал, и чёрная мозластая ступня имела свободное соприкосновение с ускользающими подмостками.
– …красотка, родных сапог за любовь твою не пожалею… только голенища и оставлю для теплоты. – Он зазывающе косил в неё черничным зраком, дразня Савку, неотступного хранителя её жизни и целомудрия.
Ей многое грозило: там не расстреливали, а рубили. При ней известный Харлапко, убитый позже на перегоне Бирюч – Полтава, показывал на пленных высокое искусство партизанской рубки. «Людина – вона ж легка, пухната… ни за що поважати людини…» Шипящие буквы ветром свистели сквозь пробоину в зубах. Сузанна зевала, она уже привыкла, но без крови было чище и умней, и Савка вздувшимися от гонки глазами следил за ней со стороны. Сквозь тонкое сукно немецкой голубой шинели он угадывал её нетисканную грудь, конусами устремлённую вперёд, жаждущую впиться в подобную себе мякоть; он ещё помнил украденный в степи поцелуй, и что-то жгло ему чрево, точно туда заскользнула крохотная долька её губ. Пресыщенный разгулом, он не торопил времени, он давал срок созреть событию, и в этом состояла животная мудрость его страсти.
– Ты ж не нашего саду яблок. Ты ж оттуда, куда стреляем… Занятно ж жить на проклятущем энтом шарике: видно, и вошка наша кому-то всласть пошла!.. Слушай, меня даве Галина спрашивала… – так звали подругу желтолицего – …с кем живу. Я сказал – с тобою.
– Иди вон, собака…
С каждым днём её всё более пугало злое савкино великодушье. Он мучил её, оставляя безнаказанными её прихоти, в особенности одну, о которой крепче помнил наверно, тот неведомый человек и враг, которого ей захотелось спасти… В суматохе катастрофического отступления белая батарея забыла его на наблюдательней пункте; по расковырянной дороге, уже перерезанной партизанами, он отступал в одиночку, сквозь подозрительные кустарнички и ночь. Белого своего коня он вёл на поводу, так как установился обычай стрелять чуть выше коня где незримо должен покачиваться всадник. Так он вошёл в разорённое село и, оставив лошадь у крыльца, быстро поднялся вверх, в командирское жилище. Низкая комната была непривычно пуста, по полу валялись ведомости, газеты, ордера – листья с облетевшего дерева; на краешке стола полуаршинным огнём пылал в стеариновой лужице огарок, – через минуту должен был начаться пожар. Шальной от двух бессонных ночей, кусая истрескавшиеся губы, он соображал обстановку: голова была зашита каш бы в кожаный футляр. Снаружи раздался галопный топот; он бросился к окну; в расплывчатый блик окна ворвался часовой и камнем упал в ночь. Село без выстрела занимали партизаны, и вот, в подтвержденье догадки, в комнату вбежала женщина. Он не запомнил цвета её волос, – всё в его глазах было таким же рыжим; он не обратил внимания на занятную горбинку в её лице, – она не становилась к нему в профиль. Опустив руку в карман голубой шинельки, она смотрела на забрызганные грязью сапоги офицера и ждала, может быть, его крика. Трудно было поверить в спасение: собственный его маузер остался в кобуре седла.
– Слушайте, Маруся, – сказал он на всякий случай с волчьей какой-то улыбкой, – проводите меня отсюда. Мне очень не нравится тут…
Она усмехнулась его откровенности. Марусями звали тогда всех женщин, носивших не женскую одежду и деливших боевую участь с мужчинами.
– Иди сам… – и перебирала пальцами в кармане.
Медленно, затылком назад, он спускался по раздирающе скрипучей лестнице и всё ждал, что вот грянет воздух позади, и он, цепляясь шпорами за ступеньки, скользнёт вниз. Но происходило не так; смешная выпадала офицеру судьба. Внизу его встретил фантастический призрак в генеральской шинели, возможный только в такую неправдоподобную ночь; по поясу его в чёрной шелухе сидели гранаты, а папаха, перекроенная из муфты, обнажала страшный, непокорный вихор. Должно быть, Савка сразу понял новую прихоть подруги.
– Везёт тебе, поручик… – и так хлопнул по плечу, что хрустнул новёхонький погон офицера. – Везёт тебе, сукин сын! – повторил он, восхищаясь его судьбой.
Вдвоём они пошли в дикое осеннее поле, начинавшееся тотчас за селом; конь бесшумно ступал за ним, точно понимал, какую игру выигрывает его хозяин. Тут она отпустила его в свободу и ночь. Взволнованный и благодарный, он напоследок нагнулся из седла и, приподняв, поцеловал её в награду. Потом он скакал, ветер тузил его кулаками в грудь, а она, в гневе и обиде, стреляла ему в след…
Разделив с вольницей её расцвет, она частично стала свидетельницей её заката. Её не было в хате, когда Чубенко застрелил Григорьева из веблея, но уже при ней остервенелая громада побивала на сельской площади григорьевского казначея. Она слышала про позор крымского разоружения, и потом судьба заставила её проделать безумный рейд от Сум к Богучару, когда, гонимая Летучим корпусом Нестеровича, вольница таяла на бегу. С ястребиного налёту били бронепоезда, бушевали полярные метели, и кто из них больше наносил ущерба, было в суматохе не определить. Люди замерзали сотнями, за артиллерией пропал обоз, в неделю прошли восемьсот вёрст, и выдержали одиннадцать жестоких боев. Банда гибла и возникала вновь, чтоб гибнуть завтра. Потом был крик среди ночи: «Тикай, бо мы все в паныке…» – Всё схлынуло, как дрянной сон; Сузанна очнулась лишь через год и ко времени прибытия в Москву сохранила в памяти две смешных цифры: 18 мая двадцать первого года постное масло – 260 000, а зернистая, самосадная махра – восемь… чего восемь, она уже не помнила.
Женщине легко было укрыться от преследования; шрам на виске она правдоподобно объясняла падением в детстве. Большому человеку понравилась её мужская смётка; полгода она работала в армии, откуда её и послали доучиваться в Москву. Никто нигде не интересовался её прошлым. Пять лет в лишениях и сырости она прожила на каком-то чердаке, сходя оттуда лишь в институт, на демонстрации да в баню; месяцами она не видела людей, кроме дурака в противоположном окне, который ежедневно, приспустив подтяжки, проделывал гимнастику с папироской в зубах. Встреча с родными произошла лишь по окончании института… Шёл снежок и таял на лету; женщина вела мальчика, который ярко-красной лопаточкой разбивал хрупкое стекло луж; в улицах продавали кавказскую мимозу, пахнувшую нерусской весной. В аптеке висела засаленная телефонная книга. Звонок у двери действовал исправно. Дверь открыла мать в синих очках и рабочем коленкоровом переднике.
Улыбаясь, Сузанна ждала позволения войти.
– А, это ты! – без удивления сказала мать и оглядела её всю, от потёртой кепи до стоптанных, промокших туфель. – Войди… только не наследи, пожалуйста.
Дочь вошла, и мать подчёркнуто ухаживала за ней.
– …давно? – Она придвинула дочери блюдечко с вареньем, знакомое блюдечко с цветочной каёмкой. – Я говорю, давно приехала?
– Уже пять лет.
– Где же была?
– Везде… потом училась. – Варенье было из чёрной смородины, любимой ягоды отца. – Папа жив?.. там не висит его шубы.
– Да, мы продали шубу. Он выйдет, только допишет письмо. Бери сухарик.
– Спасибо, я возьму.
– Вот у меня глаза испортились. Это на тебе красное платьице?
– Нет, чёрное. – Она поискала глазами Назара, но его не было в комнате. – Назар замёрз?
– Нет, его съели мыши. – В голосе матери мелькнула раздражительная нотка, каких не бывало раньше. – Шубу мы обменяли на крупу. Папа ходит в демисезоне… помнишь, с пелеринкой? – Они довели нас до нищеты.
Сузанна поморщилась, едва коснулся её этот затхлый ветерок прошлого, но она вспомнила тот ветхозаветный балахон, который стлали в кухне на полу, когда к кухарке приезжал на побывку сын. Ей стало грустно. Разговор не клеился до самого прихода отца. Филипп Александрович поцеловал Сузанну в лоб не прежде, однако, чем распорядился отправить деловое письмо. Мать, плохо скрывая слепоту, заискала его на столе. Они остались одни.
– Вернулась, – это хорошо, – шамкая, начал отец и тут же разъяснил: – у меня челюсть– надул техник – завтра хоть рельсу грызть. Много трепало?
– Да, я видела кое-что.
– Ерой, – усмехнулся Ренне, и Сузанна поняла, что слово это пришло к отцу вместе с демисезоном. – Кто ты теперь – кассирша?
– Нет, инженер.
– Электрик?.. строитель? Полтораста миллионов не могут построить приличного стойла себе за десять лет… строители! – Эту фразу он произнёс совсем гладко.
– Не будем об этом, – жёстко оборвала дочь. – Я химик. Ищу места.
– Я не могу – сам тоже – не рассчитывай.
– Я и не прошу, – улыбнулась Сузанна.
Раздробленной оконной рамой в комнату вторгался тяжкий закатный сноп; в свете его оранжевой бахромкой лохматился борт отцовского пиджака. Он стал широк ему, этот парадный пиджак; его часто гладили, обшили тесьмой, но и тесьма сносилась; из-за воротника прискорбно торчала вешалка.
– Разреши, я поправлю, – потянулась Сузанна, и тот удивился, но не воспротивился.
– Ты во-время, – успокоенно продолжал отец. – Берут комнату – хочет жилец внизу – на трубе учится – точно на паровозе играет. Вещи тут?
– Я не собираюсь оставаться у тебя.
Ренне смутился и заискал что-то на столе.
– Окна на юг – тепло – отдельный ход. Боюсь – на трубе играет – у меня зубы звенят.
– Я подумаю, – ответила Сузанна, вспомнив сырой чердак и дурака в подтяжках.
Кажется, Филипп Александрович не узнавал дочери: в прежнюю оболочку новое влилось естество. Левый глаз её, точно сведенный тиком, был срезан нижним веком заметно больше правого; тревожил и странным образом привлекал этот полуприщуренный глазок. Ренне покашлял:
– Пей чай. Мы уже обедали.
– Я тоже.
– Хм… замужем?
– Нет.
– Значит, девушка?
– Твой вопрос обижает меня.
Он опять растерялся.
– Э, сама в жизни! Я не то – я хотел – здорова?
– Да.
– Больше не спрашиваю.
– Спасибо.
Дальше разговор пошёл о пустяках. Отец шутлива рассказывал о встрече с Жегловым и при этом как-то бравировал молодостью, точно опасался, что именно дочь, погонит его со службы за старость «Человека нельзя тесёмкой, не пиджак…» – обмолвился он кстати, хотя тут же прибавил, что на одно свершение его ещё хватит, а там – без проволочки на слом, в домну… Сузанна играла ложечкой, не зная, что надо говорить в таком случае, но в эту минуту вернулась мать, молча разделась и прошла на кухню; оба были рады этой внешней причине оборвать невязавшийся разговор.
– Ты ступай – обними – ты женщина, – неловко сказал Ренне, и тотчас через закрытую дверь, несясь откуда-то из преисподней, ворвался глухой трубный рёв. – Играет – это его брат, милиционер – тот протяжней – учится. У них одна труба – по очереди.
Сузанна засучила рукава и пошла помочь матери. Она осталась, и это стало вступлением к катастрофе с другой женщиной.
IV
Второго натальина ребёнка задушила пуповина; когда Жеглов вернулся, акушерка собиралась уходить, а Наталья задичалыми глазами смотрела в потолок. Вскоре приехал муж и вёл себя на этот раз чутко и разумно. Жеглов покинул их, в надежде, что теперь-то всё склеится, он ездил часто в эту пору, и Увадьев неестественно шутил, что тот совсем отобьёт у него жену. Год прошёл в безмолвии и неписанном мире. Постепенно Наталья втянулась в работу, которую ей подыскал Жеглов, – неверная отсрочка несчастья, готового ввергнуться в неблагополучный дом. Близ этого времени Наталья часто встречалась с одной из бывших подруг, мужа которой по профсоюзной линии также перекинули в центр. Полная противоположность Наталье, она была пышна, порывиста, и рябинка давней оспы над бровью придавала ей особую неукрощённую задорность. По старой дружбе, она доверяла Наталье семейные тайны, краснела и тотчас хохотала от преизбытка здоровья и сил.
– Мужики-то… – смешливо призналась она, наклонясь поправить подвязку, – совсем с ума повскакали мужики. Мой-то вчера обиделся: зачем я панталон кружевных не ношу… – Кровь прилила к её запотевшему, лицу, выпуклые глаза сверкали, и вся она обольщала уже одним своим неиссякаемым здоровьем. – Вот и ты! Как у тебя чулки сидят… ровно кожура какая складчатая.
Намёк подруги и надоумил Наталью овладеть мужем с другой стороны. В тот же день она случайно встретила на лестнице Сузанну и обострившимся чутьём женщины, которую бросают, узнала в ней ту самую, кого уже устала ждать. Она понравилась Наталье своей опрятной простотой, разбавленной лёгким пренебрежением к ступенькам, по которым поднималась. Невольно она попыталась подражать, в одежде её появилась тщательность, и Жеглов близоруко подмигивал ей в знак того, что ему-то хорошо известны тайные пружины подобных превращений. Не удавалась, однако, простота, точно не было у ней заслуженного права на это, и тогда благоразумие оставило её. Как-то, приехав в неусловленный день, Жеглов уже не улыбался; виновато поправляя пенсне, он взирал на её обсыпанное пудрой лицо и грубо подрисованные губы, – тяжеловесные орудия любовной досады.
– Вытри, Наташенька… будь умница, вытри, – и сам делал движенья, как бы собираясь помочь ей в этом. – Прямо бутон какой-то!
– Бывают бутоны, – не распускаясь, вянут… – оскорблённо сказала та.
Ей плакать хотелось, но она сдержалась, была раздражительна весь вечер, и Жеглов решил оставить её на время в покое. Мысленно он торопил приход её вольного одиночества, в котором она отыщет себе посильную дорогу. Вдобавок дела сложились так, что целых два месяца он не имел минуты навестить друга. А жизнь с мужем текла под знаком разрыва. Наталья рядилась, на службе посмеивались, а Увадьев недружелюбно наблюдал душевные судороги жены. Уже перестал он носить домой размякшие в карманном тепле шоколадки; обстоятельства понуждали целиком впрячься в потёмкинский хомут, у него краснели глаза, когда он заговаривал о работе. В большинстве это были мелочи и потому втрое требовали усилий. Надо было иметь особую веру, чтоб не упасть на этом первом перегоне, и он имел её, о чём не сознался бы и брату. Где-то там, на сияющем рубеже, под радугами завоёванного будущего, он видел девочку, этот грубый солдат, её звали Катей, ей было не больше десяти. Для неё и для её счастья он шёл на бой и муку, заставляя мучиться всё вокруг себя. Она еще не родилась, но она не могла не притти, так как для неё уже положены были беспримерные в прошлом жертвы. Наталья не знала, она ещё не забыла шоколадок и, решаясь вызвать мужа на разговор, сделал это с бестактностью покидаемой.
– Сколько ей лет?
Он вздрогнул и наморщил лоб.
– Кому?
– Ну, этой, твоей.
Его раздражал напряжённый смех жены; он ответил, только чтобы она перестала смеяться.
– Двадцать шесть, восемь… я не знаю. – Вдруг он вскочил и цепко схватил её за руки. «Чего ты ждёшь от меня? Освободи меня сама, сама…» – хотел он сказать, но принюхался и от удивления потерял мысль намёка. – Что это?
– Это… духи.
– Нет, чем это пахнет?
– Они называются… называются испанская кожа.
Увадьев упёрся взглядом себе в ладонь:
– Да, я раз в барской усадьбе ночевал, на продразвёрстке. Вместительный такой, двухспальный, лоснился… диван. Помнится, диван пахнул так же!
До неё не дошло предостереженье. Решаясь на последнее, она умножила заботы и радовалась, что не едет старый друг. Короткие платья подчёркивали детскую нескладность фигуры. Непосвящённая в магию косметических превращений, она продолжала уродовать себя, и лишь глаза выдавали её великий испуг. Нищая барыня, сожительница Варвары, всучила ей кольцо с толстым камнем, похожим на плевок. Маникюрша обучала ее таинствам высшего света; муж её, парикмахер, также принял участие в заметавшейся женщине. Кроме живых, ему доводилось причёсывать самых видных покойников столицы; он имел опыт и требовал доверия; благородство души он доказывал презрением к большевикам.
– Ой, никак ты меня под бобрика стрижёшь? – не узнавая себя, спрашивала Наталья палача своего.
– Что вы! И вообще, бобрик – это очень вредно. Возьмите, к примеру, гвоздь в стене и начните его расшатывать. Явно, волос обречён погибнуть, откуда плешь и даже хуже. Но и тогда не следует впадать в транс! Конкретно, за границей, где социализму, промежду прочим, не строют, на плешивых делают тонкую восковую наклейку сроком на три года, а в неё насаждают волосики электрической машинкой. И вот опять хоть в танец!..
Он и насоветовал попробовать особую краску для волос, изобретённую его зятем, безработным химиком. Состав, по его словам, отличался необычайной прочностью и глубиной колорита. Следовало лишь протереть волосы мазью и, просидев часа четыре, ополоснуть её приложенной микстурой, разболтанной в кипятке. Наталья заколебалась, но женщина в кожаном пальто и простой мужской шляпе уже появилась на увадьевских горизонтах. В самом её положении, не меньшая чем в надменной её красоте, таилась угроза. Сузанна служила в том же тресте, они встречались по службе и говорили пока только о комбинате, уже поглотившем чувства и волю Увадьева. Тогда Наталье захотелось стать такой же рыжей, как Сузанна… нет, рыжее и прекраснее её! – Химик ютился на окраине, возможно, на стихийной бороде своей он и пробовал свои смеси. На примусе кипела ароматическая пакость. В тощем аквариуме с лиловой водой сумасшедше носился карась: его красил сынишка изобретателя.
– Вам для волос или домашнего платья? – зловеще спросил хозяин.
…Задолго до сумерек она заперлась в спальне и достала из шкафчика припрятанные снадобья. Видно, они плохой имели сбыт: изобретатель не скупился, на три рубля товару хватило бы на целую семью уродов. Намазав голову, Наталья напевала, ходила по комнате и три часа просидела у окна, за которым взволнованно угасал летний день. Доносился гул площадного радио, и задиристо кричали газетчики. Краски блёкли, всё становилось серее и горбатее, но один листок на бульварном дереве внизу ещё сверкал крутым закатным глянцем. В сплошной стене забот и страхов она отыскала крохотную щёлочку и, заглянув, удивилась: вопреки её горю мир продолжал великолепно быть. Спеша преобразиться до возвращения мужа, она принесла из кухни кипяток закрыла окна занавеской, словно кто-то снаружи мог дотянуться до её третьего этажа!
Содержимое бутылки гибкими, красноватыми кольцами распространялось по воде; пряталась колдовская сила этой волшебной жидкости, доставлявшей красоту. Когда за стеной проходил трамвай, вода рябилась и таз дребезжал. Быстро смочив волосы, Наталья тискала их рука; лишь бы скорее впитали животворящее, щекотное тепло. Почтальон долго звонил у двери и, не дозвонясь, ушёл. Торопливыми пригоршнями Наталья плескала себе на затылок, где ещё оставалось несмоченное место; ей даже не посрамления Сузанны хотелось, а только скромного равенства, допускающего борьбу. Вода стыла и темнела, мазь всё труднее сходила с волос, и вдруг, точно хлестнуло по глазам, вспомнилось, что бутыль была рассчитана на два приёма. Жирная, слипшаяся прядь, свисавшая на лоб, показалась ей ядовитого зелёного оттенка, переходящего в ту самую лиловость, в которой запомнился ей гиблый карась. Страшась обступивших её лиловых пятен, она ринулась к зеркалу, но задела по дороге шнур, протянутый из угла, и лампа, точно взорвавшись, с мелким звоном метнулась ей под ноги. Мгновение она стояла с закушенными губами и помрачённым сердцем: что-то стремглав падало в ней и всё не могло достигнуть дна.
На ощупь и вздрагивая, когда хрустел осколок под ногой, она добралась до кровати и засунула голову между подушек. Время шло до великодушия медленно, а она всё лежала, всё слышала тоненький взрыд стекла. Вдруг она поняла по шагам, что вернулся муж.
Он был не один, и спутник, вешая пальто, оборвал вешалку. Увадьев пил воду из графина, но ему нехватило, и он ходил на кухню… Так по звукам Наталья читала всё, что происходило за запертой дверью.
– …трудностей не боюсь, – говорил Увадьев, продолжая начатый раньше разговор. – Я согласен и столы в канцеляриях переставлять и тарифицировать машинисток: я принимаю рабочие будни. Но преодолевать на каждом шагу апатию и глупость – это невыносимо. И потом: без восторга, без восторга делают! Эта дубина собиралась прибавить им по двести на рыло… получается девять тысяч, почти десять вагонов хлеба. А потом опять умильно подмигивать мужику? Я его к чорту погоню… – Внезапно, сдержась на резком слове, он заметил необычную тишину квартиры. – Наталья! – позвал он тихо. – Наташа, ты дома?
Оцепенение и стыд мешали ей крикнуть. Мазь сохла, волосы становились жёстки и, казалось, даже на ощупь зелены. Спутник Увадьева встал со стула, и Наталья смятенно догадалась, что это был Жеглов – он всегда так ширкал, затирая пятнышки на паркете, когда бывал озабочен. Муж подёргал дверь, постучался, окрикнул ещё раз и нерешительно отошёл.
– Ну… кажется, плохо дело! – Он выждал минутный срок, потребный, чтоб свыкнуться с внезапной догадкой. – Слушай, там на кухне косарь лежит для угля… принеси сюда! – Но, странно, он не торопился; ему нужно было, чтоб именно Жеглов долго и безуспешно разыскивал косарь на кухне.
– Врача надо… внизу вывеска есть! – голос Жеглова срывался и звенел.
– Э, он же зубной!.. косарь надо, вскрыть. У меня там револьвер на столе, чорт. – Он сам побежал за косарём и, вернувшись, с разбегу всадил в дверь своё нетерпеливое железо. – Наталья, ты здесь? – в последний раз, Почти угрожающе крикнул муж.
Дверь хрустела и щепилась; гнулся косарь, и ругался муж, а Наталья молчала в стыде и ужасе перед тем, что произойдёт через минуту. Она была жива, и в этом заключался единственный смысл её позора. Мир уже примирился с её концом, и ничто, даже давешний листок на бульварном тополе, не поколебалось. Потом она вспомнила раскрытое окно, ей захотелось исправить упущенье, но в то же мгновенье люди ворвались к ней.
– Свет, лампу давай! – крикнул Увадьев, остановленный темнотой и как бы боясь наступить на что-то, лежащее поперёк.
Жеглов поспешно помогал ему; они включили свет, в лицах их одинаково отразились смущение и обида. Первым поборол себя Увадьев: подойдя к сидящей с закрытыми глазами жене, он обмахнул рукавом испарину с лица:
– Модный цвет… пошибче-то не нашла колеру? – И весь рот его поехал куда-то в сторону.
Его оттолкнул Жеглов:
– Ступай… ступай, в пивной посиди! – шепнул он, не упрекая, потому что и не за что было упрекать. – Там раков привезли, ступай…
Муж ушёл, а она всё ещё дрожала, не столько спасённая от смерти, сколько пробуждённая от сна. Оба не говорили ни о чём. Потом Наталья робко коснулась волос, которые почти кололи пальцы, и виновато взглянула на Жеглова.
– Посмотри, Щегол, какая стала… зелёная, как лужайка. Спина очень болит!
На другой день, заехав к вечеру на машине, Жеглов перевёз её к своей дальней сестре, обладавшей спасительным качеством не любопытствовать ни о чём. Все натальины вещи уместились в той самой плетёной корзинке, которую вывезла с фабрики шесть лет назад. По лестнице она спускалась бегом, чувствуя на спине провожающий глаз Увадьева. Машина загудела, и Увадьев испытал кратковременное облегченье: ему порядком надоели и распутный её шёлк, и крашеные ногти, и лицо её, застывшее в ожиданьи ласки, и глаза, постоянно упрекавшие. Сразу потянуло к работе, он присел к столу, но работа не ладилась; в сосредоточенном озлоблении он покосился на раскрытую дверь жены. Он пошёл туда; цветные тряпки, раскиданные по полу, напоминали краски на палитре. В зеркале отразилось его исхудавшее и оттого ещё более скуластое лицо; в те дни обнаружилась возможность, что комбинат станут строить в другой губернии, и Увадьеву целыми днями приходилось расхлёбывать эту бюрократическую кашу. «Мордаст, мордаст, подумал он, тыча себя пальцем в щеку. – И чего во мне Наталья нашла!»
Он распахнул шкафчик; за непочатыми коробками с тальком, флаконами духов, всякими лаками, необходимыми женщине, которая уже не пленяет, таилась пачка его фронтовых писем. Разорвав нитку, он развернул наугад одно из них; написанное зевотным стилем, с писарскими завитушками, оно содержало сведения о соседях по землянке да ещё краткие распоряжения по хозяйству. Судя по дате, то было горячее время организации подпольного комитета; военные суды учащались, захлёстывала революция, но ничем не отразилось это в вынужденных строках письма. Не испытывая раскаянья, он швырнул письма вместе с пузырьками в чемодан, намереваясь завтра же отослать всё это Наталье; догадка, что Наталья нарочно оставила эти улики своего вчерашнего дня, не пришла ему в разум… Опять не удалась попытка усесться за стол, и вдруг он понял с негодованием, что весь вечер, с самого отъезда жены, он думает об одной Сузанне.
…так пристаёт иногда назойливая мелодия. Он сидел в ярости, подперев подбородок кулаком, а вещи размещались наново, комнаты преображались, а воображение насильно примеряло оставленные платья на Сузанну; ему и в голову не приходило, что женщины, подобные ей, не любят простыней своих предшественниц, его немножко сердило как будто, что женщины бывают разного роста и сложения. Всё, кроме предстоящего строительства, мнилось ему в крайне упрощённом виде, и самая любовь была ему лишь пищей, которая утроит его силы на завтрашнем его пути. Два часа спустя он ненавидел Сузанну, потому что уже владел ею до пресыщения, его бесил этот спокойный покатый лоб, яркие её волосы, в которых она принесёт к нему бедствия и порабощенье. Приди она теперь, он выгнал бы её, но она не шла, точно знала. Машинально тыча пальцем в розовую мазь, торчащую на столе, он ждал, и вдруг резкий, – точно кто-то спешил ворваться, – звонок наполнил опустелую квартиру: должно быть, Сузанна приняла его безгласный вызов. Смахнув платком пахучий язычок с пальца, он угрожающе пошёл к двери.








