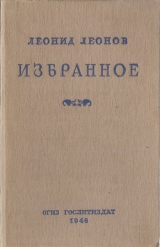
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Леонов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц)
– Василий Андреич, – уже настойчивей повторял капитан, – я так полагаю, стоило бы вам в хату заехать, переобуться, а то совсем свалитесь. Майору валенки из деревни прислали, а сухие подвёртки где-нибудь на селе добудем. Тут везде наши части стоят. Завтра трудный день… похоже, гроза собирается!
Потребовалось ещё некоторое время, чтоб совсем расстаться с великошумским миражем. Возрастающая, такая мирная издалека, в сознание просочилась канонада. Колоколенка давно пропала; на её месте продолговатое, военного происхождения облако встало под горизонтом… Они ехали вдоль линии фронта, приближаясь к нему под малым углом. Пригревало солнце, грозя к ночи обратить всё правобережье в сплошное месиво.
– Как же я в валенках к командующему заявлюсь! – сообразил, наконец, генерал. – Погоди, кончим войну, назначат меня смотрителем на маяк… тогда и, заведу себе козловые сапоги со скрипом, а пока рано мне, капитан. – Возражение звучало неубедительно, и капитан упорствовал, решась использовать слабость противника до конца. – Ну-ну, там посмотрим. Что-то длинно мы едем, не сбиться бы с дороги. Вы следите за картой?
Адъютант расстегнул планшет и стал чертить ногтем по целлулоиду:
– Давеча Малый Грушевец проехали, та-ак. Нравятся мне здешние населённые пункты… товарищ гонерал. Ласковый кто-то прозванья им раздавал. Затем балочка, только что миновали, а за нею селение под именем Райское. – Он высунулся из машины, чтобы удостовериться. – Та-ак, похоже! – согласился он, различив уйму пеньков между пригорками багрового щебня и золы; две вороны, явно нездешние, транзитные, доставали себе скудный харч из-под снега. – А ведь во всяком домике по хозяйке имелось, девчатки из окон глазели, в каждой печи вареники… Знатная еда, говорят! В кои веки в гости зашёл, а у них покойник в доме… Нет, едем мы правильно. – И так выходило по его словам, что сейчас будут Белые Коровичи, а оттуда двенадцать километров останется до Лытошина, где стоит штаб армии.
– Вот вы давеча, видать сквозь сон, про сердце танкиста оборонили… товарищ гвардии генерал-лейтенант, – отозвался шофёр, и капитан с неудовольствием покосился на него. – А только, извиняюсь, конечно, нет во мне теперь этого самого сердца. Не надейся и не спрашивай: нету. Нагляделся я раз всего под Кантемировкой, машину остановил, повалился в ромашки у дороги, плачу. И как отплакал своё, так и зажглось во мне враз, не могу себя погасить. Так и горю... Вот еду, а дым чёрным столбом надо мной идёт!
Значит, и другие заметили его простуду: видимо, сочувствие к командиру располагало их к такому дружественному красноречию. Следовало заехать на часок в Коровичи для просушки и леченья. Вскоре показалось жильё, сперва – такая же битая скорлупа тёплых мужицких гнёзд, а потом, в отраду сердцу, явилась череда вовсе нетронутых домов, оазис средь пустыни. То и были Белые Коровичи. Пока офицеры бегали куда-то, генерал смотрел, расставив ноги, как молодая женщина доставала журавлём воду из колодца.
Он спросил её о чём-то для первого знакомства, молодая ответила не сразу. Разминая застывшие плечи, генерал осведомился также, как живут они здесь, на безлюдьи. «Хорошо», – отвечала молодая, без плеска ставя ведро на колоду. «Чего ж хорошего, даже собаки на незваных не лают. Пуганые, что ли?» Выяснилось, что собак немцы поморили всех, и даже сверчки на Украине перестали сверчать, но теперь возвращаются кое-где на обжитые места. Словом, когда вернулся офицер связи, генералу стало уже известно, что немцев прогнали всего неделю, что в Коровичах стоит артиллерийский резервный полк, а дальнее крыло уплотнено вдобавок погорельцами: маются где придётся – в клунях, чуланах и погребах.
Валенки оказались сибирскими пимками, чуть не до пояса и на кожаной подошве, такими осанистыми, что у генерала не нашлось возражений против столь вещественного довода.
– Пока обогреетесь, товарищ Крушинин, – уже по-фронтовому обратился к комкору адъютант, – хозяйка тем временем чайку смастерит. – Он подмигнул молоденькой, и та ответила спокойным взором таких красивых, с такой величавой, неисплаканной печалью, таких глубоких, как после болезни, глаз, что капитан невольно подтянулся и стал обдёргивать на себе ремешки. – Как фамилия, царевна?
– Литовченко, – сказала женщина, поднимая коромысло на плечо.
– Ишь, совпаденье какое. И мы все тоже Литовченки, – весело поддержал адъютант, потому что такой тон избавлял от расспросов и сразу создавал отношения старой дружбы. – Ну, веди нас к себе, посмотрим, что за дворец по такой красавице.
Узкая натоптанная тропка вела к глазастой хатке на пригорке, казавшейся благополучнее других. Початки кукурузы янтарными монистами свисали над окнами и покачивались в ветре на крыльце. Слегка сутулясь от тяжести, женщина пропустила гостей на ступеньки. Генерал вошёл первым… Топилась печка. Ветер задувал дым из трубы; домовитый, уютный после холода, соломенный чад стлался по хате. Человек тридцать артиллеристов сидели на лавках вдоль стен и на низких дощатых полатях; иные приладились на чурочке у порога, а один свесил босые ноги с печки, обняв запухшего от сна мальчика, такого же красавца, как его мать. Все поднялись, кроме хозяйки. Старуха осталась сидеть перед печкой и не отвела глаз от огня, даже когда шестеро проезжих молодцов ввалились к ней на постой.
– Сидите, товарищи, – жестом предупредил общее движенье генерал. – Мы только посушиться, мимоездом. – Нет, нет, ни в коем случае… – удержал он адъютанта, собравшегося очистить хату на время их стоянки, и выждал, пока все снова уселись в нерешительном смущении. – Продолжайте свои дела. Политзанятия, кажется?
– Никак нет, товарищ генерал. Седьмая батарея артполка находится на прочтении писем, – отвечал довольно тщедушного вида усач, быстро оправив на себе застиранную гимнастёрку. – От хозяйкина сына письма, из неметчины. Тут у нас пополнение имеется… вводим, так сказать, в курс всеобщего дела. Красивым слогом написаны!
– Вот и отлично, и мы послушаем, – одобрил генерал, высвобождаясь из мокрой отяжелевшей шинели.
– Да уж почти всё отчитали, эва, целую горочку. Последнее осталося, – пожалел сержант и кивнул на пачку писем посреди тёмного скоблённого стола. – Только беда, всё по-украински весточки-то, товарищ генерал, а у меня всё вологодские да мордва… эва, даже один татарин есть, Алексей. Ишь, на приступочке сидит, согнулся… болеет. Лишний сила в бою давал! – И для приличья посмеялся жестяным, никому не обидным смешком. – Однако всё понятно, слезой писано. Освободить место генералу! – повысил он голос, и скамья сразу опустела, точно полотенцем обмахнули для высокого гостя, но почему-то тесней в хате от этого не стало. – Читай, Куковеренков, не торопись, а то не выдам я тебе рекомендации в артисты.
Он был слишком суетлив для должности политрука, но что-то звенело – то струночкой, то набатно звенело в нём, заставляло вслушиваться с возрастающей тревогой и торопиться, опрометью торопиться куда-то. Обстановка не соответствовала его шутливому тону; прибаутками он хотел побороть смущенье собравшихся хотя бы и перед чужим начальством. Бледной зимней окраски бальзамины не совсем застилали свет в окнах. Всё же стреляная противотанковая гильза, сплющенная сверху, снабжённая бензином и фитилём, горела на столе, придавая особую, как в храме, торжественность собранью… Шофёры долго стелили салфетку на краешке стола, доставали припасы, выдавали молодке чай на заварку, пока генерал не прекратил их неуместную суетню.
– И кстати, дайте конфеток мальчику, капитан… – сердясь и сквозь зубы приказал генерал. – Понимать надо… Сам же жалобился, что детей в эвакуации оставил! – И хотя это было сказано вполголоса, тень одобрительной улыбки поочерёдно прошла по всем лицам, кроме старухина. – От отца, что ли, открытки-то?
– Не, то от дядьки, товарищ военный. А папаши у него нет. Никогда он сынка не приголубит. Вот, всё собирается письмо написать… батьку в могилку, – сказала по-украински женщина с закушенными губами, обернувшись к окну как бы затем, чтоб поправить занавеску.
– Не бойсь, махонький… ешь, сиротка. А немцу, что дружков твоих в колодец побросал да животиной дохлой сверху накрыл, чтоб не вылезали, – капут, капут немцу! Ешь, родной… в Германии ещё добудем. Душу вытряхнем, а добудем… если начальство разрешит, – добавил он ещё, испытующе покосясь на генерала, который с наслаждением вдыхал хмельной и сытный пар из стакана.
– Данке шён, – кротко, забито сказал мальчик.
– Слышали? – зловеще окликнул усач своё собрание, которое вдруг заёжилось и недобро пошевелилось. – Приступай, Куковеренков!
Ближний, широкоскулый, с неподвижным лицом красноармеец уже держал в руке это остатнее письмо. Как и прочие, то была стандартная открытка с печатным предупреждением писать в одну строку и без помарок. Вместо обратного адреса стоял квадратный лиловый штамп с указанием лагерного номера корреспондента. Чтец некоторое время как бы изучал почтовую марку, запоминая одутловатый, с прядью на лбу и выпуклыми жабьими глазами, профиль. Личность эту он видел не раз на плакатах в немецких землянках, и не промахнулся бы при встрече, а теперь он просто выжидал, когда всё придёт в прежнюю стройность, перестанет хрустеть серебряная бумажка в сироткином кулачке и замолчит сверчок в подпечьи. Слишком много слов было напихано, как попало, в это письмо; столько слов, что любой полдень затмить и опечалить хватило бы этой черноты. Указанное обстоятельство охранило его от цензуры, но оно же заставляло и Куковеренкова запинаться, тем более что он сразу переводил по-русски. Наконец сверчок пискнул ещё раз и затих, также приготовясь слушать послание из неметчины.
«Здравствуйте, родные, кто меня ещё не забыл. Я жму твою праву ручку, мамо, и поклон всей милой, сколь глаза хватит, Украине. Сестрице Одарке мой скучный, далекокрайний привет. И братику Кузьме щиросердечный привет тоже. И спасибо, что послали сапоги, а то порвались чоботы мои, и работа мокрая, но только я не получал. Хоть дают мне двенадцать марок в месяц, но ничего не купишь окроме ситра. Я пишу тебе, мамо, что немножко запух весь и живу хорошо. И снилось мне два раза, что выстроили новую хату, и будто идут коровы из нашей улицы, стадо в поле идёт. И тут всё поле превратилось в гробовище. Ты стоишь одна, мамо, и ни травки кругом, ничего нет».
– Хорошим слогом писано, – взволнованно отметил генерал и повернул голову к молодке. – Это, значит, и есть дядька?.. Сколько ему лет, дядькý?
– Семнадцатый с Покрова, – отвечала молодая, по-бабьи подпершись рукой и внимая письму, как новинке.
Чёрная струйка копоти вилась над гильзой, как и несложная нитка повествованья. Кашлянув и как бы подстроив сбившееся горло, Куковеренков ловко провёл пальцем по огню, смахнул нагар и тем прибавил свету. Всё молчало, только из рукомойника у двери размеренно капала вода. Сейчас все эти люди принадлежали к одной семье Литовченок: заезжие шофёры, генерал, перед которым стыли американские бобы со свининой, вологодские с суровыми лицами мужики, татарин Алексей, соломинкой подметавший пол, – и самые боги, выглядывая из бумажного цветника, силились вникнуть в эту протяжную, как песня, жалобу.
– «Живу, только и думаю про Украину, – писал дальше мальчик Литовченко. – А нельзя мне тут жить и гулять. Как вспомню всё, и как братик Тимофей суму мою нёс, и как мамку ударили, так и плачу. Тогда я побежал к вам, но меня поймали. Дали двадцать пять по голому телу, а потом морили голодом, но недолго, мамо. Я опять побежал, в темноте бежать хорошо, тогда поймали меня ещё, а я ничего, только бы не убили. А как узнал я про смерть Тимофея, всё продал с себя, купил ведро картошки и ситра ведро и пил, три дня лежал бесчувственно, поминал старшего братика Тимофея в городе Берлине. Меня палкой тычут, как зверя, чтоб на работу шёл, а я лежу, не могу итти, плачу. А город Берлин разбит чисто, хуже Киева побит. И детей не видать, и людей мало».
Пока звучал этот вопль издалека, генерал допил чай, куда украдкой капитан долил на четверть рома. Да тут ещё две девушки из полкового медсанбата принесли генералу сухие шерстяные подвёртки, заказанные капитаном. Ногам стало легче и теплей, и на душе сделалось так, будто давно живёт здесь; генералу казалось, например, что во всех мелочах знает этого усача, добровольного устроителя нынешнего чтения. Наверно, это был старый солдат, которому вторично в жизни пришлось обороняться от немца; и смертно надоела ему вековая угроза, что придут и разорят дотла его достаток, и решил покончить с нею разом, и, посетив дом врага, показать ему военное лихо во всей его страшной красе. Он затем и обращался то словом, то взглядом, как бы за поддержкой к генералу, чтоб не упрекнуло его впоследствии в беспощадности строгое начальство.
«Я жду от вас ответа, как соловей лета, – заканчивал тем временем Куковеренков. – Хоть пришлите четыре слова. Мне теперь номер дали, пятьсот тридцать, вы не спутайте. И марку наклейте, а то без марки письма не идут. Не давай плакать маме, братик Кузьма, мне тогда легче будет. Я буду жить, пока не забьют. А племяннику ленточку припас, хоть и не девочка, больше ничего нету. Привезу, как уцелею. Больше писать нечего. Писал ваш сын и брат на чужбине…»
– Это который же Кузьма-то? – спросил офицер связи, когда Куковеренков, сложив письмо поверх кучи, отодвинулся от стола.
– Средний, всего трое было… кроме Одарки. Он ещё при немцах через фронт в Красную Армию убежал, – неохотно, потому что не впервые, объяснила молодка. – Опротивило ему со стариками в болоте сидеть. Уж их с овчарками искали, все норочки обшарили.
– Так-так, – ухватясь за слово, скороговорчато выступил усач. – С егерьками, значит, как на волчатину, охотились. В сундук железный спрячь письма-то, хозяюшка… не загорелась бы хатка твоя от них! Вот и поговорим, товарищи, пока каша варится. Выходит, мать, трое у тебя кормильцев-то?.. Богатая!
Старуха поворотила голову, и новоприезжие увидели, что годами она была не старше самого сержанта.
– Я богатая, – согласилась старуха.
– Итак, младшенького с сестричкой в неметчину угнали. Средний к нам ушёл. За что же немцы старшего-то сказнили?
– Старостой у них ходил, – с тем же неподвижным лицом ответила мать и поправила складку платья на колене.
Ответ смутил бы любого, но усач, и глазом не сморгнув, шёл к правде своей напрямик, зная, что она его не обманет.
– Так-ак!.. Тогда ему бы, наоборот, в кафе круглы сутки сидеть, немецким шнапсом совесть заливать. Староста у немцев первый человек. Это есть зубы, собственному народу горло грызть… а ведь кто же себе зубы беспричинно ломать станет?
– Не трожь её… Партизанам он помогал, затем и в старосты пошёл, – сказала вместо старухи молодая и вдруг, глянув на мальчика, заговорила, много, часто и жарко, точно полымя плеснулось в ней. – Корова у нас была, а старик один, сосед, и прельстился. Уж старый, шестидесяти осьми годов, на что ему корова?.. И выдал он Тимошку немцам за молочко. Мы вот так же ужинали… ввалились они, ухватились за Тимошу, семеро одного держат…
– Храбрые, значит, семеро одного не боятся! Давай, давай… и ты нам не общую картину описывай, а шаг – за шагом иди. Мы судьи, вот мы кто! Нам всё обстоятельно надо знать…
Она стала рассказывать, как увели Тимофея и как она прокралась послушать мужнин крик, но все три часа не было крику из немецкой хаты, а только, время от времени, ровный и твёрдый, сквозь боль и стиснутые зубы, голос – «Красной Армии слава!» – и как водили его потом по селу, в кровище, с повыдолбанными глазами и с доской на груди, и как билась она затем в ногах у коменданта, чтоб выдали ей порубленное мужнино тело, потому что хороший был и всё село за него распишется, и её снимали на карточку при этом, лежащую во прахе у чужих сапог, и как словили по приходе красных танков того одряхлевшего от страха Каина, и вдовы слёзно молили, чтоб дали им хоть шильцем уколоть его по разочку… Тут уж и мать поднялась с табуретки. Она неторопливо прошла к простенку, где в дешёвом багете висели фотографии обширной, за полвека, литовченковской родни. Там были дивчины с букетами и в пёстрых домотканых юбках, молодые люди в матерчатых пиджаках, в обтяжку, на плечах непомерной широты, какой-то шахтёр, снявшийся в полном подземном облачении, длинноусые хлеборобы, и Сталин между ними, раскуривающий трубочку, – ещё были там рослые, грудью навыкат, гренадеры прежних времён, сложившие голову за староотеческую славу, и сановитые дядьки прославленных запорожских куреней – только оселедцев им нехватало! – выставились из большой братской рамы поглазеть на нынешних хлопцев, и красовался там же вид с Владимирской горки на всеславянские святыни города Киева, и помещался там же зеркала треугольный осколок, чтоб каждый мог сравнить себя с этим отборным, зерно к зерну, племенем… А в левом верхнем углу, как заглавная буква к богатырской родословной, находился совсем ещё не старый, с бритым и мужественным лицом потомок; из-под суровых, сведённых к переносью бровей застенчиво глядели почти девичьи, тёмные украинские очи. Рамочка висела, как по отвесу прямо, но, значит, матери было виднее. И по тому, с какой строгой лаской старуха Литовченко коснулась её кончиками пальцев, словно оправляла венчик на покойнике, все поняли, что это и есть её старшенький, предколхоза, Тимофей Литовченко.
Генерал, поднявшийся было познакомиться с ещё одним своим однофамильцем, отошёл первым, и тут бросилось ему в глаза, как высокий артиллерист, стоя поодаль, усмехается и качает головой; и тем обидней показалась такая усмешка генералу, что парень на полторы головы возвышался над прочими, видимых признаков ранений или нашивок на погонах не имел, был с красивым, чуть матовым лицом и, видимо, смертной силы.
– Чему же вы смеётесь, гражданин? – недружелюбно и нацелясь в его громадный сапог, спросил генерал. – Этот Тимофей… как его по отчеству-то, молодайка?.. Арефьич?.. – недоверчиво протянул он. – Этот Тимофей Арефьич, может быть, ещё на площади в Киеве будет стоять, медный, рядом с нашим Тарасом. Мы-то с тобой друг за дружкой, как звенья танковой гусеницы, идём, а он умирал в одиночку, зная точно, что никто не придёт на помощь.
– Дозвольте разъяснить, товарищ генерал… – смущённо заговорил артиллерист.
– Нечего и разъяснять. А знаешь, чтó на передовой сделали бы из тебя за такой смешок? – оборвал его, рванувшись от двери, кто-то из шофёров.
– Нет, уж дозвольте разъяснить тогда, товарищ генерал, – нахмурясь, повторил красноармеец. – Это я на Германию дивуюсь. У нас, на Ваге, ежели так с соседями обращаться, в одночасье изведут, уголёчка на развод не оставят. Вот у меня, ребята смеются, кулак два кила весит… и то в будний день, пока не рассержусь! Я им медведя, однова, наповал уложил…
– Стреляного! – подзадорил сбоку усач, и вид у него был такой, словно раздувал поднимающееся пламя.
– А хоть бы стреляного. Ты меня опробуй, как жить надоест! – и оглядел для проверки костистое, досиня, образование на конце правой своей руки. – С чего ж они с нами так, товарищ генерал? Али пустыни непроходные промеж нас лежат, али горы высокие… и те перешагнуть можно!.. Неосторожность какая…
– Ладно, помолчи, не волнуйся! – сказали со стороны.
– На меня теперь метра четыре земли насыпать надо, чтоб я успокоился. – забыв всё, пуще расходился парень. – Я… – Слова так и летели с него, как брызги с точила, а усач пристально глядел ему в глаза, как бы закрепляя в памяти, чтоб напомнить потом в решительную минутку. Уже тянули великана сзади за рукав, стремясь остановить его дерзкую, неприличную при начальстве ярость, но он смолк, только когда офицер связи вбежал в хату с радиограммой из штаба армии. Командующий спешно разыскивал комкора Литовченко. Какие-то неизвестные и грозные обстоятельства меняли установившееся равновесие на этом фронте.
– Надо мне ехать. Желаю тебе, товарищ, чтоб не изгорела твоя сердитость на полдороге, – сказал на прощанье, уже в шинели, генерал, переглянувшись с усачом; оба поняли друг друга с полувзгляда. – А дорога нам ещё долгая!
Сержант подал ему просохшую у печки шапку. Вдруг затрещал сверчок, благовествуя, что ещё наладится жизнь и снизойдёт былое счастье на четырежды осиротелую хату. Его заглушило урчанье заведённых машин. Дружным рокотом артиллеристы проводили гостей. Во дворе старая хозяйка набирала соломы из стожка. Генерал пощурился на её полубосые ноги, на худые лопатки, охваченные знойким ветром, хотел сказать на прощанье, чтоб не убивалась о среднем своём сыне, который сидит теперь у него в танке, за надёжной стеной, но усомнился в чём-то и, выйдя за ворота, подозвал своего капитана.
– Забыл, как у них среднего-то звали, что в армию ушёл?
– Кузьма, товарищ гвардии генерал-лейтенант.
– Так. А того, что ночью танк чуть не завалил?
– Того Васей при нас называли…
Скоро иные мысли и совсем прочерневшие под солнцем поля охватили их. Когда минутой позже Литовченко выглянул в заднее окошко, ни деревца, ни дымка над трубой не осталось от Белых Коровичей. Зато другой, громадный и плоский дым вставал на горизонте. Его было много, и ветру было из чего изваять длинную чёрную лисицу, вытянутую движеньем и на бегу распустившую хвост. Воздух двигался как раз оттуда, слышна была усердная работа артиллерийских батарей.
– А, пожалуй, зря вы на Коровичи поплелись, капитан. Через Березно было бы нам ближе. Если не ошибаюсь, это Млечное полыхает?
– Нет, это Великошумск горит… товарищ гвардии генерал-лейтенант, – уверенно поправил его адъютант.
Из опасений, внушённых именно этим зрелищем час назад, адъютант избрал более длинную дорогу через Коровичи. Осторожность оправдалась в ближайшем селе, в Ставищах, также памятном генералу по каруселям и балаганам его трескучих ярмарок. Оно предстало сейчас с закрытыми ставнями, горелое не однажды, примолкшее, чтоб война не вернулась, хотя бы на детский плач, добить и разметать нищие останки. При подъёме в гору, у плотины, обсаженной раскорякими вётлами, танкистов остановила регулировщица. Она направляла их на просёлок, выводивший к Житомирскому шоссе. Объезд означал пятнадцать километров крюку и, прежде всего, крутые перемены во фронтовой обстановке. Капитан поднялся наверх поискать хотя бы дорожного коменданта. И пока остальные дрогли здесь, у тёмной, загустелой воды, в узкую горловину мостка стали спускаться огромные, в грязи по кровлю, санитарные автобусы. Медленно, из внимания к своему хрупкому грузу, они проплывали мимо, почти впритирку к встречным машинам и на короткое время застилая в них свет. Он затемнился семнадцать раз сряду, и уже на первой трети все выбрались наружу, кроме генерала. Перестав крутить цыгарки, шофёры провожали глазами этих первых вестников ночных происшествий под Великошумском, и один глядел дольше всех, пока ветер не выдул из-под пальцев половину табаку.
– Отвык от войны-то, чорт гладкий? – пошутил сосед, когда последний автобус ушёл на восток.
В Ставищах адъютант разведал не больше, чем знала со слов проезжающих эта кудреватая румяная девушка в коротенькой шинельке. Всю ночь, по её словам, громыхали сквозь вьюгу пушки, и десятки осветительных ракет висели на горизонте; немцы проявляли усиленную деятельность. Она терпеливо растолковала все приметы объезда: как добраться до коневого совхоза и куда сворачивать от монастырских прудков, чтоб без промаха попасть на переправу… и шумливым флажком показывала в ветреную, звенящую тревогой даль. Оттуда порывами доносилось мушиное тарахтенье застрявшего грузовика; погудев и передохнув, он снова силился оторвать лапки от неодолимо-клейкого листа дороги. Война услышала жалобу; понижаясь в тоне, просвистел воздух, и тощий, из-за расстояния, веер земли и дыма распустился среди поваленных телеграфных столбов.
– Вам как раз туда и надо ехать, – улыбнувшись, сказала девушка, и ямочки на щеках стали ещё румяней от смущенья. – Всё утро из дальнобоек щупают… впустую, – прибавила она успокоительно, для шофёров, которые уже приметили, что после разрыва тарахтенье грузовика прекратилось.
– Откуда сама-то? – спросил связист, топча недокуренную папироску.
– Воронежская…
– Ну, и сами мы все воронежские. Не задремли, смотри, а то ганец подкрадётся!
Так, подкопив силы, они нырнули в тёмнорыжее месиво просёлка, под некрашеный шлагбаум контрольного пункта. Здесь кончалась хорошая дорога. Два часа тащились они почти на первой скорости, и каждый давал зарок замостить после войны всякую лесную тропку клинкером: впрочем, обеты тотчас забывались, едва почва под колёсами становилась твёрже. Обстрел не повторялся, погода совсем разветрилась, и веселили по сторонам плакаты с наказом экономить горючее. Великошумск и его великая гарь сдвинулись в сторону, и даже мыслей не осталось о Великошумске, когда поднимались на шоссе.
Их сразу захватил деловитый поток фронтовой магистрали. Здесь ехало всё, чтоб, растворясь в ничто, превратиться в победу. Ехали ящики с концентратами, бензин, зимняя стёганая одежда и металл, продолговатые пироги с толовой начинкой; ехали лекарства в гигантской таре, авиамоторы и то, чем их поражают наповал, валенки ехали пополам с гармоньями, а лазаретные кровати, – целая трёхтонка с железными скелетами, – напрасно старались опередить этот желанный и праздничный груз; ехали толстые мешки с ядрицей, кислота в просторном зелёном стекле, ремонтные станки, буханки хлеба, которых хватило бы вымостить дорогу до самого Лытошина, книги, строительный лес, вино для живых и кровь для оживления уставших на поле боя, кипы сена, туши мяса и прочее, чем питается в разгаре наступленье, – в бочках, тоннах, тюках и десятках погонных километров. Всё это тысячеимённое богатство страны превращалось как бы в густую и вязкую жидкость; невидимое сердце проталкивало её в узкую и гибкую артерию военной дороги… С однообразным рокотом, в несколько рядов мчались цистерны, заморские доджи с зенитными установками в кузовах, и серенькие наши зисы перегоняли их в стремительном беге к победе; степенно, о бок со своими крановыми американскими собратьями, шли чумазые челябинские тягачи, чернорабочие танковых сражений, неслись ловкие противотанковые пушки, стальные осы, прицепленные к бронетранспортёрам, и двигалась их старшая тяжеловесная родня, едва прикрытая раздувающимися чехлами; студебеккеры шлёпали широкими лапищами по шоссе, и прятались за ними машины в брезентах неизвестного назначения, а рядом попрыгивала походная банька, русско-татарский рай на колёсах, и добрый десяток веников приплясывал над кабинкой весёлого, белозубого водителя.
Всё это, забрызганное грязью и стократно повторённое, днём и ночью, неукротимо двигалось в самое пекло великошумской битвы. По сторонам, среди опалённых буковых рощ, как предупрежденье судьбы, чернели остовы сожжённых машин, битые германские танки, валялись дырявые, полные талой жижи чашки танковых башен, пучились трупы лошадей, подёрнутые снежком, и ещё не стаяли на них ночные вороньи следки, но уже никакая сила в мире не могла задержать этот поток. Да ещё по обочинам, насколько хватало кругозора, грохоча и с открытыми люками, по два в ряд катились танки, облепленные своими десантниками, как цыплятами наседка. Они служили как бы железными берегами для этой реки народного гнева, и только теперь становилось ясно, какую вековую дремучую силу разбудил вражеский удар.
– А ведь это из моих! – определил генерал, приглядываясь к новёхоньким тридцать-четвёркам. – Не узнаю только, которая…
– Та самая, тридцать седьмая, – подсказал адъютант.
На броне ближней машины он различил свой корпусной опознавательный знак, а через мгновенье под белым, с крылышком, ромбиком он увидел и номер двести три. Кидаясь грязью, она шла по всем правилам походного марша, соблюдая сорокаметровую дистанцию тормозного пути. Как и на прочих, среди привязанных бачков, походной печки, ящиков с боеприпасами сидели затаившиеся на заветной думке люди: может быть, они пели. И вдруг генерал живо вспомнил вихрастого лейтенанта. Это вместе с ним довелось ему повоевать однажды, когда сорок четвёртая, летом прошлого года, напоролась на засаду Гудериана; с управленческого танка сбили ленивец, и первая машина, куда наугад вскочил командир бригады Литовченко, оказалась двести третьей. Сам он получил второе Красное Знамя за это бравое дело, и уже не помнил, чем именно судьба, кроме седой прядки, наградила лейтенанта. Было грустно, что не обласкал Соболькова, не напомнил про тот жаркий денёк, тем более что они как бы породнились в тот раз, потому что оба вышли с лёгкими ранениями из боя. Он припомнил, кстати, что, по слухам, это отличный мастер простонародной сказки, и тут же порешил непременно, при случае, послушать Соболькова как ради поощрения таланта, так и из интереса, чем он потчует целую бригаду на отдыхе…
Ни метра не пустовало на шоссе, и всем находилось место. Вольным шагом двигалась пехота пополнения, наглядные примеры разноязычного нашего единства. Даже в такую мокредь, которая ещё больше однообразила их, чем серая шинель, казах отличался походкой от грузина, а украинец повадками от сибиряка. Эти последние хмуро покачивались на мохнатых коренастых лошадках, в особенности сердитые на немца, оторвавшего их от воистину государственных дел. Не было нужды расставлять плакаты по пути, чтоб возбудить в них воинскую решимость. Следы разрушения и гибели по сторонам дороги повелевали грознее всякого приказа… Шли и видели, как стынут связисты на столбах, починяя рваные провода; видели, как воронки от авиабомб заваливают щебнем разгромленного посёлка, и по кварталу умещается в каждую ямину; видели, как престарелый дед со внучкой пытаются набрать горелого мусора на зимний шалаш, а уж декабрь глядит из лесу; они также прикидывали на-глазок, сколько гвоздей, топоров и пил получилось бы из этой железной, уже неузнаваемой падали, и переводили на трудодни стоимость того материального потока, который завтра сгрызёт одна атака. Они шли, сосредоточенно глядя в смутную точку впереди, за чертой неба, где маячили мрачные призраки – дурацкие «мёртвые головы», непоятные им райхи, валлонии и викинги и прочая, на устрашенье трусов выдуманная чертовня; они шли убить их прочно и навсегда; они шли, и горькое море крестьянской беды плескалось у них под ногами.
В гуще потока возвращались беженцы на разорённые гнездовья. Тощие коровы со скорбными библейскими глазами волочили ветхие телеги, и старики сбоку помогали животинам дотянуться до дому. Выводки крестьянских ребяток, по-четверо в одной дерюге, с безжалобной заискивающей улыбкой смотрели на матерей, которые со сжатыми губами шагали возле, не имея другой надежды на земле, кроме как на свои обвисшие вдоль тела руки. С упорством младости плелись старухи повидать на закате родимые могилки, знакомый на шляху тополёк, и поспешало сзади некое существо, голодное и путаное, чёрный лохматый псишко, отвыкший лаять по чужим дворам. Увёртываясь от огромных колёс, он бежал и всё принюхивался, искал подобного себе, чтоб поведать о своих собачьих горестях… но даже и мокрой шёрсткой не пахнуло ни разу из смрадной бензиновой реки кругом. Порой он принимался скакать на снежной обочине, похожий на чернильную кляксу, и даже лаять каким-то петушиным голосом, то ли от радости жизни, то ли из потребности показать войне, что и он тоже злой и кусачий… И ещё восьмилетняя девочка, вся прогибаясь назад от непосильной ноши, тащила плетёную старушечью котомку за спиной, а в руке несла большую стеклянную бутыль на верёвочке, жалкое крестьянское сокровище. Прижимаясь к берегам, эта человеческая щепа тоже плыла в реке войны, не догадываясь о ночных событиях под Великошумском.








