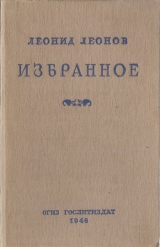
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Леонов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
Взятие Великошумска
К полночи зарево погасло, и оборвалось бессонное бормотанье битвы. Всё замолкло, кроме шептанья падающего снега. Немощная зима снова пыталась запорошить бедную исковырянную землю. Близ рассвета лязг и грохот вступили в эту первозданную тишину. Два прожекторной силы луча пронизали пёстрый мрак метели, где затерялась станция.
Она существовала лишь на картах да в благодарной памяти тех, кто, проездом на тёплые черноморские берега, любовался из вагона на прославленные здешние сады. Из тьмы проступили столбы с пучками порванных проводов, обугленные стены привокзальных строений и, среди прочих останков растоптанной жизни, ряды платформ, ставших на разгрузку. Под брезентами угадывались большие угловатые тела. Вдруг неимоверная воля сдвинула с места это притаившееся железо. Разбуженный, задул ветерок, и когда начальник в высокой шапке вышел из виллиса, сразу, точно мокрой тряпкой, мазнуло начальника по лицу.
Скорей по привычке, чем из потребности, он вытер усы и пощурился в небо – хватит ли до утра нелётной погоды. Надёжнее мотопехотных и зенитных сторожей она охраняла его танки от чужих глаз и авиации. Правое, с генеральским погоном, плечо его полушубка было залеплено снегом, и часовые признавали хозяина лишь по дерзости, с какой сопроводительные машины проскочили запретную черту оцепленья, да по усердию адъютанта, который, забегая сбоку, светил ему дорогу фонариком.
– Спрячьте ваше чудо науки и техники, капитан, – попросил генерал, потому что батарейка иссякла, а ноги всё равно по щиколку тонули в слякоти. – Лучше найдите нашего дежурного по штабу. Я недолго задержусь здесь.
Вместе с офицерами связи из подоспевшего броневичка он миновал груды металлической падали, не убранной после боя, паровозишко со вспоротой боковиной, обошёл разбитые стояки переходного мостика, дважды пролез под платформами и двинулся прямиком в ближайший световой центр ночи. Узловая станция допускала одновременную разгрузку нескольких эшелонов. В самом конце её, разместясь по сторонам, два танка освещали длинные, из шпальных брёвен, сходни, на которые робко, словно не веря в прочность сапёрной работы, ступали их железные товарищи. Тугой машинный ветер хлестал вдоль путей, уплотняя снегопад; огромные ромбические тени плыли по этому подрагивающему экрану.
Разгрузка происходила в торец. Танки следовали всей длиной состава прежде чем коснуться земли, откуда им предстоял любой, на выбор, путь – либо вперёд, на запад, либо назад, в мартен. Большинство состояло из новичков, мало обкатанных и ещё не вкусивших звонкого, щемящего вдохновенья боя. Они ничего не умели, и люди помогали им, делясь остатками живого тепла, а взамен беря частицу их неуязвимого спокойствия. Люди действовали молча, голос растворялся в истошном скрипе дерева, в бешеной пальбе иззябших моторов, и это осатанелое молчанье было внушительней самой отчаянной боевой песни… Негде им было укрыться здесь от стужи, но шёл третий год войны, и горькая злоба за простреленную молодость, за поруганную мечту грела их жарче костра и любой земной привязанности. И ни один ни разу не припечатал матюжком подлой пакости, что сыпалась сверху на погибель солдатской душе.
Так он шёл, наблюдая хлопотню своих продрогших людей, не отдохнувших от долгой дороги. Вдоволь, в своё время, похлебав щец из походного котелка, он без затрудненья, как букварь, читал их затаённые думки. И, как обучил его когда-то старый учитель Кульков, генерал сохранил привычку читать это вслух, сердцем вникая в каждое слово.
– Простите, шумно… товарищ генерал, – посунулся было сбоку связист.
– Я говорю, грозен наш народ, – раздельно повторил генерал, – красив и грозен, когда война становится у него единственным делом жизни. Лестно принадлежать к такой семье…
Он собирался прибавить также, что хорошо, если родина обопрётся о твоё плечо, и оно не сломится от исполинской тяжести доверья, что впервые у России на мир и на себя открылись удивлённые очи, что народы надо изучать не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний, когда история вглядывается в лицо нации, вымеряя её пригодность для своих высоких целей… Но офицер буркнул что-то невпопад с непривычки к отвлечённым суждениям, да кстати над самым ухом затрещал мотор; розовый снег, мешаясь с пламенем, завихрился у выхлопной трубы… К тому времени вьюга окончательно сравняла командира корпуса со всеми, кто не спал в эту простудную ночь.
Лишь в одном месте, привлечённый необычной тишиной, он замедлил шаг и вытянутой рукой преградил путь собеседнику; офицеры сопровождения остановились сами из-за узости прохода. Здесь кончался эшелон. Вереница машин, терявшаяся в летящей тьме, с выключенными моторами ждала очереди на разгрузку. И хотя тут, в слепящем луче танковой фары, снег висел плотный, как занавеска, сразу делалась ясна причина задержки. Бывалая, вся в рубцах неоднократных сварок, тридцать-четвёрка упиралась левым ленивцем в междупутье, круто обвалившись со сходней. Задние траки громоздились на помосте, и водитель ещё надеялся сползти на малых оборотах, но деревянная клетка трещала и щепилась, шпалы поднимались дыбом с другого конца, и самый танк зловеще кренился на сторону.
Генерал подошёл как раз в минуту, когда лейтенантик в армейском кожухе и с вихром из-под ушанки метнулся к переднему люку.
– Стой, стой, говорю!.. – кричал лейтенант, в отчаянья поглядывая на шеренгу платформ, груз которых нависал над ним, как улитка. – Вылезай теперь, полюбуйся, что ты наделал… вий полтавский.
Мотор заглох, и тем слышней стала сиплая, усталая брань соседних экипажей. Постепенно замолкла и она, едва поняли, что этим не спихнуть железной глыбы, застрявшей у них на пути. Паренёк в матерчатом шлеме понуро стоял посреди и все, сколько их там было, обступив кругом, смотрели на него с холодком осудительной жалости, как смотрят на погорельца, а, насмотрясь, приступили к обсуждению. Они делали это обстоятельно и с удовольствием, видимо отдыхая от перенапряженья, и одни собирались вбивать какие-то железные ползуны под траки, чтоб машина скольжением спустилась со сходней, и уже тащили швеллер от бывшего пакгауза, а другие, напротив, подавали совет приподнять вагой левый борт, а затем пустить его на волю божию. «И таким манерцем мы выйдем из положения!»
– Узнаю наших, – шепнул ближайшему спутнику генерал. – Любим, когда что-нибудь отрывает нас от работы… – Привыкнув из любой беды извлекать опыт, предохраняющий от повторных несчастий, он со спокойным любопытством вслушивался в ночные голоса.
Так и длилась бы эта мирная беседа, если бы лейтенанту не пришло в голову спустить свой танк на тяге. Умно расчалив свою тридцать-четвёрку под прямым углом, а сбоку придерживая её тросом за гусеницу, чтоб не повалилась набок, он махнул рукой, буксирные танки рванули, и корма аварийной машины плавно скользнула вниз, лишь раскрошив концы брёвен. Десятки моторов приветственно взревели кругом, движение возобновилось. И пока проходили они мимо тридцать-четвёрки, утерявшей свою очередь, лейтенант отчитывал виноватого паренька. Надсаженный голос звучал не обидно, с какой-то проникновенной человеческой горчинкой, но, значит, острей ножа и выговора был пареньку этот упрёк старшего товарища. Не оправдываясь, не защищаясь, он только морщился, как от боли, и глядел в снег.
– Куда ж ты смотрел, чортова баба. На реке случилось бы, ведь ты бы нас утопил. Я уж не говорю о машине. Ведь это гнев твой, силища, а ты экую красавицу в грязищу завалил. А знаешь, сколько надо такую махину смастерить? Старики да малые ребятки на заводишках ночей не спят, варят её, обряжают для нас с тобою… Да и то гаркнуть порою хочется: «Эй, на Урале… кто там закурить пошёл?» А ты… Эх, а ещё в мстители затесался!
– Хозяин… детей, верно, любит, – шепнул в сторону генерал, и кто-то поддакнул ему в голос: «Вот они, танкисты! Вот они, мы!»
Точно учуяв тепло похвалы, лейтенант обернулся и враз опознал свидетеля своему приключению. Старше вблизи не нашлось; он пометался, скомандовал тишину и в одно дыханье выпалил генералу, что на разгрузке тридцать седьмая бригада, что самому ему фамилия – Собольков и что именно его машина, номер двести три, только что вышла из столь беспомощного состояния.
– Вижу, всё вижу… товарищ гвардии офицер, – подтвердил командир корпуса, глядя на незаправленную под погон портупею. – Не знал, что такие завелись у меня лихачи… на ровном месте спотыкаются.
Тотчас обнаружились сто причин, а сто первая заключалась в том, что сзади торопили, да тут ещё трак скользнул по скобе настила и, как назло, изменил левый фрикцион, отчего машина поползла юзом и оступилась с метровой высоты. Судя по неуверенности тона, лейтенант и сам сознавал, что фрикцион – не сердце девичье, вещь вполне надёжная, и у доброго воина повреждается, разве только когда от самого танка остаётся одна железная щепа. Это же отметил и генерал, прибавив сгоряча некоторые слова, от которых все вокруг приосанились, подтянулись и стояли ещё смирнее.
– Значит, в пренебрежении у вас эти самые… ну, бортовые фрикционы, а зря… – заключил он, утихая. – Кто у вас этим делом занимается?
Тогда и пришлось Соболькову назвать виновника происшествия. Выяснилось, что механиком-водителем у него на двести третьей состоит новичок из пополнения, некий Литовченко, совсем молоденький и сам из здешних мест, а потому немца встречал вплотную и, видать, крепко на какого-то осерчал, раз добровольно прибежал в армию искать врага своего на громадном судилище войны. Последнее в особенности походило на правду: у каждого из них имелись личные счёты с Германией… Пока генерал прислушивался к чем-то взволнованной памяти, лейтенант незамедлительно перешёл от обороны к наступлению.
– Что касается двести третьей, – пошутил он, – то ущерба ей от встряски не предвидится, машина испытанная: так ли ещё маханула она, к примеру, в один овраг под Россошью, после того как вырвало кусок брони из лобовика и повалило прежнего водителя, предшественника Литовченки. Если только припомнит товарищ генерал, это случилось на исходе того дня, когда именно их корпус, зайдя от Валуек, нанёс решающий удар по Италии и заставил её сметаться из войны.
Две красные полоски были нашиты справа на груди лейтенанта. Генерал усмехнулся патриотическому красноречию своего танкиста; одновременно на лицах у всех в десятке вариантов повторилась его улыбка. Упоминанье о Россоши было всем им заслужено и в равной степени приятно; если шепнуть это слово во-время, на ухо обессилевшему товарищу, оно удваивало отвагу, воскрешало, как глоток спирта, пароль круговой танкистской поруки.
Генерал поднял голову.
– Литовченко, Литовченко… – поискал он в памяти, и опять чем-то горячим пахнуло на него из этой ночи. – В школе со мной учился однофамилец мой, Денис Литовченко. Собачник был, целая орава дворняг так и бродила по его пятам… А ну, покажите, что у вас за некий Литовченко!
Тряхнув хохолком, не то седым, не то запушённым снежной пылью, Собольков крикнул это имя в летящий снег, и тотчас знакомый паренёк вытянулся рядом с командиром танка. Луч от фары пришёлся на него сбоку; кроме того, вернувшийся с офицером штаба адъютант подсветил ему мигалкой без опаски получить вторичное поношение науке и технике. Карие мальчишеские глаза чуть напуганно смотрели из-под густых, не по возрасту, бровей; левая, рассечённая при паденьи, слегка кровоточила… Нет, это был не тот Литовченко, моложе, постатней и явно не денискиной породы. Не зря Митрофан Платонович Кульков назвал того колобком при выпуске из школы: «Катись, колобку, в свит, та стережись, щоб сирый вовк не зьив!»
– Что ж ты, тёзка, плохо за машиной следишь? – заговорил генерал, смягчаясь воспоминаньями. – Танк не лошадь, не огрызнётся, сахару с ладони не попросит… Ты его молча понимай, и дружба его тебя не обманет. А представь, такая же ночь и врагов тысяча… тут каждый болтик слезою омыл бы, да поздно.
Он говорил так, как если бы сын денискин стоял перед ним, нуждаясь в отеческое наставленьи, и всем понравилось, что он говорит с этим полумальчишкой, как с сыном.
– Машина исправна… товарищ гвардии генерал-лейтенант. Только я не той гусеницей тормознул второпях, – открыто признался механик, и опять всем кругом понравилось, что и этот не бежит вины, не ждёт прощенья.
– За правду хвалю. У меня в корпусе не лгут… Кстати, как батькá-то кличут?
– Батька Екимом звали, – отвечал Литовченко, и брови туже сдвинулись к переносью.
– Так. Немцы, что ль, убили?
– Сам помер… от старины.
– Вот оно что, – по-своему прочитал его интонацию генерал, и почему-то убавилось его огорченье, что хлопец этот даже не родственник Дениске. – За что ж ты на немца обиделся?.. Дом спалили или девушку твою увели?
Литовченко медлил с ответом; коротко было бы ему не объяснить, а на длинное пояснение он не решался. И чтоб выручить товарища перед начальством, все заспешили к нему на помощь.
– Хлебанул беды крестьянской, – подсказал кто-то сверху с платформы. – Все мы ею дóсытя пропиталися.
– Сейчас только тот и без горя, кто воровски живёт, – поддержал другой, и генералу показалось, что когда-то он довольно часто слышал этот голос.
– Такое дело… товарищ гвардии генерал-лейтенант… – начал третий. – Ганцы не селе у них стояли, и один мамашу его мёртвой курой шарахнул…
– Каб ударил, не стоял бы я на этом месте… – угрюмо поправил Литовченко.
– Ничего не понимаю, – сказал генерал. – Ударил он её или не ударил?
– Он у нас чудак, товарищ генерал, – пояснили со стороны.
– Какое ж тут чудачество! Кто родную мать в обиду выдаст, тому и большая наша мать нипочём, – вступился генерал за паренька, с интересом глядя, как садятся и тают снежинки на его щеке, безволосой и чумазой, потому что водители обычно ехали под одним брезентом с печкой, которою и обогревали в походе свой танк. – И как же ты рассчитываешь поймать его в такой суматохе… врага своего?
– Легше нет, – насмешливо произнёс тот же, охрипший от погоды, мучительно знакомый голос, и почему-то генералу вспомнилось, что ещё не обедал за истекшие сутки. – Надоть его на перламутровую пуговицу.
– Это как же так… на пуговицу? – спросил генерал, единственно чтобы ещё раз услышать голос.
– А как муху ловят. Взять простую пуговицу, от рубашки, скажем, о четырёх дырочках… и обыкновенно крутить у мухи перед глазами, пока она не начнёт вроде вянуть. А там берут осторожно за крылышки, чтоб не взбудить, и поступают по строгому закону… Так, что ль, милый Вася?
Шутка относилась, конечно, к маленькому Литовченке. Тот не отвечал: опустив голову, он уставился на руку себе, обмотанную тряпкой. Этим он как бы клал конец публичному обсужденью своей сокровенной обиды.
– Значит, гордый ты, тёзка, – одобрительно засмеялся генерал. – Это хорошо. Мне и нужны такие, гордые и злые. Войну видал?
– Только в кино… товарищ гвардии генерал-лейтенант.
– Ну, скоро увидишь… Ладно, оставьте его. Посмотрим, что он за вояка!.. – И повернулся к подсказчику, чтоб удовлетворить возникшее любопытство.
Они стояли перед ним все одинакие, на одно лицо, в одеревянелых от мокроты шинелях и набухших водою сапогах. И всё же человек этот, казавшийся старше других, заметно выделялся в их ряду; здесь опять пригодилась мигалка адъютанта. И хотя танкист был теперь в усах и к тому же немедленно опустил озороватые, себе на уме, глаза, сразу видно было, что личность эта вела образ жизни, навлекающий подозренье в смысле пристрастия к некоторым крепким напиткам… Нельзя было не узнать его, бывшего повара из штаба корпуса, который мог бы прославиться и во всеармейском масштабе, если бы не роковая любознательность к жидкостям. Она не только помешала ему продвигаться по служебным ступеням, но и удержаться на достигнутых высотах; падение случилось как раз после Россоши, когда кладовые штабной столовой значительно пополнились трофейным продовольствием. Итальянский вермут, французское шампанское, венгерский токай и даже тухлый немецкий ром принялись наперегонки сохнуть в его присутствии, а глазуньи, которыми он ограничил круг своей деятельности, приобрели столь броневые вкус и прочность, что офицеры диву давались, до чего можно довести обыкновенное куриное яйцо. Ему давали советы подкидывать эти злодейские яичницы неприятелю, чтоб калечились на них, но он не внял деликатным предупреждениям, и тогда пришлось откомандировать его вовсе из управления корпуса, что не вызвало ни ропота, ни удивления с его стороны.
– А ведь это ты, Обрядин, – вместо приветствия и весело сказал генерал. – Ну, кем воюешь, как живёшь?
– Башнёром на двести третьей… товарищ гвардии генерал-лейтенант. Вот, прибаливаю маненько, – сиплым баском сообщил он, желая этим выразить степень своего раскаянья.
– Так… И болезнь всё та же?
Обрядин не ответил и лишь облизал пышный ус, чтоб скрыть усмешку, какая была и у генерала.
– Что ж, выздоравливай, – пожелал генерал и уже собирался отойти, потому что не на одной только этой станции происходила выгрузка его хозяйства. Да ещё предстояло по пути в район сосредоточения заехать в штаб армии и, кроме того, расспросить кое о чём дежурного офицера из штаба. И тут бросилось ему в глаза странное, даже неуместное для солдата, шевеленье на обрядинском животе, чуть повыше поясного ремешка… Башнёр стоял смирно, руки по швам и выпятив грудь так, чтобы по возможности натянулось на груди сукно шинели. Он даже попытался стать бочком к командиру корпуса, но в ту же минуту что-то живое выглянуло из-за борта обрядинской шинелишки.
– Ну-ка, посветите, капитан. Что это за живность у тебя, Обрядин?
– Это Кисó… товарищ гвардии генерал-лейтенант, – виновато, упавшим голосом признался тот.
И вот, решительно невозможно стало для начальства покинуть это место, не повидав старинного сослуживца. Не дожидаясь прямого приказания, Обрядин достал из-за пазухи свой секрет. Маленькое сероватое существо, ёжась от холода и дремотно щурясь на свет, лежало в огромной правой ладони танкиста; левою он прикрывал его от простуды, так что хвост и ноги оставались под угревой мокрого обрядинского рукава.
– Ну, здравствуй, беглец. Что, разве плохо тебе жилось у меня? – тихо произнёс генерал, и уж такой установился в штабе у них обычай – непременно, при каждой встрече, почесать у котёнка за ухом. – А тощий он стал у тебя… верно, яичницами кормишь? Ишь, все рёбра наперечёт!
– От нервной жизни… товарищ гвардии генерал-лейтенант, – постарался оправдаться Обрядин. – Ведь всё в боях да в боях…
…Гвардейский корпус Литовченки всегда ставили на главном направлении армейского удара. Его молниеносный манёвр и свирепые рейды по тылам врага изучались в академиях не только на его родине. Ветреная военная слава свила себе гнездо на пыльных или обрызганных кровью надкрылках его танков, а горячие головы, что имелись там в каждой роте, собирались помыть их в заграничной рейнской водице… Пятеро таких товарищей, на короткую минутку сойдясь в кружок, а остальные через их плечи – пристально глядели на домашнего зверька, который мигал и встряхивал головой, когда снежинка залетала в глаз. Вряд ли то была нежность к безответному спутнику героических скитаний; она давно истаяла горьким дымком из их огрубелых сердец, – даже не жалость! Но именно на этом тёплом комочке жизни, напоминавшем о покинутом доме, о милых в далёком тылу, на которых замахнулся Гитлер, сосредоточилась их глубокая солдатская человечность… Снег переставал, шерсть на котёнке смокла, он становился похожим на ежа. Светало, и когда генерал взглянул на часы, он уже без помощи науки и техники разглядел стрелки.
– Ладно, – сказал он, и офицер связи побежал вперёд предупредить, чтоб заводили машины. – Тёзке выговор, чтоб помнил, какая правая и какая левая сторона. Через недельку надеюсь услышать о вас, товарищи. Всё.
Прижав подбородок к воротнику, он медленно, против ветра, двинулся назад. Штабной офицер, на котором лежала приёмка эшелонов, докладывал в подробностях, когда прибывают очередные, кто именно, по фамилиям и должностям, срывает график движения, и откуда должны подать недостающие паровозы… Посерело, когда они подошли к машинам.
Холодная влага с вечера проникла в хромовые генеральские сапоги, но он постоял ещё здесь, прежде чем перелезть высокий, неудобный порог своего виллиса. Что привлекало его внимание в этой равнине, нынешнюю безотрадность которой не могли скрасить и причуды недавней метели?.. По белёсому покрову полей проступали чёрные дороги; больше ничего там не было, кроме головешек от сожженных селений.
– Здравствуй, зазимок, – непонятно произнёс Литовченко, и у всех, кто стоял поблизости, создалось впечатление, будто он поклонился тому, что лежало под белой простынею снега.
Офицеры имели основания приглядываться к своему генералу. Волнение, обычное при посещении старого, милого жилья, сопровождало его последние сутки. Оно не улеглось, когда машины, по радиатор ныряя в хляби, ринулись по дороге; оно усилилось, как только по сторонам развернулись виды, узнаваемые и всё же не похожие на себя. Литовченко пытался думать о войне, но среди больших хозяйских планов всё чаще, как сухие полевые цветы, попадались благословенные воспоминания, живые и трепетные до озноба и лёгкого холодка в пальцах.
Здесь прошло детство. Отца и мать он знал лишь по блёклой карточке над комодиком, среди пучков чернобыльника и тимьяна. Первые четырнадцать лет безоблачно протекли под крылом у бабушки, прославленной великошумской лекарихи; сам Митрофан Платонович, просвещённый тамошний деятель, лечился её тинктурами от ревматизма. В городке, среди вишнёвых джунглей, доживали век древние монастырьки; ручейки богомольцев тянулись к ним отовсюду. И кому не помогали их пышные святыни, те брели на окраину, к опрятной хатке старухи Литовченко. Безжалобная простонародная хвороба всегда сидела на ступеньках её крыльца. Старуха не брала платы, – люди тайком оставляли посильные, зачастую щедрые приношенья: за цветы, даже сухие, надо платить вровень тому, сколько надежды или радости доставляют они душе.
Этой прямой и суховатой женщине с блестящими, без сединки, волосами принадлежало волшебное травное царство, раскинутое под ногами у всех и открытое немногим. Постоянный спутник странствий на сборы трав, мальчик помогал ей добывать скудный хлеб вдовьего существованья, и за это бабушка научила его слушать голоса родных полей и леса, за сутки вперёд проникать в сокровенные замыслы природы, что сгодилось ему не раз в его военных предприятиях и в скромном венчике любого придорожного цветка видеть ласковый, недремлющий, всегда присматривающий за тобою глазок родины, что также невредно знать солдату…
Босыми ногами он исходил великошумскую окрестность. Вот под тем коренастым дубком, который за его кудрявую красу пощадила война, они стояли однажды, застигнутые первовесеннею грозой. Первые капли уже пристреливались по лохматым листьям медвежьего уха, и весёлый гром прокатывался в небе, словно перед обедней на великошумском крылосе прокашливались басы. А здесь, на развилке дорог, он навсегда простился с бабушкой, уходя в жизнь; и старая всё наказывала надевать новые штаны лишь по праздникам и беречь сапоги деда, прослужившие ему полвека. И ещё брала обещаньице слать ей письма о своём бытье, которые он и написал ей, ровным счётом два… В час прощанья стояло безветренное утро. Было тихо в природе, и пели молодые петушки. Дымок паровоза уже белел вдалеке, гудела звонкая июльская земля. Мальчик помчался один, не оглянувшись на старую… Заскочить бы к ней сейчас, она напоила бы его густым, медовой крепости, липовым цветом, а потом закутаться бы в дедов кожух и забыться до сумерек, пока старая хлопочет внизу, сооружая богатырскую пищу. Он уже забывал несложную и меткую знахарскую фармакопею, но из собственного опыта убеждался не однажды, что отвар обыкновенной капусты, в равных долях со свёклой и добрым украинским салом, оказывает целебное влияние на организм, ослабевший от бессонных ночей и сезонного солдатского нездоровья.
Лекариху сменил в городке фельдшерок, лечивший хоть и безуспешно, зато и без старинной поэтической чепухи. Бабушка умерла одна, тремя годами позже, когда внук, поскитавшись по ремёслам, поступил в учительскую семинарию. В семнадцать лет он ещё не разумел обязанности хоть на часок примчаться в Великошумск, проводить старую на порог последнего жилища… И странно: давно обратилось её сухое тело в цветы и травы, хозяйкой которых слыла, а голос растворился в шопоте капелей, листвы и ручьёв, а дыханье её влилось в громадный воздух родины, но владело им чувство, что она совсем рядом, радуется его свершеньям и слышит, как гремят в его честь московские салюты… Старуха Литовченко ещё жила, только нельзя стало заехать к ней запросто, обнять за никогда неоплаченную заботку. И этот неотданный должок он с лихвой платил теперь своей земле, людям на ней и её честной правде.
Он полуобернулся к адъютанту, который трясся позади на железном сиденьи виллиса и подскакивал вроде камешка в погремушке.
– Знобит меня, капитан… и мысли все как-то вбок уклоняются. Осталось у нас что-нибудь во фляге?
Там едва плескалось на донышке; он отхлебнул ровно столько, чтобы не беспокоить посудину до конца пути… Дул сырой и тёплый балканский ветер, почти весенний шум заполнял уши; начиналась оттепель, и не один танкист сейчас, вот так же, взирал со вздохом на эту непролазную распутицу… Нет, не похож стал Великошумский край на тот, что он покинул тридцать годков назад. И уже не пели там юные, неумелые петушки.
Острая, почти колючая синева сияла из облачной промоины; в ней, журча, на бомбёжку тылов, прошли германские самолёты. Литовченко мысленно увидел свои танки, застигнутые в дороге… но вслед за тем проглянуло солнце, и тонкая колоколенка розовым видением вспрянула на горизонте, за бугром. Она стояла на рыночной площади Великошумска, которую, в пору детства, просекала тень трёх знакомых рослых тополей; тотчас за ними и ютился домик учителя Кулькова, самого милого из проживающих нынче на белом свете.
Это был неказистый, без возраста и личной жизни человек, безвестный сеятель народного знания. Только прежде чем бросить семя в почву, он прогревал его в ладони умным человеческим дыханьем. Его уроки никогда не укладывались в программу, но эти взволнованные отступления бывали самой лакомой пищей для его птенцов. Юноша Литовченко пошёл бы тою же дорогой из одного подражанья этому честнейшему образцу, не призови его революция в солдаты… Старый учитель и учитель несостоявшийся не повидались ни разу; Митрофан Платонович только раз выезжал из Великошумска в Москву, за трудовой медалью. Случилось это осенью тридцать девятого года, когда подполковник Литовченко лечился от ран в иркутском госпитале и о награждении узнал из странички учительской газеты, в которой принесли полкило терпкого зелёного винограда. Рядом с краткой заметкой, куда уложились все сорок лет педагогического подвига, помещалась фотография серебряного старичка, стриженного под бобрик и в толстовке; сквозь очки с пытливым юморком глядели те же добрые, пристальные глаза… Весь день до сумерек подполковник мысленно бродил с ним по бедным, немощёным улицам родного городка, а утром напомнил Митрофану Платоновичу открыткой, как тридцать с лишком лет назад он уронил школьный глобус и помял на нём всю Европу от Вислы до самого Рейна…
И старик отыскал в памяти этот эпизод; в ответ пришло цветистое послание, исполненное затейным почерком, так как, кроме всех известных в учебном мире наук, Кульков преподавал также и чистописание. Он извещал, что живёт хорошо и его даже выбрали заместителем председателя чего-то; что и Великошумска коснулись пятилетки после того, как под городом, за бывшим конским кладбищем с названием Едовище, обнаружились особые, всемирно-полезные глины, какие, по слухам, ещё имеются только в республике Эквадор, на реке Сангурима; что на подъёме у них народная жизнь, и до полного счастья осталось не более семи шагов, а сам он молодеет с каждым годом, и если так продолжится, пожалуй, и женится он на какой-нибудь соответственной местной крале, чтобы было на кого ворчать в долгие зимние вечера. Кстати, он звал навестить – если не его самого, ворчуна Кулькова, то хоть помятый глобус, который ещё жив и шлёт поклон приятелю, – а вместе с тем и отдохнуть в родных привольях, тем более что целое парковое кольцо защищает теперь Великошумск от убийственных степных пылей, – и вкусно соблазнял кавунами, которые в чудовищных размерах и на удивленье иностранных специалистов выращивает там совместно с ним некий Литовченко, но не тот Литовченко, который колобок, а другой, участник сельскохозяйственной выставки от Украины. Горечью старческой обиды отзывали эти убористые строки: много он раскидал семян добра и правды в народную ниву, и хоть одно, разрастаясь в плодоносное дерево, кивнуло бы ему издалека своей могучей кроной!
Так возродилась их дружба. Теперь куда бы ни прибывал по служебным делам полковник Литовченко, отовсюду слал местную диковинку в адрес великошумского учителя, – даже из Риги, куда история также закинула однажды генерал-майора Литовченко; наверняка сыщется подарок старику и в немецком городе Берлине… Стесняясь вначале признаться, что не получился из него педагог, генерал не упомянул в переписке о своём военном поприще, а позже, чтоб уж не смущать его чинами, умолчал и о продвижении по службе. Пусть в памяти старика живёт до поры некрасивый черноглазый мальчик, которому после поврежденья центральной Европы на школьном глобусе он шутливо предсказал шумную военную будущность.
В тихий город Великошумск немцы вступили на третий месяц войны; переписка оборвалась сама собою. Страна узнала имя Литовченки сразу в звании генерал-лейтенанта, которого немцы к исходу второго года именовали уже ein grosser Panzermann. Но как у всех на незаметном перекате к старости взор невольно обращается назад, к истокам жизни, чтоб подвести итоги перед решительным и последним рывком вперёд, так и для Литовченки стало насущной потребностью посещение родного городка. И опять шла навстречу генералу его удачливая судьба. За час до того как был получен приказ о переброске корпуса на Украинский фронт, стало известно о взятии Красной Армией Великошумска.
По существу, генерал так и ехал прямиком в гости к Митрофану Платоновичу. И теперь, щурясь от бокового ветра, он примеривался заранее, как вкатит на четырёх машинах в тесный дворик на Шевченковской и войдёт с обнажённой головой, во всех регалиях и славе, и, минуя обычные восклицанья, тут же, в тёмных сенцах, прижмёт старенькую толстовку к олубеневшему сукну генеральской шинели. Не повредит и мальчишеское озорство такого внезапного появления: тем больше будет ликованье старика, когда узнает, что это тот самый Литовченко, чей газетный портрет прячут под подушками сиротки, у которых Гитлер убил отцов… Они сядут за стол и будут молчать, пока не обвыкнутся после разлуки, и, наверно, вся улица, прослышав о таком госте, соберётся под окошками Кулькова, и хозяин станет спрашивать его о самом сокровенном человеческом на свете. А там, расположат на часок-другой, можно будет выжечь простуду из тела какой-нибудь ядовитой домашней настойкой… И вот началась и потекла долгожданная, горячая беседа, и он сам сидел перед Литовченкой, добрый великошумский старик, подливая ему в тоненькую рюмочку. Тем более странно было, что у Кулькова вдруг оказалось лицо адъютанта. – Ленивый струйчатый жар поднимался из мокрых хромовых сапог и подступал к подбородку.








