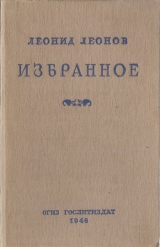
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Леонов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 45 страниц)
– Нет, едят, глядите, прямо с руки едят! – Сказал смешливый голос вблизи них. – Ишь, ужинают… – И голос задрожал от нездорового возбуждения.
Они увидели человека, сидевшего на корточках; несколько безмолвных зрителей, обступив кругом, наблюдали его редкостное развлеченье. На ладони у него лежал комок отравленного теста, раскатанный в рыхлую длинную колбасу; три саранчука, не пугаясь растопыренных пальцев человека, тихо пожирали яд.
– А, это вы! – сказал Маронов подходя. – Приманку раскидали?
– За одну ночь намесили двести пудов. – Он напрасно ждал одобрения от Маронова. – Она уже съедена вся…
– Ну, и… благоприятствует это любви? – едко усмехнулся Маронов.
– Отравы нехватило, товарищ чусар. Мы всё туда соскребли – мало. Очень медленно действует… но ножки всё-таки мертвеют, видите? Глядите, какое у них лицо скучное! Они всё равно не успеют… не успеют они, понимаете? – Была какая-то психическая судорога в его речи.
– Да, да, – сказал Маронов, мучительно распяливая глаза, которые катастрофически смыкались; он не видел почти ничего. – У вас завидное зрение, да. Кстати, вы не знакомы? Знакомьтесь: Мазель – Пукесов.
Кормитель саранчи мгновенно приподнялся:
– Простите, не могу… пальцы липкие!.. – прошипел он и вдруг исчез, истаял, рассыпался, а может быть, его самого вместо отравы сожрали саранчуки.
Мазель так и стоял – с рукой, по-детски протянутой вперёд. И великий хитрец Пётр Маронов взял его под руку и пытался вести назад, полагая, что Мазель ничего не знает, не видит.
– А Ида смешная женщина… У неё странный вкус, правда, Пётр? То Яков, то Пукесов теперь! – сказал Мазель, осторожно высвобождая свою руку из Мароновских клещей. – И ты ужасно зоркий. Пётр… уж ты всё увидишь!
Они вернулись поздно. Мазель едва держался на ногах и утром, проснувшись, нашёл записку Маронова с просьбой ждать его возвращения. На рассвете, пока Мазель спал на ашировом халате, чусар собрался навестить тот участок кендерлийского фронта, где линию траншей заменял непосредственно самый канал. За это наиболее ответственное место Маронов опасался более всего: по ту сторону канала располагалась самая цветущая часть Дюшаклинского оазиса.
Здесь в особенности густо, по нескольку сот особей на метр, наступали кулиги. Неделю назад в этом месте произошёл некрупный прорыв, но залатать его так и не удалось. Саранчук четвёртого возраста штурмовал в неслыханных количествах; канавы, на рытьё которых ушло по шести часов, наполнились в несколько минут доверху; их не успели даже засыпать землёй, как наполнены были два последующих ряда траншей. Тогда саранчу пришлось пустить в самую воду и одновременно вызвать от Сухры-Кулы надёжную роту Осоавиахима. Саранча поплыла вниз по течению, до запруд, расставленных на некотором расстоянии друг от друга, под углом к берегу. Здесь её еле успевали ловить в корзины и мешки, полуутопленную, и торопились зарывать эти скрежещущие живые клубки в ямы. Часть уходила, сушилась, оживала, – её не преследовали…
Инструктор встретил Маронова на мосту и с таким лицом, точно пускался в рукопашную:
– Железо… какое железо, дьяволы, прислали. В девятнадцатом за такое издевательство… знаешь, знаешь?
Маронов сочувственно кивнул головой: неоцинкованное железо быстро ржавело, и по шершавой ржавчине щитов саранчуки без усилий перебирались на другую сторону…
– Как дела, товарищ? – спокойно осведомился Маронов, не выпрыгивая из седла.
– Как! А, вот, приходится оттирать каждое пятнышко песком, руками, а вздышки не даёте. Я не отвечаю, не отвечаю, не отвечаю… – и рот его запрыгал, как лягушка, по всему лицу.
– Значит, в республике нет больше оцинкованного, – ещё тише сказал Маронов, всё ещё не слезая с лошади. – Не размахивайте руками, это не идёт к военной форме, которую вы носите. Что ещё нового?
Инструктор пожевал истрескавшиеся губы; складки, точно углём начерченные на лбу его, исчезли.
– Пешую победил, четвёртый возраст, товарищ чусар. Потом афганцы из каравана очень просили мышьяку. Кричат: «Советска, и нам дай, и нам…» Я не дал: нету, да ведь и контрабанда. Поговорка есть: чужому верблюду нет воды.
– Неумная поговорка, товарищ.
– Выгодная зато…
Он намекал на контрасты: в Персии и Афганистане шистоцеркой было уже уничтожено раз в сорок больше, чем в советской Туркмении. Наши темпы борьбы были бы непосильны никакому другому правительству.
– Как вы измеряете эту кулигу?
– Тонн на пять… – Инструктор измерял кулигу весом мышьяка, потребного на её уничтожение.
– Надо перекинуть борьбу на этот берег.
Инструктор сжал руку в кулак, измученно посмотрел на него и промолвил сухо:
– Слушаю, товарищ Маронов.
– Кто в охране у того моста?
– Этот… как его, Салых. И с ним Фаридалеев, тоже из Кендерли. Там-то спокойно… они на сменку метут!
Маронов вспомнил: это был старый знакомец в плоском тельпеке, и ему захотелось взглянуть на него в новой его должности.
– Я поеду туда, – сказал он.
Дорога проходила самым берегом, а на левом бесконечно наступала кулига. Всё там было съедено; чёрные травины покачивались, подпиливаемые у корня. Лошадь острила уши и храпела. По жёлтой воде, слабо шевелясь, плыли чёрные неторопливые точки; вода вкруг них посверкивала. День выдался неровный; солнце, как в истерике, то сдёргивало, то вновь накидывало на себя драную облачную фату. В плохо засыпанных окопах гнила саранча, и сладкая, тошнотная вонь разложения ни на минуту не покидала Маронова. Он перевёл было свою белую кобылу на рысь, но та скользила и спотыкалась в скользкой и мёртвой корке, покрывавшей землю. Вонь усиливалась, тяжёлая и жирная; Маронову померещилось, что даже наощупь воздух становился маслянистее. Тем ярче вставали в нём воспоминанья суровых новоземельских раздолий и пресного запаха снегов. Сводило с ума и безвременно старило его юность это беспредельное тление всего – мечты, любви и жизни. То же самое мудрейшее вещество, из недр которого возникали грозы, ветры и полярные сиянья, теперь подмигивало ему гнусным саранчёвым смрадом… Потом он сразу увидел мост и Салыха перед ним.
Ровными машинными движениями туркмен обметал щиты, укрывавшие мостовой настил. Он был один, Фаридалеева не было с ним; скулы его опухли, сквозь жёлтую смуглость их проступал зелёный румянец переутомленья.
– Селям алейкум, Салых, – громко сказал Маронов, привязав лошадь на мосту. – Где Фаридалеев?
Тот покосился на него одним глазом; у него не было времени даже на то, чтобы стряхнуть саранчуков, сидевших на его тюбетейке.
– Ушёл… – сказал Салых, вместо того чтобы сказать – сбежал.
Так, в одиночку, и действовал Салых у самых ворот Дюшаклинского оазиса.
– Фаридалеев – похли! – сказал чусар. Похли – было ругательство. – Давай метлу, я буду теперь… – и принялся мести за Салыха, пока тот, спустившись в канал, жадными горстями ловил мутную саранчёвую воду.
Вдруг Салых издал резкий горловой звук, он выражал недоуменье. Не прерывая работы. Маронов обернулся к нему, и ему тоже показалось, что камень, на котором стоял туркмен, заметно обмелел; он заметил, но это прошло как-то мимо его сознанья, ибо в ту же минуту что-то яростно защекотало у него под рубахой. Он крутил головой, почти свёртывая шейные мышцы; спинные мускулы извивались в попытке скинуть заползших насекомых; он не понял сразу даже того простого, что кричал ему туркмен:
– Эй, доган… она уходит, вода… эй, гляди, доган!..
Камень, минуту назад только наполовину вылезавший из воды, теперь целиком лежал на скате и даже успел обсохнуть. Узкую ленту пространства, освобождённую водой, тотчас же занимала саранча. Вода опускалась. Где-то позади произошёл прорыв, и в подстёгнутом воображении мигом представилось, как широким бурым потоком вода на десятки метров разворачивает дамбу и ударяет в пески, которые кипят и пляшут. Всё меньше саранчуков плыло по воде; они ждали. Вода бежала вспять, как трус Фаридалеев!.. Отдавая метлу Салыху, Маронов ещё раз взглянул на камень. Тот медленно полз вверх и уже отдалился на полметра от уровня канала. Мысленно Маронов читал бредовую телеграмму, составленную им самим, – «…прорыв на двадцать два километра. Дюшакли не существует больше…» Да, он видел испуганное лицо телеграфиста, слышал бегство аулов, различал презрительное акиамовское «замэчательно интересно»; всё это проскочило в мгновенье и снова застлалось пенным пьяным великолепием вод, вторгающихся в необозримые приволья. Камень всползал всё выше, стремясь достигнуть зенита в мароновском разуме, а канал опустошался, как проколотый бурдюк. И вот, неизвестно откуда, на мосту позади них появились передовые отряды шистоцерки.
Маронов догадался об этом, едва услышал позади себя неровный топот сорвавшейся с привязи кобылы; ее не догнал бы и ветер. Она крылато неслась к Кендерли и по существу была первой вестницей случившегося несчастья. Движение воды в канале остановилось, но камень скрылся, облепленный серой шуршливой массой. Обнажилась жирная тухлая кожа канала, на ней матово сверкала полузанесённая илом жестянка, да ещё торчала острым обитым углом чья-то крупная кость. Тощую извилистую лужу, всё, что оставалось от знаменитого оросительного канала, вброд переходила саранча… Мароновым овладело неодолимое равнодушие, частично подобное тому, какое он пережил тотчас после похорон брата.
– Садись, Салых… – И показал место рядом на перилах, мимо которых проходили густые колонны на штурм мазелева хлопка.
Обоим им стало всё равно, безумье притуплялось спасительной усталостью; даже если бы у них и нашлись крылья и сила одолеть в один мах двенадцать километров до кендерлийского штаба, всё равно не успели бы. Оба они в равной мере сознавали такое же томящее ничтожество своё, какое сломило бы часового, поставленного в одиночку охранять границу всей республики. Из памяти Маронова выпало, что он не один, что где-то бодрствует верховный чусар и уже изнемогает на телефоне Мазель, бежит к своему отряду сапёрный начальник, трясёт хриплую трубку телефона и гремит сам Акиамов, и на автомобиле, сшибая собак с дороги, наверно, уже мчится прокурор. Он забыл всё…
– Вот видишь… Ты чем, занимался, Салых?
– Мы… контрабанчи. Ширази-каракуль знаешь? – и пугливо поджимал ноги, с которых свалились его опорки.
– И дети есть? – А мучила тошнота, как при отравлении табаком, и кружилась голова от безостановочного движения под ногами.
– Э, один… э, баранчук.
Так рядком и сидели, контрабандист и чусар, потому что внезапно порвались все привычные связи, логические и иные, и одна только взрывчатая искра бродила в обоих – сжечь мост, словно это могло предотвратить прорыв и гибель Дюшакли. Вдруг какая-то спинная судорога скинула Маронова с места, и Салых со страхом наблюдал последнее беснование чусара.
– Ур, бас… дави её! – кричал Маронов, без фуражки, которой уже не видно было под саранчой. – Эй, доган, бей… бей! – и сам показывал, как надо толочь её ногами, безумными, как челноки.
То была конечная, чисто биологическая вспышка самого организма, может быть, перед тем, как померкнуть совсем. Двое обгорелых людей скакали перед безвестным миру мостом, а саранчёвая лава двигалась, и только передние, смущённые нелепым и скачущим топтаньем исполинов, напрасно пытались тесниться и благоразумно раздвоить наступавшую колонну.
В этот день за четырёхчасовое дежурство телеграфист пропустил шесть тысяч слов и потом свалился у аппарата.
…Он не терял сознанья до конца. Как сквозь дым, он видел людей, которые сменили их на посту. Они спрашивали его, и гадливая дрожь, распространившаяся по всему телу, мешала ему отвечать. На нём разодрали рубаху, приклеившуюся холодной щекотной плёнкой, и он усмехнулся на эту помощь. Его посадили под дерево, прямо на песок, и дали воды, но она пахла так же, как всё – воздух, одежда и самые руки; он с отвращеньем выплюнул её. С ним больше некогда было возиться, да никто и не сумел бы так быстро починить сломавшегося чусара; даже прокурору, когда выяснилось, что прорыв произошёл без чьего-либо злого вмешательства, вручили лопату и поставили драться.
Маронов сидел тихо, различая лишь ноги – несравненное множество ног, таких неуклюжих в суматохе; потом ему стало почему-то обидно, он поднялся и, не останавливаемый никем, побрёл назад. Струи раскалённого воздуха текли отвесно перед ним, и сам он пошатывался в них, подобно пламени, качаемому собственным жаром. Так он и шагал в лохмотьях и чужом картузе, не умея справиться с нервной своей икотой. Это был воистину фронт, с той только разницей, что убитые наповал возвращались сами и пешком.
Навстречу шли люди, верблюды, повозки, отправленные на заделку пробитой бреши. Они не замечали Маронова, потому что он им стал ненужным, и только один со всего маху разлетелся на Маронова; плюшевой обложки на нём уже не было, и оттого трудно было в нём распознать специалиста по балансированью с кипящим самоваром.
– …Вы только посмотрите а? Республика в опасности, а они… – прокричал он фальцетом, пытаясь всунуть какую-то бумажку в обессилевшую руку начальника и обскакивая его со всех сторон. – Морду бить надо, морду этим типам… – Потом он увидел лицо Маронова, заморгал, сжал бумажку в кулаке и произнёс одно только слово: – Извиняюсь…
Кулига наступала развёрнутым фронтом в тридцать четыре километра; окрисполком кинул сюда все свои резервы, – их оказалось– ничтожное количество, и тогда по чрезвычайному соглашению властей были двинуты пограничные и сапёрные части, расположенные поблизости. Температура песка доходила до семидесяти, и никто, кроме людей да насекомых, не смел двигаться по этой обширной сковородке. Бой длился до ночи, канавы наливались хрусткой тёмной гущей, утрамбовывались и снова наполнялись, – так до трёх раз. Даже дехкане бежали от поднявшегося смрада; только грозными водоворотами бури возможно было промыть заражённый воздух. Это был фронт, с тем лишь выгодным отличием, что убитые снова оживали, чтоб продолжать борьбу.
Маронов очнулся четыре часа спустя: его пробудила жажда, во рту не было ни капли слюны, а язык лежал плоско, как покойник. Странные, апокалиптического размаха и цвета облака горели и дымили на закате, точно политые керосином. Он посидел с минуту, черпая ладонью горячий песок и раздумчиво продавливая его между пальцев. Густая куща саксаула, свисавшая над ним, показалась ему багровой. Ухватившись за неё, Маронов поднялся, допил воду из фляги и, как в угаре, двинулся назад, на покинутую им позицию, – республике было безразлично в эту минуту, сознание долга или проснувшееся Мароновское самолюбие руководило им. К вечеру он добрался до передовых линий; обязанности чусара временно выполнял всё тот же профессор в сапогах, «саранчёвая смерть»; он стал страшен, летучий профессор, к астме его присоединился нервный тик. Маронов отыскал себе лопату, но работать не смог, бросил её и кое-как добрался до ветхой глиняной развалины, из-за которой поднималась луна, пошлая и лоснящаяся, как дека сносившейся гитары. Лёгкий обманчивый холодок исходил от неё.
Крыша давно провалилась, и луна чёрными резкими треугольниками расчерчивала внутренность руины. Маронов вошёл и опустился на какой-то бочонок, забытый у стены. То, что ещё недавно можно было сравнить лишь с костром, теперь представлялось ему кучкой заглохших угольков. Всё было необычайно в эти сутки, и, хотя требовалось величайшее совпадение для этой встречи, он не удивился, когда увидел в тени против себя жену Мазеля. Как и он, она приползла сюда в поисках воды и хотя бы минутного отдыха. Она сорвала с себя платье до пояса и так сидела, откинув голову к стене и зажав какую-то увядшую травинку в зубах: если бы даже вошёл её отец, она не нашла бы силы прикрыться. Её отряд работал без перерыва от полудня до ночи, и жена Мазеля не отставала от мужчин. От женщины в ней не осталось ничего, и нужно было иметь большое воображение, чтоб понять увлеченье Якова и его малодушный прыжок на север.
Оба видели друг друга, как в тумане.
Она шепнула, не выпуская травинки из зубов:
– …уходите.
Маронов промолчал. Она спросила:
– Есть вода?
– Нет.
В проёме дверей двигались огни факелов. Пламена склонялись, потухали и возрождались снова, менялись местами в своём колдовском хороводе. Там, в зловонном мраке, происходили похороны убитой саранчи.
– Ну, что там… уже кончилось? – сквозь зубы спросила Мазель.
Он промолчал, он уже сбился сам.
– Тогда дайте пить… пожалуйста.
Питья не было: никто не вправе был выпрашивать воду у людей, которые там, в потрясающем безмолвии ночи, продолжали рыть канавы. Кроме того, среди всех, поблёкших за день чувств, зрело и крепло в Маронове лишь одно: злоба. «Подруга Пукесова, пусть идёт сама».
Наконец она узнала его:
– Ну, говорите… зачем вы приехали сюда?
Он продолжал глядеть на неё. О, как образ этой женщины не совпадал с тем, который он создал в тишине Новой Земли. Ему было больно, что этот облик, смятый стремительной действительностью мароновского века, так быстро меняется у него на глазах.
– Вы почти голая… закройтесь, – строго сказал Маронов.
– Зачем вы приехали сюда?
– Вы были женой Якова… закройтесь! – настойчиво повторил он.
Она не пошевелилась, она ещё не понимала, чего хочет от неё этот посланник мёртвого Маронова. В конце концов она не собиралась стать женой всех братьев Якова, которые ещё отыщутся на свете.
– …я не досказал в тот раз, а вы должны знать, как это было, – говорил Пётр. – Пусть с запозданьем, вы должны проводить Якова в его последний путь. Он любил вас даже, когда у него были синие гнилые пятна на ногах и дикая боль. Но надо было ходить, это было тоже лекарство. Мы ходили по очереди, а другой командовал и производил счёт шагам. Однажды он упал и сказал: «Теперь всё, Иза…» Тогда я завернул его в одеяло…
– Я не хочу о мёртвых!
– …завернул и потащил к берегу. У меня не было сил закопать его, я решил отдать его воде. Я тащил его по снегу и всё думал о том, какая сила у красоты… которая может рождать и убивать вот так, наповал. Потом я прилёг отдохнуть рядом с ним, а когда открыл глаза – катилась волна с океана. Я зажмурился и ждал, что смоет нас обоих… но она рассыпалась в десяти шагах. Мне замочило ноги. Вода всё-таки взяла его к себе… Так вот, слушайте меня! Это был последний на свете человек, которому ваше существованье доставляло счастье. Вам не казалось, что весь этот месяц какая-то частица его ещё бродила возле вас? Теперь он ушёл и унёс с собой и вашу молодость, и вашу радость…
– Я пить хочу, – просительно сказала Мазель; она вся сжалась, самая тень её стала меньше.
Он усмехнулся без гнева и печали. Только теперь он признался себе, для чего мчался в Азию. Его влекла потребность избавиться от чудесного видения, что сожгло его старшего брата, или покориться ему. Там, среди новоземельских скал, через безжалобное молчанье Якова, он и сам в первой привязчивой мальчишеской мечте полюбил эту женщину, – и слух о ней и её непривычное, как в стихах, имя, самое её пренебрежение к греху, с каким она уходила к стольким от терпеливого и слишком великодушного Шмеля. Ещё и теперь что-то чадило в Маронове, и, может быть, был только один способ затоптать в себе тот стыдный и живучий огонёк… Вместо этого Маронов поднялся; это далось ему легко, он отдохнул. Луна стояла за его спиной, Мазель не различала в силуэте его лица. Вдруг торопливо, непослушными пальцами она принялась натягивать платье на свои плечи, ощутившие холод. Ей почудилось, что это Яков – большой, добрый и чёрный – ещё раз навестил её перед тем, как уйти навсегда. Всё было возможно в такую ночь.
– Останься… – шепнула она, и ей удалось дотянуться до его пальцев.
Маронов отдёрнул руку; прежняя обжитая кожа уже сползла с него, а новая ещё не привыкла к прикосновеньям. Он вышел наугад; тростниковая труха хрустела под ним, как осколки зеркала, в которое когда-то с гордой радостью гляделась эта женщина. Его мысли были о смешном бегстве Якова и о самом себе, ещё вчерашнем… Когда, к рассвету, он воротился с флягой, он не нашёл места, где оставил Мазель. Руина стала неузнаваема; их там было много, целый мёртвый городок лежал у входа в пустыню. Луна гасла, всё становилось обычным. Здесь и произошла его собственная линька из юношеского возраста в следующий, спокойный и зрелый. А он-то думал, чудак, что тотчас за горизонтом юности начинается его закат!
Много спустя, когда Туркмения могла уже спокойно спать свои ночи, Шмель поехал проводить гостя, отправлявшегося в обратный путь на север. В ожидании поезда с Термеза он расспрашивал Маронова о подробностях незабываемой саранчёвой атаки, после которой в Кендерли производился пересев частично уничтоженных культур. И тот даже восстановил в памяти дислокацию и направление заключительных, уже разрозненных кулиг, всё – кроме последнего разговора с женой Мазеля.
– Рановато ты бежишь от нас, товарищ, – говорил Шмель, вертя Мароновские пуговицы. – Видно, не понравилась тебе Азия?
– Там у нас лучше, на Новой Земле, – смеялся Маронов. – Теплей!
– Но всё-таки хорошо, что ты приехал. Проветрился, вырос, набрался новых сил…
Они стояли на безыменном азиатском полустанке. Громадные кипы прессованного хлопка лежали под навесом – наглядное свидетельство того, что время это не прошло даром. Было сыровато. Начинался серый мурманский дождик. Дело склонялось на осень.
1930








