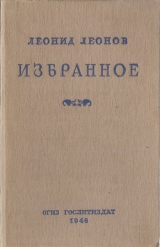
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Леонов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц)
– Плаваешь, видно, хорошо, парень, – через силу усмехнулся Увадьев, когда уже подходили к берегу. – Выйдет из тебя прок, но долго тебе гореть, пока твой прок выплавится. И когда невтерпёж тебе станет от огня и воя твоего, приходи… днём и ночью, всегда приходи. Ну, гуляй, пока не встренемся! – сказал он на прощанье.
– В пекле, может, и встренемся! – откликнулся Геласий, вытягивая лодку на берег.
…Там на брёвнах сидели макарихинские старики, подсушивая ветерком слежавшиеся за зиму бороды.
– Эх, так и не черпнула! – с сожалением зевнул один, и зевок его затянулся настолько; что сосед успел свернуть цыгарку. – Нет, что ни говори, а жисть наша всё-таки ску-ушная…
VI
С того момента, как Увадьев вступил на берег, и был кинут вызов Соти, а вместе с ней и всему старинному обычаю, в русле которого она текла. Он шёл, и, кажется, самая земля под ним была ему враждебна. Прежде всего он встретил косого мальчишку; примостясь на завалинке, мазал тот неопределённой мазью огромные отцовские сапоги.
– Здорово, гражданин, – пошутил Увадьев. – Как дела?
– Вот, нефта плохая стала, – куда-то в воздух произнёс мальчишка. – Ране, не в пример, маслянистей была…
– А ты откуда помнишь, шкет, какая ране была? Тебя, поди, и в проекте ещё не было!
– Ходи, ходи мимо! – проворчал мальчишка, гоня взглядом, как нищего.
Рабочие ютились в дырявых сараях в дальнем горелом углу деревни, и убогим очагам не под силу было бороться с весенними холодами. Такие же лапотники, они жаловались на здешних мужиков, которые, вопреки устоявшейся славе сотинского гостеприимства, драли и за молоко и за угол, а вначале приняли чуть не в колья. Пока не обсохла топкая апрельская хлябь, работы велись замедленно; ветку успели провести всего на три километра из одиннадцати, назначенных по плану; грунтовая дорога двигалась не быстрей. Не обходилось и без российских приключений; в благовещенье ходили молодые рабочие в Шоноху и угощались в складчину у прославленных тамошних шинкарей, угощались до ночи, а утром уронили с насыпи подсобный паровичок, подвозивший материалы. Когда добрался туда Увадьев, человек тридцать, стоя по щиколку в ростепельной жиже, вытягивали на канатах злосчастную машину, но той уже полюбилась покойная сотинская грязь. Тогда люди усердно материли её, как бы стараясь пристыдить, а потом долго, зябкими на ветру голосами пели вековечную «Дубинушку»; пели уже полтора суток, достаточный срок, чтоб убаюкать и не такое.
Наскочив вихрем, Увадьев сбирался разругать производителя работ, но тот лежал в Шонохе с воспалением лёгких, а десятник увиливал и всех святых призывал в свидетели, что пьян не был; и действительно, до той степени, когда человек лежит и ворон ему глаза клюёт, а тот не слышит, десятник в благовещенье не доходил; паровичок же скинулся якобы сам, чему содействовали весенние воды. Раскостерив десятника до изнеможения, Увадьев помчался на другие работы и везде встречал непорядки: цемент складывали под открытым небом, моторы везли неприкрытыми от непогоды; поверх стекла грузили ящики с гвоздями. Агитнув где следует, а порою и пригрозив, Увадьев воротился к вечеру в Макариху усталый и мрачный и, засев в чайной, ждал Лукинича, председателя, который всё ещё не возвращался.
По заслеженному, щербатому полу ходил петух в чаяньи какого-нибудь объедка. Косясь на него, трое строительных рабочих раскупоривали консервную коробку, а на них поглядывал мужик с сухой ногой, сидя просто так; вытянув сухую ногу, как шлагбаум, он играл прутиком с котенком. Пушистый этот зверёк принадлежал, по заключению Увадьева, девочке, которая тут же деловито протирала большой белый чайник с цветами, – а отец её, совершенный жулик по лицу, щёлкал на счётах за покривившейся конторкой; внизу были видны его опорки, вскинутые на босу ногу. Когда петух приближался, нога пыталась шибануть его, но тот был изворотливей. Люди, проходя через трактир, месили два разнородных запаха – махорки и кислых щей, но те не смешивались никак. Соблазнясь ароматом, Увадьев съел тарелку капустного варева и сбирался предаться чаю, – тут-то и появился Лукинич…
Наступили сумерки; трактирную посуду выпукло и багрово раскрасил закат. Уклоняясь от света, Лукинич сел в тень, но Увадьев рассмотрел его и здесь: был то некрупный, неопределённого возраста мужик, с грустным и плоским, как у полевого сверчка, лицом; одетый в старую военную шинель с отстёгнутым хлястиком, снабжённый доброкачественными усами; мужик показался Увадьеву моложавым. Молодила его как раз шинель.
– Задержался, рабёночка перекладал, – виновато сообщил Лукинич. – Мать-то у него закопали два месяца тому, так вот и живём – я да дитё да ещё дед, родитель мой, обитает. Может, видали его на лавочке, на берегу?.. который на евангелиста-т смахивает? Он и есть Лука, такая оказия! – Лицо его при этом стало ещё грустнее, но Увадьеву почему-то всё это нравилось. – Чего ж вы так, без чаю и сидите? Эй, Серпион Петрович, подкинь нам малость для подкрепления… выпиваете? – деловито осведомился он. – А то… для первого знакомства.
– Нет, уж я лучше чайку, – решил воздержаться Увадьев, хоть и чувствовал нехорошую влажность в сапогах.
– А то пейте: где власть, там и сласть, надо пользоваться! – Не боясь занозить ладони, председатель прилежно смахивал крошки со стола, и петух, уже отправлявшийся на насест, вернулся с полдороги. – А то, если конфузу боитесь, домой поедем. У меня пьян-мелодико есть, музыка такая, от монахов откупил, приятно гремит… Скукотно живём, знаете! – Болтая безумолку, он вместе с тем прощупывал гостя и раз даже, как бы ненароком, положил свою ладонь поверх увадьевской; прикосновенье председателя было холодное и влажное, точно земляной глыбы. – А то и тут, запрём как бы на переучёт товаров и гульнём, а? Эй, Серпиоша, ты нам цейлонского, да погуще завари!
– Цайлонский карасином залили, – заметил Серпион, изображая оживленье.
– Что ж, чаёк после щец хорошо, – подделываясь под равнодушие, начал Увадьев и даже зевнул для вящшей конспирации. – Как у вас тут, к свету знания-то тянутся?
Председатель разливал чай и сделал вид, что не заметил манёвра.
– Тянулись бы, да некуда. Прошлу осень погорельцы пришли с Енги. С малыми детьми, а дело осеннее… ну, и разместили в школе. А они, знаете, с горя-то самогон почали варить… а школа-то древяная, а огонь древо любит. Ну, знаете, и полыхнуло! – Ему неприятен был, видимо, этот разговор. – Ты, Серпион, хоть бы в баретки какие обулся… товарищ-то не за налогом приехал. Азият ты, Серпиоша! – Когда он снова поднял глаза, они были ясны, прозрачны и ласковы. – Вы как любите, погуще, в накладку?
– Мне… погуще, – хмурясь, промычал Увадьев.
Лукинич же, напротив, веселился:
– Школа подгадила… да ведь и у вас не слаще: паровичок-то всё лежит! Ничего не поделаешь, весна, её не оштрафуешь.
– Работу какую-нибудь ведёте… или как? – мрачнел Увадьев.
– Какая же работа, вон наша вся работа! – Он кивнул за окно, где рядком, в тесноте и под сенью двух столетних вётел ютились Центроспирт, исполком и сберкасса. Увадьев тяжко и строго поглядел на председателя, но тот бесстрашно выдержал его взгляд и даже нашёл силы усы покрутить. – В скиту, извиняюсь, устроились? А мы вас с той стороны ждали!
– Да, мы на Нерчемскую фабрику заезжали… дело было. Давно в председателях?
– На Парижскую Коммуну два года было. Я и ране во властях ходил, знаете: швейцаром у барыни служил. Между прочим ничего, но трудная работа. Стоишь, как кочан в одёжках, да всё крюка ищешь… куда новую шубу повесить. По двести человек бывало! А потом, как барыню покончили, так я и поехал сюда, строить новую жисть. Вы пейте чаёк-то! С лимончиком бы, да не растут у мужиков лимончики, а то с лимончиком бы хорошо…
Уже минуты три барабанил Увадьев по столу, еле сдерживаясь, но вдруг качнуло его вперёд, и гневом застлало сознанье:
– Хороший бы из тебя черносотенец вышел, товарищ!
– …а вы не доводите нас до этого, – так же, залпом, выпалил тот, но тотчас спохватился; видно было, что такие оговорки случались у него не часто.
И тогда, как бы желая загладить неудобную для первой встречи шероховатость, кинуло его на нескончаемую болтовню, временами походившую и на доносную сплетню. Тут и выяснилось, что к Савину Гаврилу, лучшему в волости бедняку, ходит в праздники брат, сторож из лесничества; они пьют сообща, после чего надевают старые картузы и идут драться на улицу и дерутся до клочьев, после чего, испив водицы, расходятся миролюбиво. С истории о загубленных рубахах перескочил он на Лышева Петьку, секретаря местной взаимопомощи, который набрал из кооперации товаров на трёшницу, а денег не платит, ссылаясь на бедность; на увещания должностного лица, чтоб занял хоть у приятеля, отвечал злодей превесело, что ежели и даст ему под пьяную руку знакомец, то и сам не доплатит столько же. И ещё рассказал он про молодого Жеребякина, который, чтоб в Красную Армию не итти, всё искал заболеть дурной болезнью, для чего ездил в город и возвратился с удовольствием. Лукинич не щадил языка, и от прежнего казённого благополучия не осталось и тени, а Увадьев, когда наскучила ему эта словесная кутерьма, обнаружившая лишь великое душевное беспокойство макарихинского председателя, просто раскрыл окна и стал глядеть на улицу.
День огненно плавился на горизонте; слепительный металл его стекал вниз, чтоб завтра же вскинуться в новые, ещё не бывалые на Соти формы. «Эва, крови-то, ровно из свиньи текёт…» – от глупости или тоски сказал про закат сухоногий мужик, шумно покидая чайную; пугало его преждевременное заклание сотинского дня. Окраска неба быстро менялась; насколько хватало глаза, везде по глубокой предночной синеве разбросались крутые облачные хлопья; теперь небо походило расцветкой на казанское мыло. Вдруг Увадьев посвистал себе под нос и высунулся в окно.
По улице шли трое таких, что никак нельзя было оставить их без вниманья. Огромный, молодцеватый детина, в пиджаке, в сплавных сапогах, шагал справа; изредка он трогал всё один и тот же клапан гармони и чутко прислушивался к звуку; ремень многорядки великолепно облегал его надменную и сильную шею. Слева мелко и часто ковылял на деревянных обрубках тоже молодой ещё парень в кожаной куртке, с чёрным не без удали лицом; он не поспевал даже и за медленной ступью приятеля, злился, пыхтел, усердно преодолевая деревенскую грязь, уже тронутую заморозком.
– Мокроносов Егор да невалид Василий женихаться пошли… – сказал в самое ухо Увадьева председатель и немедленно разъяснил, что когда-то, тотчас по возвращении из армии, дыбил Егор всю округу на новый лад, был с отцом – одним из столпов сотинской знати – на ножах, мутил молодёжь и крошил древний обычай, пока не завязли в липучем людском равнодушии его неутомимые лемеха. – У нас стареют скоро: ещё вчерась дитём было, а назавтра, глядь, бородкой обросло… – шептал Лукинич Увадьеву, но тот совсем не слушал, привлечённый другим, не менее знаменательным обстоятельством.
Посреди весёлого ряда шёл Геласий, хозяин гульбы, угощавший скороспелых приятелей на скитской, видимо, счёт. Скуфейки на нём не было, и медные космы его приобрели, наконец, себе желанную свободу. Наклоняясь вперёд, весь сосредоточась на внутреннем своём огне, он шёл вразвалку, как ходили когда-то кандальники, и, подобно каторжному ядру, влеклась за ним его короткая тень; через каждые три шага он останавливался и строго глядел на неё, но та не отставала. Перейдя мостик, Мокроносов широко размахнул гармонь и разбрызгал звуки по тишине. Тотчас, задыхаясь и стеня, инвалид закричал беспутную песню, и Вассиан, напрасно дожидаясь Геласия в тот вечер, наверно, слышал её со своего мыска… В небе лёгкий, как лодочка в разливе, покачивался молодой месяц, изливая ледяной, всепроникающий свет.
Потирая руки от холода, Увадьев захлопнул окно.
Глава вторая
I
Ветры дуют с моря, ветров много, дуют сообща. Рождённые на океане, баюканные в ледяных колыбелях, они в поисках иного, тёплого раздолья нестройными толпами вторгаются на материк. Лгали птицы, гостьи юга: в лесах мрак да тишь, в тундрах ровень да болото вересом поросли, на вересине комар сидит да лапой пузо гладит… Закутанные в метели, они поют тогда унывные песни о покинутой и милой родине, и вот на всей великой низменности, слегка холмистой и покатой к морю, останавливаются реки, наваливаются снежные небеса, а земля лежит бездыханна, одета в белые лохмотья зимы. К маю снова налетают обманщицы, дружно верещат ручьи, бегут крикливые ветры юга, а снег, разделённый поровну между Двиной да Волгой, шумливо расползается по своим отечествам-морям. Тут его заодно, на радостях, грузят рубленым лесом, грузят шпальником, коротьем, пиловником… поверх плотов садятся весёлые, горластые ребята, и освобождённые воды тащат, не чуя тяжести, не умещаясь в берегах.
Они едут и смотрят: по склонам холмов ельники, а по холмам сосна; пески да глина, да супеси. Дует моряна с севера, зеленя лезут туго, а жители все охотники да рыбаки. Лесные ещё смолу курят, приречные скотинкой живут, а остатняя треть разбредается с осени по отхожим промыслам. Города здесь по пальцам перечесть, оттого вой в городах и безработица. Оттого повелось от века: чуть снег – артелями расходятся по лесам, курятся чёрные избушки в глуши, с гулким скрежетом валится промёрзлый лес, а бойкие крестьянские клячонки стаскивают его на берег первобытным волоком, без подсанков, за ноздрю. А в самых дебрях, куда никто не ходит и ничего не ищет, бродит тленье, гибнет лес на корню, болотится, засорён перестоем да валежником, откуда всякая цветная гниль, в жару – отлупа, в холод – морозобоина и другая стихийная порча добра. Летом, едва теплынь, на тех же местах, где гуляли ледовитые ветры, зачинается великая гарь. Костерка не притушит охотник, сунет любознательности ради спичку в мох мимохожий озорник, и тогда на сотни вёрст страшно полыхает дебрь; ветер чешет её огненные колтуны, а солнце меркнет, как яйцо, забытое в костре. В те месяцы всё там, хлеб и вода, пахнет дымом; в отускневшем зное расслабленно звенит комар, и самый дым для горожан не более чем признак пришествия весны. В лесничьих сторожках одичалые, приставленные к лесу в дядьки, сидят бородачи; они спят и видят неописуемые сны, они страдают чудовищными флюсами и пьют втихомолку, зарастая волосом и равнодушные ко всему.
Именно пропадающее изобилье лесов и людей здешних, не вовлечённых никак в хозяйственный кругооборот страны, и надоумило Сергея Потёмкина заказать знающим людям эскизный проект небольшого бумажного предприятия. Ни существовавшая в соседней губернии на речушке Нерчьме бумажная фабричка Фаворовых, ни четыре изветшалых лесопилки, ни воры лесные не могли истратить полностью годичный отпуск лесов. Строенная в незапамятные времена Павла и с его царского благословения, оборудованная изношенными машинами фабричка с натугой обслуживала лишь местные потребности; из лесопилок всегда работала какая-нибудь одна, остальные чудесно бездействовали, а воры крали по брёвнышку, имея целью скопить за зиму сруб на отделённого сына. Вывозился к тому же крупный лес, а мелочь, дурняк да вершинник, всё, что тоньше законных четырёх вершков, оставалась на месте. Падаль заражала здоровый лес, плодился жучок, и одним лишь дятлам не под силу было справиться с сокрытным недугом: дятлы жирели, но и жучок не убывал. Потёмкин волновался, Потёмкин торопил с предварительным обследованием, ночей не спал Потёмкин, смущаемый гибнущими богатствами края; сам уроженец Соленги, юность до солдатчины проработавший на сплаве, а потом бумажником, он по опыту знал о возможностях своей родины. Оттого в беседе с приятелем он всегда заводил разговор всё' о том же.
– Гляди, миляга… – И тащил к карте, которая, как нарядный ковёр, украшала в молодости своей стены губернаторского кабинета. – Гляди и вникай. Это всё лес, прорва лесу… стоит, гниёт, сохнет. В нём водятся грибы, медведи, пустынники, черти, всё – кроме разума и воли. У меня ежегодно тысяч двадцать десятин сгорает, а в засухи… – Он именно хвастался размерами своей беды, определявшей размах его богатства. – Смекай: избыток рабсилы, хозяйства нетрудоёмкие… кто в лесорубы не уйдёт, тот штаны жгёт на печи да с голоду пухнет. Тьма, ведь они до сих пор керосин от кашля пьют… керосин, внутрь, понимаешь? А тут можно жизнь вдохнуть, кабы деньги. Жизнь продаётся за деньги…
– Ну и действуй… вывози своих чертей, продавай! – смеялся приятель.
– Купи, я тебе целые эшелоны наловлю… лесных, водяных, запечных! Процентов двадцать за наличный расчёт, а остальное шестимесячными векселями, а? – и горячее человеческое тепло исходило от него.
– Ты энтузиаст, ты известный энтузиаст, – закуривая, усмехался приятель и знал наперёд, что денег Потёмкину взять неоткуда. – Кстати, у тебя детишек, никак, прибавилось?.. девочка?
– Следи, говорю! – И он с новым ожесточением тыкал в то место карты, где Соть встречает, наконец, свою небуйную сестрицу. Он тыкал сюда ежедневно, мутное пятно образовалось на Балуни, но покуда, наклеенная на добротном холсте, карта выдерживала напор хозяина. – Сюда, гляди, направляется вся древесина с Тыньмы, с Соленги, с Шимолы с притоками, с Уртыкая… много леса, мильон кубов в год… э, куда больше! В этом месте мы её задержим, обработаем… здесь его обсосут сорок тысяч мужиков, а там…
– Суетлив ты, Сергей, и карту вконец испакостил.: Из пятна-то хоть суп вари! Ты его нашатырным спиртом попробуй, – всемерно сопротивлялся приятель. Тощий живот Потёмкина препоясан был ремешком, а пряжкой служила никелированная бабочка; от безустанного порханья этой бабочки пестрило у приятеля в глазах. – Рублей, поди, пятнадцать карта стоит…
– Ты… всерьёз слушать можешь? – не в шутку сердился Потёмкин.
– Чертила, дороги-то ведь нету!
– Тут только ветку… одиннадцать вёрст. На ветку-то и у меня хватит.
– А деньги?
– Ты дашь, ты богатый.
– Но я же не работаю больше в банке. Меня в резину перекинули.
– А в банке кто?
– В банке Жеглов пока.
Потёмкин хмурился и глядел в окно, где по обледенелым мосткам скользил на одном коньке мальчишка; в посинелых от стужи пальцах он держал кнутик, которым воодушевлённо подстёгивал самого себя.
– Жеглов?.. он в ревсовете семнадцатой не был? Я знал одного Жеглова… хотя тот, кажется, не Жеглов, а Жигалов… такая жалость. – Вдруг он махнул рукой и виновато улыбнулся. – Э, всё равно, следи… С Тентелёвки мы везём глинозём, а соду из Перми; вода же – фрахт дармовой! Серный колчедан, ты следи за моим пальцем, с Кыштыма… там как раз новый способ пробуют. Медь от серы отделяют, а получаются… как его… – Торопливо приподняв за лицо гипсового Маркса, он вытащил из-под него толстую папку и бешено залистал страницы. – Вот, нашёл: флотационные хвосты получаются…
– Хвосты, – понуро повторял приятель.
– Я, может, и путаю, но, по-моему, именно так: флотационные. Извести у меня полны карманы, хлорировать будем сами. Купи, я тебя засыплю известью!.. А ещё тут осенью геолог один наехал; целое лето копался у меня на Пысле, а потом я его вот здесь час целый чаем отпаивал…
– Озяб, что ли?
– …каолины отыскал, почище габаркульских! – Он вспомнил, что к каолиновому кладу нет ни дороги пока, ни тропки и в изнеможении присел на край стола.
Приятель с чувством вдавил окурок в переполненную пепельницу:
– Слушай, друг, я в резине, в резине сижу, понимаешь? Я калоши делаю, шины, кишки резиновые… Могу изрядную соску, не хуже довоенной, дивчине твоей подарить: в десять лет не изгрызёт, а?
…Так, бесплодно мытаря друзей, просиживая ночи с знакомым инженером над проспектами заграничных фирм, мечтая о пролетарском островке среди великого крестьянского океана, он первоначально имел в виду нечто вроде Нерчемской фабрички для высоких писчих и печатных бумаг, способных выдержать любые фрахты. Постепенно мечтание его пухло, множилось и уже громоздкие принимало очертания. Лесные массивы простирались бесконечно и столь разумно были изветвлены реками, точно природа провидела их будущее назначенье. Железнодорожная ветка Вологда – Мычуг позволяла бесперебойно снабжать бумагой потребляющие центры, а в случае прокладки намеченной по пятилетке магистрали Соленга – Кемь значение потёмкинского предприятия возрастало благодаря возможности использовать и внешний рынок. В месте слияния помянутых рек громоздился крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат, окружённый достойными его лесозаводами; напуганный собственной мечтою, Потёмкин стал вдруг сдержан и молчалив… Строительство идёт полным ходом. Пять тысяч строителей в три смены заканчивают возведение корпусов. Из Англии везут варочные котлы, каждый вместительнее его исполкомского кабинета; из Америки шлют оборудование лесных бирж, ещё не виданное в Европе; турбогенераторы и дефибреры едут из Германии. Медлительно и лениво стальные чудища расползаются по узорному плиточному полу и тотчас же их впрягают в широкие ременные вожжи. Они ещё спят, но однажды с рёвом и грохотом пробуждаются к работе, и в этот ответственный день Потёмкин ведёт неведомого Жеглова хотя бы на водонасосную станцию! Все волнуются, но не показывают виду. Выгнув толстые чугунные шеи, в которых бешено мчится теперь обезумевшая Соть, пыхтят и взвизгивают центробежные насосы, и Потёмкина не раздражают нарисованные кем-то на шее чудовища плутоватые глаза. Корпусов уже не семь, как мечталось вначале, а вдвое, и в каждом бьёт в лицо масляный зной, дуют зловещие электрические ветерки. В разлинованных улицах заводского городка цветут акации…
– Смотри, смотри, – дрожким шопотом говорит Потёмкин, – познать класс можно из книг, но почувствовать – только тут, у машин, когда они в работе…
Край благоденствует, рабочий вопрос улажен, лозунги о социализме сходят в жизнь со своих уличных полотнищ. При электрическом свете, мужики коллективно едят многокалорийный обед и, благодарно любуясь на портрет комбината, слушают радиомузыку. Жизнь им: легка и приятна, как новорождённому мир, но Потёмкин, и тогда не предаётся заслуженному покою. Потёмкин не спит; он выпрямляет и углубляет древние русла рек, вчетверо увеличивает их грузоподъёмность, заводит образцовое лесное хозяйство. Потёмкин объединяет три губернии вокруг своего индустриального детища. Потёмкин открывает бумажный техникум и произносит знаменитую впоследствии речь о пользе бумаги. Целлюлозные реки текут за границу, процент целлюлозы в газетной массе утраивается, все чрезвычайно удивлены, и сам он тоже втихомолку чему-то удивляется. В его снах, как в ночной реке, преувеличенно и зыбко отражаются дневные планы. Сны подгоняют явь, а явь торопит сны… – Оно истощало его, это непосильное мечтанье, как голодного мысль о хлебе.
Тотчас после предварительного обследования он заказал экономический эскиз комбината. Лучшие статистики губернии, химики, техники, инженеры полгода любовно вышивали этот замечательный ковёр. Написанный самым деловым стилем, отпечатанный на полутряпичной бумаге самыми грамотными машинистками губернии, снабжённый картами и диаграммами почти перламутровой раскраски, – проект по стройности своей походил на стихотворение. Сперва шли экономические предпосылки целесообразности, возвышенные почти до лиричности; затем, вслед за перспективами потребления, поминалось кое-что и вкратце о возможных или обещанных железных дорогах; потом дружные хоры цифр пели о сырьевой базе, и, наконец, проект заключался описаньями рек и их бассейнов, с высотами половодного и меженного уровней, с указанием мощности, а в некоторых случаях даже и химического анализа воды. «Нужда в бумаге, – говорилось в заключении проекта, – обострившаяся благодаря отпадению производящих окраин, повышается с каждым годом и грозит перейти в бумажный голод. Политическая обстановка дня и переход на культурную революцию, имеющую завершить материальные завоевания, внушительно требуют развития отечественной бумажной промышленности…»
Отпраздновав окончание проекта небольшой пирушкой, Потёмкин разослал его по всем хозяйственным властям, от которых зависело разрешение и кредитование комбината. Это произошло в начале апреля, но вот и берёза распустилась в исполкомском палисаднике, и пьяные слобожане стали выползать на молодую травку, а всё не поступало ответа в исполкомскую регистратуру. В конце июля, однако, пришла бумага из центра, где, принципиально соглашаясь с предложением губернского совнархоза, высокая власть сомневалась в возможности его скорого осуществления: кредиты были уже распределены… Прочитав письмо, Потёмкин раскрыл окно и целых полчаса пребывал в безразличном отупении. В воздухе, слабо попахивающем гарью, отдалённо гремела военная музыка. По площади прошли молодые люди из слободы, напевая под гитару:
Не влюбляйся в карий глаз:
Карий глаз опасный…
А влюбляйся в синий глаз…
Потёмкину стало не то чтоб скучно, а как-то не по себе, и ещё хотелось пристрелить гитару, как собаку. Колола вдобавок досада, что на всех хватает денег хоть и по нищему куску, а вот его безропотную Соленгу обрекают на прежнее прозябание. Вдруг он отвернулся и закусил губу, как делал прежде, когда сгоняемый плот, затирало на пороге. Тут же позвонил он в губком, секретарь которого тоже собирался в центр по делам особой важности; одновременно дано было распоряжение на вокзал оставить билеты на сквозной архангельский поезд. В ту же ночь, на полчаса заехав домой, он покинул свою обеделённую родину. В настроениях он ехал крайне нетерпеливых; в вагоне, кстати, познакомился он с одним волосатым инженером, патриотом Крайнего Севера, который, как и он сам, направлялся в Москву клянчить деньги на постройку того самого медеплавильного завода, с которого Потёмкин собирался возить свои флотационные хвосты. Не дослушав инженера, в котором, как в зеркале, увидел уродливое изображение самого себя, Потёмкин с остервенением вышел на площадку покурить.
– Всё бродишь? – окликнул его секретарь, папироска которого тлела в грохочущих потёмках тамбура.
– Слушай, у меня мысль… Если Соленгу с Унжей соединить, там всего сорок восемь вёрст, лесная база увеличится втрое. Тогда не шесть котлов по восемнадцать тонн, а и все девять ставь! Я из того веду расчёт…
– Иди спать, будорага! – тихо укорил секретарь. – Ночь, спать надо.
Тотчас по приезде они отправились в то высоко учреждение где прежде всего следовало искать поддержки; один из секретарей его, сам литератор и потом в особенности озабоченный судьбами советской бумаги долго расспрашивал Потёмкина о мужиках, к великому его неудовольствию.
– …ворчат! – молвил Потёмкин, угрюмо сворачивая на привычную тропу. – Лесу много, работы нет. На экспорт не берут, а в центр возить далеко. Доска не выдержит, а бумаге всё впору. Мы вот решили: надо на месте лес работать!
Приготовляясь к описанию сотинских преимуществе он подошёл к карте и пальцем искал на ней свою знаменитую реку, которую предполагал отныне прославить комбинатом. Он искал долго, и краска прилила к щекам, но то была не прежняя карта одной лишь губернии, а карта всей страны, с Сибирью, Кавказом и Туркестаном. По ней извивались чужие ему, мощные реки, распростирались зелёные расплывы низменностей, коричневые хребты знакомых по наслышке гор, серо-жёлтые лысины пустынь. Его палец заблудился в необъятном этом пространстве и растерялся, найдя, наконец, свою область. Её всю можно было прикрыть двумя ладонями, и великая Соть ползла по ней усмирённым червячком. Заодно поискал он глазами и Соленгу, замечательную милую реку, с белыми кувшинками в заводях, вольную и открытую, как улыбка, с голубой водой и луговыми берегами; он вовсе не нашёл её на, карте, словно стране не было дела до Соленги и её поэтических красот. Секретари шептались, и Потёмкин успел оправиться, но уже не умел вернуть себе прежнего воодушевления.
– …сырья на тыщу лет, мужик хороший, крепостным правом не испорченный. Бумага на корню гниёт, а нам газеты выпускать не на чем! – Он устал даже после того немногого, что ему удалось произнести.
Наконец ему пообещали, что делу будет уделено возможное внимание, и в Бумагу, к Жеглову, Потёмкин ехал уже в состоянии крайнего недоуменья. В сущности, для начала всё шло неплохо, но чему, расставаясь, так странно улыбался секретарь?.. Ах, да, он пошумел некстати, неугомонный Потёмкин. «Может, комбината и в самом деле не нужно, а газету можно печатать на фанере, на берёзовой коре или просто на облаках, как делают где-то в этой чудацкой Америке?..» Оттого-то в кабинет к Жеглову он входил не без враждебной насторожённости; ему казалось, что вокруг тяготятся его посещениями. Жеглов сидел не один, а с ним рядом молчаливая человеческая глыба с плотным, с почти заносчивым лицом, не располагавшим к задушевной беседе. «Тем лучше», – воинственно решил Потёмкин, и двинулся прямо на глыбу, но та прикрылась газетой и не допустила до себя; человек этот казался бы высоким, если б не был так коренаст.
– Товарищ, в очередь… – бросил Жеглов, второпях перебирая бумаги.
– Мне не к спеху, – откликнулся Потёмкин, печально удостоверяясь, что действительно в ревсовете семнадцатой они не встречались ни разу. – Пропускайте вашу очередь.
Он не принял приглашения садиться, ходил по комнате, укоризненно потыкал пальцем в бронзовую девушку на пепельнице, попробовал на ощупь бумагу, на которой напечатан был портрет вождя, и определил на-глаз процентное содержание целлюлозы. В этой серенькой, с окнами на один из древних московских соборов, комнатушке всё его раздражало. Тем временем шёл уже третий посетитель: огромный мужчина, татарин по лицу и речи, сдержанно бубнил о бумажных нехватках на местах.
– …баба в каператив приходит, сахар просит, сахар даём. Куда сыпать? В юбку сахар сыпать?
Жеглов заглянул поверх пенсне куда-то в календарь.
– За третий квартал вам обещано отгрузить пятьдесят тонн. Всё?
Тот не унимался и в раздумьи поглаживал необыкновенные свои габардиновые галифе:
– Погоди, мужик сахар просит, куда сыпать?.. в штаны сахар сыпать?
Жеглов забарабанил пальцами в стол.
– В ту же бумагу и сыпьте, товарищ… в ту же бумагу! – и звонил секретарю.
Проситель уходил в испарине, потрясённый убедительностью жегловского аргумента. В дверях он нерешительно оглянулся, загораживая проход, но раздались ещё какие-то звонки, и в щель пропихнулся мясистый человечек, обмахиваясь обрывком белого картона. Доведённый накануне до исступления, он заготовил Жеглову целую чашу жёлчи, но, видимо, смутился посторонних, людей и с отчаянья, точно козыряя, бросил Жеглову картонный листок, которым обмахивался. Затем, упёршись изогнувшимися досиня пальцами в стол, он шумно дышал, и вся бумага перед Жегловым шевелилась.








