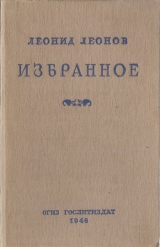
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Леонов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 45 страниц)
…Стоят леса тёмные от земли и до неба, а на земле сон. Спит всё, чему дано это сладкое беспамятство, и даже тягучие вешние воды ленивей текут подо льдом, омывая скитское возгорье. Полунощницу отпев, спят боговы мужики, а среди них престарелый Ювеналий, который безвыходно сидит в келье, как коряга; Феофилакт, всегда обсаленный, точно все обтирали руки об него; Ксенофонт, бегун с Афона; Агапит, всему миру безвредный и бесполезный приятель; Аза, что значит чернота, ибо слеп; рябой Филофей, осадная башня вопреки имени своему; Устин, всегда носящий пыль и ссадины на лбу, следы моленья; ещё Филутий, Кукий, Пупсий и некоторые другие, помянутые в ином и лучшем месте.
В угловой покосившейся келье спит на голых досках задушевный казначей Вассиан. Под навесом из трав, на которых проставлены заветные травяные имена, спит он сам, хранитель тридцати обительских рублей, спит, и горькие мечтания баюкают его старый сон; спит, и кошка ему лысину лижет.
Мнятся ему обширные пространства вырубленного леса, а на них цветут благолепные монастырские палаты. Возглавляет их шатровая колоколенка, видная из четырёх волостей, строенная по собственной его, вассиановой, причуде. Кружевные яруса легко взбегают вверх, а вверху развешены колокола, басовитые деды со звонкими внучатами. И будто бы в знойкое утро духова дня, напоённое колокольным плеском и птичьим щебетом, ждёт обитель губернаторского приезда… Богомольцами да всякой калечной паствой затоплена соборная площадь; по ней похаживают шустрые монастырские служки, сортируют народ, ибо равно и взору вышнего и земного начальства приятны умильные лица, утверждающие мудрость правителя. Сам он, Вассиан, стоит у ограды, прямо против паперти, слаженной из кованого рисунчатого чугуна, и зорко блюдёт порядок и благочиние… И будто всех он знает по имени отчеству, и его тоже знают все. Потом ветроподобно проскакивают взмыленные кони, и вот сам губернатор, сверкая сановной чешуёй, сходит из коляски на хрусткий, незатоптанный песок. Он улыбается, и все улыбаются ему, и даже могучий архангел, который в огненных сапогах изображён на стене собора, смягчает свой немилосердный, санкирный лик. Губернатора сопровождают чиновники с алчными лицами, чиновников сопровождают жёны с жёлтыми складчатыми шеями, а жён их – вертлявые молодые люди, которые тоже не без удовольствия улыбаются.
«Тим-тим, – приветственно говорит губернатор, кивая по сторонам, – тим-тим!» А Вассиану понятно, что это означает – «дать сему казнохранителю персицких изразцов на лежанку, с конями, цветами и воинами!» Он бежит чуть поодаль, Вассиан, и всё смотрит, всё смотрит с умилением и тревогой на блистающие губернаторские калоши. И вдруг сквозь радостную жуть восхищения своего он догадывается, что сейчас произойдут похороны, а покойник – это он и есть, шествующий впереди, нарядный и добротный сановник. «Тим-тим, – зябко шепчет Вассиан, кланяясь и забегая сбоку – тим-тим!» И показывает, придерживая рукав, на ветвистые, полные птиц и прохлады монастырские деревья, под которыми столь приятно и без особой скуки станет гнить тучная губернаторская плоть. «Тим-тим!» – в захлёбку звенят колокола, и даже нищий слепец, высунувший из толпы кружку под милостыню, воодушевлённо лопочет своё гнусавое «тим-тим».
Уставясь во тьму, Вассиан лежит с открытыми глазами, и нет во тьме ответа смятенным вассиановым запросам. Сообщница вассианова уединенья, кошка мягко спрыгивает на пол; она напрасно ищет еды, зевает и возвращается на хозяйскую овчину. Вассиан зажигает свечу и уныло, как кляча – вытертый свой хомут, обводит взором келью. Всё в ней, от стоптанных ошмёток у порога до подпалинки на иконе от упавшей свечи, вопит о нищете скита. Не склеивается разбитый сон, напрасно Вассиану даются ночи. Он берёт с подоконника узкий ящик с землёй; бледные ростки овощной рассады тянутся к нему, и он улыбается им безресничными глазами. Именно овощам он подарил остатки своей жизни, и они произрастали у него в изобилии, достигая порой ошеломительных размеров.
– Неслыханно, – дивился не раз Ипат Лукинич, председатель из Макарихи, любитель чинной беседы. – Это уже не редька, а целый продукт!
– Нет, – себе на уме, улыбался Вассиан, поглаживая хвостатого своего младенца. – А есть в этой земле нетронутая сила, и никто еще её не раскопал. Везде я искал, по степу бродил, у башкеров бывал, в горы солдатиком вторгался, а краше Соти не обрёл места на земле.
– Хлебушки-то у нас унылые, – возражал председатель, косясь на редьку, ибо пахли у Вассиана овощи.
– Не умеете силу раскопать, живёте, как цыган в палатке, без любви к месту, а всё жадничаете, а за боговым тянетесь… – И принимался за повествование, как он сжигал накорчёванные пни, как рыл водоотводные каналы, а тощие, мытые пески ежегодно унаваживал нечистотами, которые растаскивал на собственной спине. В те сроки и пахло же от Вассиана; в трапезной врыт был для него, особый стол, который все обходили. «Он злак любит, – говаривал про него хулительный брат Филофей. – Нюхнуть одинова, вóвек не отплюёшься!»
…А пересмотрев рассаду, оделся в кожан и вышел на добровольное послушание. Туман наползал на берег, в природе торжественная начиналась ворожба. Он зашёл за черпаком и корзиной, уже не пропускавшей жижи, и, помолясь на мысленный восток, двинулся в обход по ямам. Шла средина ночи. Посдвинув крышку, он черпал жидкую черноту, в которой иногда отражались звёзды, и относил на грядки. Состарившись наедине с природой, он привык населять свою глушь существами, вычитанными из рукописных цветников; он привык угадывать их всюду, куда не умел добраться разумом, и скорбел сильно, что никогда не доводилось ему встретить беса и сразиться с ним. Близился закат дня его, а всё медлил тот, и не удавалась встреча.
Об этом и раздумывал он у ямы, что близ самой кельи тимолаевой, когда раздался крякот в дощатом нужничке, и оттуда вышел, застегиваясь, чёрный коренастый мужик в меховом картузе, незнаемый дотоле казначею. Распялив глаза, трепетно ждал Вассиан продолжения видению своему, а туман сгущался, пожирая лес, и на размытом том пространстве один предстоял Вассиан сбывшемуся своему мечтанию.
– Трудишься, отец? – полюбопытствовал бес, причмокивая как бы конфетку. – Видно, и у вас даром-то не кормят!
– Ямы вот чищу, – охрипло отвечал казначей.
– Чего ж присматриваешься, аль признал?
– Ты бес… – путаясь в мыслях, сказал Вассиан.
– А бес, – чего ж не вопишь? – засмеялся тот, и туман поколебался вокруг, как взбаламученные воды.
– Гласу нет…
Брезгливая горечь отразилась в лике беса:
– Ну, старайся, отец! – и, стуча по мосткам, сокрылся в тумане.
Внезапная немочь разлилась по телу казначея; спотыкаясь, он бежал по цельным грязям и вдруг негаданным образом оказался на берегу. В этот именно час тронулась Соть, а Балунь ещё тужилась и синела, как нерожалая баба. Плотными хлопьями туман оседал на ветвях, расстилаясь от реки к реке. Мир покорно и леностно растворялся в нём, и, казалось, наступала та первозданная муть, в которой была разболтана когда-то вся последующая история людей, строительств и городов. Глухой треск наполнял ночь; огонёк из Макарихи потерянно сиял в тумане, как заблудившаяся звездёнка. Со страхом слушал Вассиан ворчливое пробуждение реки… Книголюбу, ведомы ему были обличье и повадки всех именитых бесов, но этот не походил ни на одного из них; он тогда не знал, что на деле ещё большая их разделяет пропасть, чем та, которая лежит между чортом и монахом. Уже ссорясь с разумом, всё домогался он имени новоявленного беса, а беса звали Бумага.
III
Утром, заново вылупливаясь из небытия, вещи выглядели с наивной и несмелой новизною; вот также и человек тотчас по сотвореньи умел только петь и пел не краше петуха. Дул гулкий, мокрый ветер; слышалось в нём и сдержанное рычанье вод и тягучие жалобы лесов, напоённых предвестьем гибели; мягкий, как тёплая вода, он озноблял. С обеда Увадьева потянуло на тот песчаный мысок, под которым с Сотью сливалась нешустрая Балунь. Обе они, малые сродницы великой реки, долгие лесные вёрсты текли извилисто, как бы отыскивая друг друга, и самое слияние их походило на робкое объятье двух разлучённых однажды сестёр. Сюда, на ветхую скамью, часто приходили, наверно, скитские старики любоваться на закаты, величавые, как вечность.
Воистину краше Соти не обрести было Вассиану места на земле. Огромными пространствами владел здесь глаз; они порождали пугающее желание подняться над ними и лететь. Было холодно наедине с этой пустыней и с первобытным небом, повисшим над ней. Увадьев сидел тут долго, изредка потирая охолодевшие руки и созерцая могучую синюю шерсть лесов, в которой только что начали простригать дороги; он сидел неподвижно, точно пришитый гвоздями, и только приход Фаворова всколыхнул его оцепенение.
– Простор-то… прямо хоть апокалипсис новый пиши! – крикнул он с узкой ступенчатой тропки, внизу которой ещё чернел на снегу костяк прошлогоднего парома. – Глаза ломит простором…
– Ещё пиво хорошо тут пить, – минуту спустя откликнулся Увадьев.
Фаворов с кроткой неприязнью покосился на этого обмозолившегося человека, которым новорождённая идея замахивалась на обветшалый мир. Самого его восхищала всяческая пустыня своею отречённой красотой и ещё той обманчивой свободой развития, которая существует только в природе; он верил, что Увадьев одобрит её лишь тогда, когда через неё, заасфальтированную, проедут на велосипедах загорелые смеющиеся комсомольцы, и со скукой отвернулся в сторону деревушки. Раскинутая на скатах небольшого холма, она цветом отсырелых кровель, державших кое-где клочья снега, удивительно напоминала разломленный ржаной ломоть, густо посыпанный солью.
– Съедим ломоток-то, – кивнул он потом на обречённую Макариху. – Смотрите, там разместится лесная биржа… вот, где баба идёт с вёдрами. Варочный корпус будет там, где собака. Стихия… не боязно?
– Ничего, глаза стращают, а руки делают, – всё так же односложно, не своими даже словами, ответил Увадьев, и Фаворов с любопытством обернулся.
Вкруг скамьи, по песку, ещё рябому от апрельской капели, лежали узкие, немужские следы; Увадьев изучал их с тяжким и недоверчивым вниманьем. Для обоих имя этой женщины, побывавшей тут часом раньше, звучало одинаково необыкновенно, но в одном оно поселяло волнение почти такое же, как вот эти корявенькие, набухшие прутики бересклета, сбегавшего к реке, а другой был готов глумиться над ним, потому что в этом заключалась его единственная оборона. Вдруг Увадьев встал и мгновенье прислушивался к самому себе.
– Пойдём… пучит меня от ихнего гороху.
Горох в эту великопостную неделю был единственной едой в скиту, где порой и вода именовалась пищей.
Здесь-то, на опрятной дороге, засыпанной крупным речным песком, и нагнал их посланец от игумена, тот неласковый рыжак, с которым познакомились ночью. Засунув руки за широкий кожаный пояс, деливший его злое и быстрое тело пополам, он остановился в нескольких шагах и выжидательно молчал.
– Подходи, парень, не бойся. Мы тоже живые… – бросил для начала Увадьев.
– Игумен велел на задушевную беседу привесть.
– Душу мы тут спасать не собираемся! – подзадорил Фаворов.
– Значит, губить её здесь собираетесь?
Он кидал слова с небрежной силой и, раскидав скудный запас, сбирался бежать, но Увадьев задержал его мимолётным вопросом, и они пошли вместе.
– Парень молодой, тебе бы в миру куралесить!
– Ношу бремя моё, пока ног хватат, – недружелюбно усмехнулся монах.
– Что ж, в ногах ума нет. Как зовут-то тебя?
– Геласий я.
– Вот, и имя-то тебе какое приклепали, чуднóе. Даже как-то на алюминий похоже!
– Геласий – значит смеющийся, – резко и вызывающе сказал дикарь.
Увадьев многозначительно переглянулся с Фаворовым.
– Над чем же ты смеёшься в жизни своей, Геласий?
Тот понял насмешку, и рыжая грива его стала ещё краснее. Теперь он шёл прямо по грязям и наступал смаху, точно хотел забрызгать спутников своих.
– Над всем, что в мире! Жулики да дураки… за волосья друг дружку теребят, а правда так и лежит в сторонке… и красы нет. В тебе, что ль, правда? – очень тихо спросил он, и Увадьев, дрогнув, заинтересованно покосился в его сторону. – Врёшь, она не любит мордастых, она их за версту бежит, правда-то.
– Ага, вот какой оборот, – посмеивался Увадьев. – Ликом я, действительно, не удался! – Длинные бороды ползучего мха свисали с деревьев; сорвав одну из них, всё старался он приспособить из неё хоть верёвочку, но не удавалась верёвочка никак. – А ты красы да правды не в дырке этой ищи, а в живых. Живые-то в мире живут… – Ему всё хотелось вывести разговор из закоулка на более просторную дорогу, и опять рвалась непрочная верёвочка.
– Ноне и мёртвые ходят, – жёстко бросил Геласий, и худая рука его схватила воздух. – Там, где живому боязно, мёртвому нипочём… – И, точно избегая увадьевских возражений, он прыгнул в лес через канавку и пропал; только мелькнула чёрная скуфья, которой не под силу было сдерживать его вьющихся бунтовского цвета волос, да хрустнула по пути обломленная ветка.
– Люблю злых, – минуту спустя сказал Увадьев. – Тугая, настоящая пружина в них, годная ко всякому механизму. Злых люблю, обиженных, поднимающих руку люблю.
– Вы умейте выпить яйцо, не разбивая скорлупы, – непонятно пошутил Фаворов. – Люди этого не прощают!
– Моё от меня не уйдёт.
Просека кончилась. Дежурный вратарь, по-бабьи задрав рясу, подбежал к ним из сторожки подтвердить повеление игумена. Имея достаточно времени, они решили принять приглашенье, а тогда к ним присоединилась и Сузанна. В последнюю минуту, однако, Фаворов чуть не отказался; нянька пугала его в детстве монахами, и он навсегда сохранил брезгливую неприязнь к людям, одетым в эти нелепые долгополые одежды. Кроме того, его делом было строить, а дробить и мять людскую глину он по справедливости предоставлял Увадьеву. Превозмогло то же самое любопытство, которое влекло и его спутников.
Четыре изгнивших ступеньки сводили к толстой двери в игуменскую землянку; было ясно, чем властней стучалась в эту дверь весна, тем исправней, разбухая от влаги, выполняла она своё назначение. Сузанна гадливо толкнула её ногой, но дверь открывалась наружу, и ей пришлось взяться рукой за осклизлое железо скобки. Не ладан, которого беспричинно боялся Увадьев, а тот кислый, как бы из капустной кади, запах, когда мужика много, и бездельно сидят в тесноте, пахнул ему в лицо. Кир, игумен, ждал не один, и Увадьев привычно, как на митинге, поискавший хоть одно молодое лицо, испытал лёгкое затруднение. Вдоль бревенчатой стены, низкой и без единого окна, сидели старики числом до двенадцати, водители и камни этой человеческой пустыни. Все они были носителями каких-нибудь душевных искривлений, пригнавших их сюда, и оттого Сузанна с изумлением видела ноздратые носы, вислые уши, пылающие глаза или, напротив, способные утушить пламя других глаз, огромные цынготные рты, разодранные немым криком, раздутые руки или руки, такие выразительные в худобе своей, точно их подчёркнуто лепил иронический художник. Сам игумен толстыми закопчёнными пальцами оправлял пламя светца; огонь облеплял его пальцы, от волненья не замечавшие ожога.
– Здорово, отцы, – кивнул Увадьев, сгибаясь и пролезая в нору. Одновременно со спутниками он подумал, что игумен нарочно зазвал их в эту яму, где почти вопила скитская скудость. – Как попрыгиваете? – повторил он на всякий случай.
– Дрожим! – отвечали ему из глубины кельи.
– Немудрено, в эку щель залезли, – безобидно улыбнулся Увадьев. – Тут и мокруша, поди, чихает…
Все помолчали, пока гости усаживались на заранее поставленную для них скамью.
– Ты шапочку-то сыми, тута не простудишься. Эка надышали! – поскрипел ближний старик и, хотя не слышалось пока ни вражды, ни порицания, Увадьев решил не итти ни на какую уступку.
– Не серчайте, граждане монахи. Голова у меня в войне контужена, и от воздуха как бы дрожание на неё находит. Я иной раз и сплю в шапке, такое обстоятельство! – Он мельком взглянул на Сузанну, но та не одобрила, кажется, его выдумки.
Тут, шаркая стоптанными сапогами, сухонький монашек внёс большой медный чайник; белый пар бился из носка. На растопыренных пальцах он держал стаканы по числу гостей; наспех обмахнув стол полой своей замусоленной рясы, он налил в стаканы густого берёзового чая и поспешно удалился.
– Вот, грейтесь чайком. Хоть и ночные, а всё гости, – поклонился Кир, придвигая три серых от времени куска сахару, сохранившихся, видимо, вместе с рублями в обительской сокровищнице. – Самим-то нам правило не велит, да и отвыкли…
– Чаёк обожаю, – просто сказал Увадьев; соскоблив с куска грязцу и налипший на него русый волос, он неторопливо отправил его в рот. – Волос сладости не убавляет! – взмахнул он бровью, почитая и грязцу за нарочную выходку Кира.
– Вот и славно, – приветливо продолжал игумен, – давайте ознакомимся сперва. От века признавали мы берлогу по жёлтой проплешине в снегу под вывороченным корнем; советских людей по обличью признаём, – он поклонился, как бы извиняясь за своё ненамеренное оскорбленье. – А мы мужики. А до пострига зверя тут промышляли, лис били, лосей загоняли. Михейко, эва, у медведицы дитёнка крал, она ему малость ляжку поела: так и хромат доселе на одно колесо. – Видимо, он волновался; пальцы его бегло обжимали пламя, как бы пытаясь вылепить из него знак, достаточный для устрашения Увадьева, – … а сам-то я живописец был. И я исправный, сказывают, был живописец. Успенье, дорогой мой, в ноготь мог написать. Иконка, и молиться можно, а вся в ноготь. Шешнадцать человек, и кажный с личиком, и у каждого в глазике соседик отразился.
– Очень интересно, – молвил Увадьев, приступая к чаю. Он пил его с видимым удовольствием, невзирая на явный берёзовый привкус, пил не спеша, и даже лёгкая испарина проступила у него по лбу. Игумену он не возражал до поры, справедливо угадывая, что карьере игумена предшествовала многолетняя деятельность скитского духовника.
– … а сам я сюда пришёл от неправды людской, – тянул Кир, озираясь на братию. – Братца у меня повесили, обожаемого братца. Удавили на Костроме…
– Кто ж его так нехорошо, братца вашего..? – вступил в беседу Фаворов.
– Кто!.. у кого власть, у того и петля. Царишко удавил, ему пределу нет.
– Правды, что ли, добивался? – надоумясь недавним разговором С Геласием, любопытствовал Фаворов.
Игумен засуетился; в движениях его скользнуло кратковременное раскаяние, что не воздержался от упоминания о братце.
– Как тебе сказать, дорогой мой?.. людишек он побивал. Ведь поискать, так и праведника в петлю вставишь. Без греховинки-то вон огнь един, да и тот жжётся… – И опять он продолжал говорить, цветистой многословностью своей вызывая негодование братии, а Увадьев всё пил и, бережно отставив в сторону допитый стакан, принялся за другой, от которого отказался Фаворов.
Монахи терпеливо глядели ему в рот, напрасно выжидая, что вот он сам обнаружит, много ли власти возложено на него, много ли беды привёз с собою. Волновались они не зря: уже творились в округе вещи, не сообразные с древним обликом Соти. Ещё с зимы в Макариху стали собираться многолюдные артели рабочих, которые тут же и расселялись по мужицким избам. Толком никто не знал, а десятники и техники лишь перемигивались на скороспелые тревоги черноризцев. Не меньше двухсот подвод, нанятых из окрестных деревень, ежедневно везли со станции бутовый камень, алебастр, железо всех сортов, паклю, стекло, гвозди; они везли и вязли в добротных российских грязях: распутица вконец разъела зимники. Одновременно с этим свыше четырёхсот мужицких топоров да лопат прокладывали грунтовую дорогу на Шоноху, прочерченную каким-то сумасшедшим чертёжником прямо через болотистые леса. Чуть не по колено в воде, тотчас за метчиками, шли рубщики, открывая мостовщикам и дерновщикам широкую, шестиметровую тропу; они безжалостно врубались в дебрь, от топоров переняв свою повадку, и там, где раньше щебетала птищь да путлял сонливый зверь, встали, ныне хлибкая брань да железный клёкот. На виду у всех, по слепительному весеннему насту ежедневно бродили кучки людей с треногами и всё искали, всё искали в трубках нивелиров тот безвестный лысый бугор с часовенкой, при которой от века существовал монах, собиравший даяния со всяких мимоезжих людей. Вечерами они возвращались злые и молчаливые; ели так, точно в утробе у каждого сидело по батальону солдат; спали так, что и пушками не пробудишь. Округа терялась в тёмных догадках, и даже сам Лука Сорокаветов, родитель макарихинского председателя, присяжный отгадчик мировых тайн, только руками разводил на запросы однодеревенцев. Явствовало лишь, что по проложенной дороге прикатит вскорости лютая машина, которая неминуемо пожрёт и несуесловную прелесть места, и тишину – наследие дедов, а вместе с ней и мелетиево детище.
Еле переводя дыхание, Кир смотрел украдкой на эту невозмутимую глыбу, свалившуюся ему на голову, на его большие в тёмном пушке руки, такие же широкие в запястьях, как и в ладони, на его костистые, вроде наковален, колени и, хотя не делил с ним чайного удовольствия, такая же испарина проступала у него по лицу. А тот всё пил, наевшись селёдки в обед, и цвет его причудливо менялся, как у стали в закалке. «Эка, чай-то хлещет, ровно на каменку в бане льёт!»
– Какие вас сюды ветры завеяли? – не вытерпел, он наконец.
– А нас не ветры, мы сами, – очень строго произнесла Сузанна, и все посмотрели на неё с осуждением, точно совершила явную непристойность.
– То-то, сами… Ты, бабочка, сиди; баба посля всех тварей сотворена была, не с тобой речь! – твёрдо обрезал игумен, а Увадьев даже от стакана оторвался, чтоб удостовериться, не начался ли уже скандал: всё пока обстояло благополучно. – И Геласия-то сутемень напугала. Да и сами в страхе живём! Соглядатаи с трубами по полям ходят, в трубы ищут, а чего искать? Мест много, на все места людей нехватит!
– Мы не таких местов ищем, – вставил Увадьев, неуверенно берясь за третий стакан, и тотчас Кир оживился.
– Каких же местов ищете?.. для поправки, так на Соленгу езжайте; там и калеки ходят, и бесплодны рожают, как поживут. Домой-те приедешь, а начальство и не узнает: рожа-те чисто вымя коровье станет. А коли охотных местов надо, так это на осьмидесятой отсоль версте, местность Креуша. Всё идите, всё идите, сперва сухопутьем, а там болотце встренется, вы и его прейдите! Добычники сказывают, лоси-то прямо на опушках табунятся…
– Рыжички там хороши, – нечаянно проговорился один, с маленьким лицом, совсем увязшим в бороде, и вдруг зашёлся в оглушительном простудном кашле.
– Рыжички тоже очень хорошо, – поддержал Увадьев, когда всё пришло в прежнюю стройность.
Кир опустил глаза, а пальцы его стремительней побежали по лестовке.
– А то поживите бельцами у нас, моленьем да ладаном не поневолим. У кажного своя вера, как ему гибнуть написано. Гуляйте, скоро уж и черёмухи запоют… – Он так и не заметил своей оговорки. Вдруг он поднял слезящийся взор, тоскливо и тускло светилась в нём беда. – Мятежно в скиту стало, и не вы, гости ночные, мятеж к нам привезли. Уж дороги ведут, железо везут, а мы не ропщем, а мы поём богу нашему, доньдеже есмы. Назад тому ста годов более воздвиглась тут, у мочажков, чёрная Максимова изба, мать киновии нашей. А был Максим не барин, не штабской сын, не купцовой жены племянник, был он солдат беглой. Двадцать лет воевал врагов царских, не одну бадью крови отдал, а в отмету службы велено было забить Максимку палками, он и убёг сюда, чтоб тут Мелетием зваться. Вот мы и живём как вареники в масле, корьё жуём, да всяку добуду лесную, ещё воздухом дышим, за сирых бога молим, за помин рупь в год берём… за ту единую вину нашу простите нас, гости ночные!..
– Чего ты юлишь, пускай они юлят да право своё покажут! – шепнул гневно ближний старик, несравнимо косматый. – Наше право вот оно… – и совал Фаворову в руки скрипучую грамоту с восковой печатью; в красном воске виднелась благословляющая рука.
Фаворов, посмотрев бумагу, сказал мерси и отдал назад.
– Бога-те отсель взашей, а на его место свояка посадишь? – бурчал всё тот же старик. – Что ж, коли непьющий, может, и сойдёт.
И тотчас, как по сговору, монахи засмеялись, – задвигались, заговорили. Они всяко хаяли своё место, и один разумно указывал на дикость людей и лесов здешних, а другие упирали на то, что допрежь ни царь, ни его верные псы не трогали священного убежища. Кто-то крикнул со стороны, что царь-де ремённой плёткой стегал, а этот, поди, железную привёз, и тогда сразу наступила тишина, точно перед строем в барабан ударили. Увадьев сосредоточенно жевал карамельку; подозревая, что скиток мог иметь крепкие корни в окрестных мужиках, он до времени избегал ссоры, но по лицу его достаточно было видно, что царишко ему не резон. Уже грозила нахлынуть буря на этот непроглядный человеческий лес, но тут неожиданно в действие вступил Фаворов, и развязка этой опасной встречи затянулась.
– А, кстати, что это такое, ваш бог? – заинтересовался инженер и полез было за папироской, но вспомнил исключительность места и вынул лишь носовой платок.
– Бог, – это всё, что есть, а чего нет, – тоже бог, – спокойно сказал молчавший дотоле молодой монах, и Увадьев удивился, как это он проглядел его раньше. – Начало вещам – он, он же и конец, ему же и поклонись.
– Скажи, скажи им, Виссарьон, – обрадованно сунулся Кир. – Порадуй батюшку!
– О несуществующем не может быть и мысли, – улыбчато метнулся Фаворов, соображая – про какого батюшку помянул игумен. – Но хорошо… ваш бог… имеет ли он вес, объём, величину?
– Нет.
– Что же он такое?
– Бог!
– Это Парменид, но только в русских смазных сапогах! – громко сказал Сузанне Фаворов, а Увадьев, не подозревавший в нём таких знаний, легонько подтолкнул его ногой, чтоб уж не сдавался. – Где же он живёт?
– Везде.
– Значит, он постоянно движется?
– Нет, неподвижно божество, и не подобает ему перебегать с места на место. Тот, кто сам конечен, всему домогается конца найти…
– Ксенофан! – блеснул глазами Фаворов. Ему нравилась эта безрезультатная, годная хотя бы и для древней Александрии словесная пря. До начала большой работы оставались ещё несколько дней ледохода, и он непрочь был размять в этом споре затёкшие от скитской скуки мозги. – Что же он делает или чего жаждет он?
– Жажда смертности нашей основа. Он не имеет жажды.
– Значит, он – мёртвый?
– Нет, но вечный… – скрипел фаворовский противник, заслоняясь испытанными элейскими щитами. Может быть, он нарочно обращал на себя внимание этим спором, слишком неподходящим к такой именно мужицкой Фиваиде; все видели, что он слишком много знает о боге, чтоб верить в него. Одежда его была неряшливей, чем у других, но руки его, тонкие и чистые, достойные зависти любого архимандрита, на странные наводили подозренья; их он прятал тщательней, чем глаза, рассаженные глубоко в подбровных ямках. Из впалых щёк его отвесно, как у китайского архата, текла борода, и ему, видимо, ещё не наскучило изредка гладить её ладонью. Кроме явных и просторных этажей, имелся в этом человеке какой-то душевный подвальчик, и Фаворов решил когда-нибудь ещё поговорить с ним на досуге.
– Вы – образованный человек, вам стыдно быть здесь, – заметил он вскользь.
– На протяжении веков господь побивал нашу землю не только дураками, он карал её и умниками… – обиженно бросил Виссарион, смутясь пристального сузаннина взгляда, и вдруг поспешно вышел из землянки.
Его проводили неуклюжим, испуганным молчаньем: никому другому не было под силу продолжать незавершённый поединок. Снова грозила начаться рукопашная, и Кир, не дожидаясь, пока улягутся нахлынувшие страсти, осторожно приступал к своим хозяйским обязанностям.
– Вот и живите у нас… погуляете, поспорите. Спор, он проясняет. А надоедят серячки наши, в Макариху поедете. Деревушка веселящая, все и старухи-то, прости господи, танцухи… – Вместе с тем, страшась утерять до срока увадьевское расположение, он постарался свести беседу на более безопасные вещи. – Молодая-т – жёнка, что ль, твоя? – уже ласковей кивнул он на Сузанну.
Увадьев, который зевал втихомолку, так и не дозевнул до конца.
– Не, жёнка у меня там, далеко… – неопределённо махнул он, и все поняли, что разлуку с ней он переносит без особого вреда для здоровья. – А это техническая помощница наша, химичка и вообще… – И этот второй его жест был ещё непонятней первого.
– Ишь ты… и жалованьишко, поди, получаешь! – мямлил Кир, глядя на ноги Сузанны. – Не обижает хозяин-то?
Но прежде чем Сузанна успела ответить, случился тот беспримерный в истории скита скандал, который и обнаружил истинные настроения мелетиева стада. Не обронивший ни слова с самого начала, грузно поднялся с места рябой Филофей, и Увадьеву не трудно было понять, что этого не переменишь, что с этим придётся драться то конца. Он был кузнецом когда-то, но променял на моленье славное своё ремесло, и теперь только большие чёрные руки его можно ещё было уважать в нём. Наверно, он умышленно шёл на открытую распрю, потрясая огромной головой и даже в этом, малом, подражая тому неистовому Аввакуму, которого положил как печать в сердце своём.
– В каких трудах помощница-т… во днях аль в нощи? – с хрипотцой спросил он. И все вокруг опять засмеялись резким звуком распиливаемого дерева, а он стоял посреди, как гора среди малых холмов, обдуваемая ветерками. Старики задвигались, пламя закачалось в плошке, как маятник, по бревенчатой стене заскакали угловатые тени, – целые вереницы гримасничающих теней.
– Уймись, Филофеюшко, не срами… – только и умел крикнуть Кир хулительному брату.
– Кол, кол сунь в гортань мою не престану, – и вытянутый палец, как ружьё, наставлял в старинного врага своего, Кира. – Полно блекотать-то! Свету како общенье с тьмой?.. Ты его чаишком поишь, а он, эвон, ржёт, аки жребя! – махнул он на Фаворова, который откровенно улыбался на эту внезапную волну страстей. – Ты мне, Кирушко, перстом не грози! Ежедень бей меня святым кулаком да по окаянной шее… и побьёшь, и во чрево мне песок насыпешь, и умру… да восстану, да оживу в сотне уст, да опять вопить стану. А опять побьёшь, мёртвый смердеть стану, псиной тебя задушу…
– Псы-то по естеству смердят, а в тебе дух воняет! – Усталость мешала игумену удерживать долее достоинство власти.
– Пёс есмь солнца моего, лаю поколе жив… хвостом обижен, ино и хвостом бы вилял. В Соловецки-те времена, бывало, наедут, башку отмахнут, да и отпустят, а ноне душу самую в тиски смятения смертного закрутят. А в конечный день, как тряхнётся земля и колынется небо, утерявшее цвет свой, разумы-т людские ровно тыквы лопаться почнут… заревёт труба, на гору положена… тоды я тебя вопрошу, Кирушко, старого балдака: хде был?.. Летучие самокаты бегли, пену да пар из железных морд пущали, драконы со змейчихами в обнимку шли пить сок людского сердца, потребный вышнему, а ты им сединкой своей путь разметал? Эх, метла-метёлка: балы, машкарады, смрад их тебя прельстил? Танцуй, танцуй под ихнюю свирель!..








