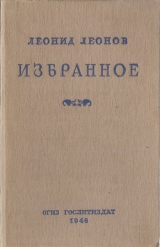
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Леонов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 45 страниц)
Был жалкий всхлип:
– Всем отвечать, всем… гражданы, всем!
Толпа пятилась и расступалась от места, где должен был лежать поверженный человек, но ничего там не было: только рядом с раскрошенным фаддеевым коньком чертил пыль сереньким крылом затоптанный курёнок. Ужасная трусость охватила всех, и тогда-то Мокроносов, пользуясь временным замешательством, приступил совместно с милицией к арестам; предоставляя суду впоследствии разобраться в виновности каждого, он брал почти без разбору, – только вглядывался в лицо подозреваемого и по какой-то сокровенной дрожи в глазах угадывал преступника. Никто не возражал ему; временно, до расправы, их отвели в клуб, дали воды и хлеба, а пол застелили соломой, чтоб спать.
Свечерело, а на брёвнах остался сидеть только один Виссарион, свидетель происшествия, так с самого начала и не замеченный никем. Должно быть, не утомясь ещё зрелищем дикости и крови, он подобрал с земли курёнка, эту первую жертву своей игры, и, держа на ладони, долго глядел, как затягивали его глаза два смертных бельма. Потом, когда надоело, он поднял отяжелевшие веки и стал смотреть на остывающее небо и далёкие, как бы углём начерченные на нём купы деревьев. Пустынная незатейливая графика пейзажа напомнила ему затрёпанную фразу из учебника: «Мезозойская эра изобиловала…» Он сам видел, чем изобиловала она; на его глазах длинношеие чёрные животные, лоснясь глянцовитой кожей, сходили с меркнущего горизонта в сотинскую ночь. Бесплотную пяту чудовищ уже не обжигало полузатухшее уголье и жемчужная зола заката. Всё было очень просто и значительно; только перила деревянной трибуны, черневшие в небе, мешали целостному восприятию мезозоя; была досада, точно богатый нерасчётливый художник перемудрил, поставив её именно здесь. Он поймал себя на мысли, что Атилла ещё не конец, а конец там, за пределами сущего, но он не понял, что, только будучи мёртвым, можно шагнуть туда, назад.
Глаза его смыкались, когда он услышал шорох позади себя; он скорее удивился, чем испугался. Неслышно взобравшись босыми ногами на брёвна, сзади стоял Лука; застигнутый на месте, он хмыкал, слюнился, а насекомое лицо его поминутно менялось, как тесто, которое месят.
– Курёночек-то, а?.. Курёночек-то! – шептал он и всё тянулся назад, грозя рухнуть на Виссариона. Руки он прятал за спиной – сороковетовская привычка, и стоило взглянуть на него, чтоб понять его нынешнее намеренье, но у Виссариона как бы пропало сопротивление к смерти. Подобно стеариновому огарку, что-то оплывало в нём и растекалось в лужицу у собственных ног. Он смотрел на Луку до тех пор, пока старик не отступил назад, в крапиву, из которой выбрался на брёвна. Никто не видел их вместе…
IV
Длинная телеграмма Бураго о событиях на Соти пришла к Увадьеву за сутки раньше газетных сообщений. Местный корреспондент, сообщая подробности бесчинств, очень уместно приводил количество дворов в волости и выручку шонохской винной лавки за один тот праздничный день. Совмещая это с добавочными известиями, полученными в тресте, о каких-то беспорядках у биржи труда, можно было получить широкую и ложную картину волнений на Соти, хотя, в сущности, то было обычное при безделья брожение, вызванное заминками на Сотьстрое. В последующей секретной телеграмме от строительской ячейки сообщалось о непрерывных попытках рабочих освободить товарищей, которых из общего числа арестованных сорока двух человек приходилось чуть меньше половины; ячейка настаивала на освобождении и крестьян, чтобы не обострять создавшихся отношений. Той же ночью, посоветовавшись с Жегловым, Увадьев отправил в уезд телеграфное требование немедленно освободить всех, задержанных по случаю побоища. Беря всё это на личную ответственность, он действовал противозаконно, но закон и не предвидел подобных заострений в действительности. В душе он готовился ко всяким переменам, вплоть до смещения своего с должности, так как почти все, с кем ему приходилось встречаться, смотрели на него как на истинного виновника сотинской заварухи.
В эту ночь он совсем не спал, вместе с Жегловым мучаясь над докладной запиской в Бумдрев; надо было доказать, что не замедление, а лишь убыстрение темпа работ способно выправить положение на Соти. Когда машинистка поставила последнюю точку, в окнах белёсо пучился рассвет. Мельком взглянув на часы, – и сперва ему показалось, что на циферблате вовсе нет стрелок, – он вскочил и принялся собирать бумаги.
– Куда экую рань?
– Надо на аэродром поспеть. Сегодня Потёмкин летит… неудобно.
– Куда?.. Да, я и забыл. Ну что ж, кланяйся ему, Потёмкину, желай! – Жеглов покрутил шнурочек пенсне. – Кстати, поедешь на Соть – забирай с собой этого Роберта твоего… пока он вконец не разложился.
…город, зевая и стеня, распрямлял невыспавшиеся члены; в жилах его опять заструилась дремотная кровь. Небо было пусто, точно вылизанное. Стоял ранний час; посреди крупной улицы лежала дворницкая метла, и все её торжественно объезжали; этот час принадлежал ей. Заспанный шофёр переспросил адрес, и Увадьев вторично назвал ему гостиницу, где временно проживал Потёмкин. Дряхлый мотор кашлял, заставляя вздрагивать седока, и тем злее лаял на новёхонькие машины, которые встречал на перекрёстках. Отражаемый домами, то голубой, то розовый проползал по рукам Увадьева утренний свет. Вдруг отражения потухли; серая плоская громада надвинулась из-за последнего поворота. Увадьев побежал вверх по лестнице. Пропуска выдавала женщина в красном платке. Швейцар тащил урну для окурков. В номере плакала девочка. Потёмкин сидел один, в старом прорезиненном пальто и в кепке; он походил на просителя, дожидающегося аудиенции у высокого и грозного лица. Кресло поглощало его наполовину, а снаружи на него напирала бронза зеркал и плюш богатых гардин. Увадьев заметил, что рука Потёмкина лежала на кнопке звонка.
– …кому так названиваешь?
Потёмкин иронически дёрнул плечом:
– Надо же снести вниз чемодан, я даже ходить разучился… минут пять звоню. Чудаки, они думают, что я уже умер… – Он говорил совсем тихо и так, словно ему было неловко разубеждать в этом Увадьева.
В комнате пахло погребом, но на столике в длинной вычурной вазе стояли блёклые флоксы, напоминая об осени; цветная осыпь лепестков отражалась в красном лаке стола. Пузырьков аптечных нигде не было видно, они стали не нужны. Увадьев раскрыл окно и высунулся наружу.
– Э, воздух-то… ровно сельтерская вода, хорошо. Завидую тебе, едешь в самую кавказскую гущу, в цветы, а меня сегодня пороть будут. Кстати, кто тебе цветы-то преподнёс?.. амура завёл втихомолку, а?
– Нет, это дочь у меня. Она любит.
– Она поедет с нами на аэродром?
Потёмкин взглянул с удивлением:
– У ней уже кончился отпуск, она уехала третьего дня. Со мной едет Крузин такой, он у меня в исполкоме… А с дочерью мы распрощались, да.
– Ах, вот как… очень любопытно. Ну, что ж, едем!
Держа одной рукой чемодан, другой придерживая друга, Увадьев спускался по лестнице; Потёмкин виснул на руке, мешая итти, и Увадьев уловил в себе стыдное желание схватить Потёмкина подмышку покрепче и нести, как вещь. Он вспотел, прежде чем добрались до выходной двери, и швейцар, единственно из сочувствия Увадьеву, побежал взять у него чемодан.
Снова чихал мотор автомобиля, и сточившиеся внутренности гулко сотрясались в нём; снова сдвигались, раздвигались и падали позади цветные плоскости стен; бежали под колёса знакомые улицы – Моховая, Никитская, Тверская, а Увадьев изучал приятеля украдкой и находил, что у него похудела даже голова.
– Тебя не трясёт?.. Вообще, ты как чувствуешь себя?
Тот испугался вопроса:
– Нет, совсем неплохо, совсем. Мне предлагали кровь перелить… есть такие студенты, продают кровь. Не могу, стыдно… – Он взглянул на Увадьева и быстро отвёл глаза. – Ведь они со мной целый месяц возились: всё-таки вроде губернатора был, нельзя. Чудаки, одного электричества рублей на пятьдесят извели. А я сижу и хитрю: дело-то ведь ясное! – Он помолчал. В улицах вслед за дворниками появились газетчики; Увадьев остановил машину и купил газету, но прочесть так и не смог. – На-днях выхожу… то есть выводят меня из лечебницы, вот где электричеством-то меня пичкали… и подкатывается нищий, в разлетайке такой… «Вы тоже резонёр, коллега»? – спрашивает. – «Нет, – отвечаю, – я – комик».
– Ну, какой же ты к чорту комик! – усомнился Увадьев.
– Нет, это я пошутил ему, что комик. Ты не опоздаешь со мною, а?.. Вот уже полчаса вижу я тебя, а всё боюсь спросить про Соть. Боюсь, понимаешь?
– С Сотью справимся! – махнул Увадьев.
– …справимся, а в газетах-то ругают!
– А ты, что же, триумфального шествия хотел?
Больше они не говорили до самого аэродрома; да и там, подходя к самолёту, они обменивались лишь самыми скудными и обычными в этих случаях словами. Крузин, спутник Потёмкина, этакая белая булка с колбасой хохотал, с оживлением щупал себе карманы и дважды пытался рассказать анекдот про человека, который ехал без билета; кажется, только природное добродушие заставляло его делиться с друзьями всем, даже услышанной пошлостью. Увадьев строго поглядел на него, и тот, покорно отойдя в сторонку, завозился над багажом.
– А смешно, наверное, там наверху; видеть землю, понимать её и не уметь прикоснуться к ней… – не утерпел Потёмкин и в это малое вложить свой особый смысл; он сидел на чемодане, пока лётчик с бортмехаником пробовали мотор. – Знаешь, никогда там не бывал, на Кавказе, а всю жизнь хотелось.
– Зачем ты не поехал по железной дороге, а полетел? Тебе, может, вредно!
– Не люблю это в дороге… умирать. Хлопотливо и как-то противно. А на полёт меня ещё хватит. Ты не пугайся, я давно это понял… я очень много, знаешь, примечать стал: всё теперь вижу. Раз там, на Соти, шёл, а на дороге лежит сапог вот с таким лицом… – Он показал, с каким лицом лежал сапог, а Увадьев смущённо отвернулся. – Я тогда и понял… здоровый человек этого не видит.
Увадьев нерешительно кашлянул.
– Эх, хоть бы снять тебя на память! – вырвалось у него невольно. – Всё-таки потом, когда всё построится, должен твой портрет там висеть. Ты начинал…
Того как-то сконфузила неуклюжая откровенность друга:
– Да-да, надо построить. Я скажу тебе секрет: свяжи свою судьбу с удачей предприятия, и если гибель – то и тебя нет. Тогда победа. Ты ещё любишь вверх глядеть… понятно? а ты вниз гляди, вниз, откуда миллионы глаз на тебя смотрят. Ты внизу справляйся, ладно ли идёт. Ещё несколько таких промашек, и у них поколеблется доверие! – Увадьев покорно слушал его поученье, потому что оно было последнее; и вдруг, заметив гримасу Увадьева, Потёмкин принялся совать ему свою холодную, сыроватую руку. – Ну, вали, действуй. Кабы люди каучуковые были, а? Сломался – моментально его в машину, и все к манометрам… и вдруг выбегает через полчасика свежий человек в трусиках, а? Ты как думаешь, будет так, а?
Мотор уже работал. Увадьев подсадил Потёмкина в кабинку, а оттуда высунулись ухватистые руки Крузина, красные, как клешни рака, и покровительственно обняли больного. Стартер дал знак, пыль и ветер ударили остающимся в лицо; когда Увадьев протёр глаза, уже получили своё оправданье длинные и такие нелепые на земле крылья. На ходу просматривая записную книжку, Увадьев вышел на улицу; в книжке было помечено: Варвара… но ехать к матери было как-то неприятно. Ему всё казалось, что вот он входит в знакомую полуподземную каморку Варвары, а на стене висят брюки отчима, а матери нет – ушла за керосином, и он должен сидеть наедине с брюками материна мужа. Он ехал в вагоне, переполненном утренним людом, и уже собирался развернуть газету, но вдруг вскочил и, расталкивая публику, метнулся к выходу: он увидел Варвару, мать… Чадили асфальтовые котлы, ползали чумазые тротуарщики, проносились автомобили, а она возвышалась на железном табурете посреди, почти монумент, с довольным и спокойным лицом.
Её трудно было бы узнать со спины по одной лишь дородной фигуре, по красной косынке, по той тяжеловесной небрежности, с какой она передвигала стрелку: нужно было ещё внутреннее желание и готовность самого Увадьева увидеть её хозяйкой улицы, на прежне месте. Выскочив на ходу, он едва не свалился к самым ногам Варвары; она посмотрела на него с неодобрением, останавливая одним взглядом, как остановила бы и автомобиль, выскочивший на неё из-за поворота.
– Вот оштрафуют тебя на рупь, станешь спрыгивать на ходу! – пригрозила она, а у самой, под синеньким ситцем резвились бесенята зыбучего бабьего смеха.
– Здорово, мать! А я думал… – Он не досказал и, тиская её жёсткую, шершавую руку, пошёл напрямки. – Спешу, мать, спешу… Нэпмана-то прогнала, что ль, своего?
Она снисходительно усмехнулась:
– Слава те, не паяные!.. пусти руку, выломаешь, – и ударила его по руке. – Откуда экую рань, с гульбы, что ли?
– Нет, приятеля провожал одного. Полетел умирать в цветы… Ну, рад, мать, рад за тебя! Знаешь, а я притти боялся. Ну как, что нового? Барыня-то жива ещё… вот, что с тобой жила?
– Ноне советские духи под заграничные продаёт… Чего ж про Наталку-то не спросишь?
– А что ж мне Наталья! Тоже не паяные…
– Вот скрутился с другой, вот и дела другие пошли. Скоро тебя под суд-то отдадут? Небось, инженерша передачек-то не понесёт. Ты чего там, на Соти твоей нашкодил?
– Ого, а ты и газеты стала читать? Молодец, мать, молодец! Слушай, поедем со мной на Соть, а?.. а то живу чортом, прибраться некому. Изба у меня вроде бани, такая, в ней и живу. – Он мельком вскинулся на большие уличные часы и опять схватил её за руку; было крепко пожатье, точно сцепились якоря. – Пора мне… время, надо домой заехать. Слушай, приезжай… станция Соть, а там спросишь! – прокричал он уже из трамвая, в который вскочил на бегу.
Она махнула ему своим совком, которым собирала грязь с рельсового пути; потом пузатая церковь, заслонила и её красную повязку, и железный табурет. Кондуктор вторично, уже настойчивей, предложил ему взять билет; он вынул горсть медяков и отдал без счёта. «Эка бабища, правительница на площади, хорошо. Тут её когда-нибудь и удар трахнет, а хорошо!» Потом он раскрыл газету, но дочитать снова не удалось; кондуктор прокричал название какой-то совсем неподходящей площади: он сел не на тот номер. Лишь минут через двадцать он вошёл в белые ворота древней московской стены и вдруг испытал волненье, потому что от разговора в этом длинном без украшений доме зависела конечная судьба Сотьстроя. Сразу сказалась бессонная ночь; образ Варвары сплёлся с Потёмкиным; он вспомнил тот особенный взгляд, которым обнял его Потёмкин на расставаньи, и почувствовал тяжесть в ногах…
– Вам каких, гражданин?
Он угрюмо глядел на тощие руки папиросницы, перебиравшие свой товар.
– Нет, не то… я не курю.
Забыв про лифт, он по лестницам втаскивал свои громоздкие тревоги и всё прислушивался к шумам вокруг себя, как в молодости когда-то проверял на стук работу машины. Сюда пригнала его волна, поднявшаяся снизу, и он не умел побороть в себе опасения, что все уже напуганы этой непредвиденной бурей. Здесь, в рулевом управлении корабля, стояла благополучная тишина, разграфлённая чётким стуком машинок, расцвеченная гулким, разноязычным говором. Вдруг какой-то человек, лицо которого показалось Увадьеву знаменательным, панически пробежал мимо; Увадьев пристально проследил его и даже сделал за ним шага два по коридору, но человек спешил в уборную, и увадьевские скулы зарделись… Он был заранее записан на приём, и оттого, едва успел развернуть газету, назвали его фамилию; тогда, сдвинув свой портфель, отяжелевший до сходства с ядром, он переступил порог кабинета.
С первых же слов стало ясно, что здесь достаточно осведомлены о положении Сотьстроя; в этой папке на подоконнике немало имелось, повидимому, сведений, о которых не имел представления и сам Увадьев. Человек, сидевший за столом, указал место сесть и вымерил посетителя коротким взглядом. «Хребет прощупывает, крепок ли, выдержу ли…» – подумал Увадьев и сел так, что место хрустнуло под ним; тотчас он приподнялся и удивлённо поглядел на стул, но тот стоял как ни в чём не бывало. Через несколько минут пришёл Жеглов и новый, только что назначенный заведующий Бумдревом. Всё здесь было известно, от прорыва запани до самоубийства инженера, и потому разговор принял сразу узко производственное направление:
– …у вас там, на лесозаготовках, было закуплено тысяч до семидесяти кубосажен пустоты. Так?
– Вроде того.
– …делянками по четверть десятины да ещё километрах в сорока друг от друга!
Увадьев покосился на Жеглова, ища поддержки:
– Мы не производственники, а строители. Мы не заготовляем, а покупаем. И виноват был Гублесотдел, который, ставя лесосеки на торги, дал неверные цифры о них… ну, о количествах деловой и дровяной древесины, – напамять прочёл он из докладной записки, лежавшей пока тут же, в портфеле.
– И оттого покупали у частника?
– Овёс?..
– Нет, я всё о лесе.
– Куплено было некоторое количество дубовых кряжей, лиственницы и бука. Мы предлагали местной кооперации, но она обещалась, в восьмимесячный срок… За это время новый человек успеет родиться!
Человек за столом достал из папки какое-то письмо; лицо его стало холодно и требовательно.
– На, почитай. Верно это?
Письмо, писанное Горешиным, носило следы самой усердной конспирации и, судя по надписям в уголке, успело побывать в губкоме. Горешин, давясь от секретности, извещал, что на строительстве неспокойно, что по баракам поговаривают об «Еремеевской ночи», если не произведут во-время значительных перемен в управленьи. Увадьев читал, и пальцы его прилипали к бумаге; потом он сложил письмо и брезгливо кинул его на стол.
– Чушь, у меня всё костромичи да вятичи… И слово-то такое откуда вынюхал!
– Мы запрашивали, – сказал тот, не отводя глаз от увадьевских ушей. – Слово это слышал от рабочих завклуб из соседней деревни.
– …Виссарион? – быстро спросил Увадьев и вот зашёлся злым, беззвучным смехом, походившим и на конвульсию; кажется, смеялся он над самим собой, которого считал испытанным ловцом человеков.
Он вспомнил, что при сообщении о каждой неприятности на Соти непременно упоминалось имя Булавина; ему пришёл в память давнишний донос Лукинича и совсем недавний рассказ Сузанны, которому не поверил в суматохе, почитая его следствием их личных отношений, – Сузанна не была точна в передаче ночной их встречи; ему вдруг стали понятны некоторые потайные пружины, которыми изнутри распиралось сотинское дело. Неожиданно для самого себя он сжал под столом увесистый свой, с металлическим пушком, кулак и погрозил, как кувалдой, воображаемому Виссариону.
О том, что он грозил уже наполовину мёртвому, он узнал только к вечеру, когда удалось ему, наконец, дочитать утреннюю газету.
V
С этого высокого этажа, где он высидел долгий и нервный час, видней и понятней становилась сложная механика жизни. Пыльную суетню и грохот улиц значительно замедляла и глушила высота. Пять крупных уличных артерий сбегались в обширную площадь, и здесь, в раскалённом круге, велась беззатейная карусель движенья. Ладные шумливые игрушки описывали часть предназначенной дуги, и потом центробежная сила снова откидывала их в боковые ответвленья. То, что с безумной скоростью неслось внизу, отсюда представлялось в тугом и закономерном вращеньи. Полуденная дымка заволакивала задние городские кулисы, которых ещё не успели сменить для нового спектакля; в блёклое золото крестов и куполов смотрелись лиловые студенистые облака, – к вечеру следовало ждать грозы.
Увадьев слушал, и ему мнился незамысловатый образ корабля, который потрясают ночь и буря. Нужно было чрезвычайное уменье и воля, чтобы вести его при перегруженных котлах через море, не помеченное ни на каких картах. Корабль кренился то в одну, то в другую сторону, и всякий раз волны свирепей вскидывались на покачнувшуюся вертикаль. Ломались рули, их заменяли новыми, и было страшно небытие многих зашиканных вождей. Теперь уже от самой команды зависел успех рейса туда, куда ещё не заходили корабли вчерашнего человечества. Усилия, сделанные накануне, забывались, как забывались и имена их зачинателей; некогда было повторять эти стотысячные имена. Начиналась пора великого маневрированья, и, может быть, именно в этом заключалась истинная героика революции.
Участь Сотьстроя не могла решиться за один этот час, да и о судьбе отдельных работников строительства предоставлялось думать специальной комиссии, составленной из представителей общественных и государственный организаций. В Сотьстрое сгущённо отражалась вся экономика страны; участь его определялась теперь многомиллионным народным голосованием, и подсчётом голосов ведал Наркомфин. Решение гласило: кораблю пробиваться вперёд, Сотьстрою быть, комиссии выехать на Соть немедленно. Сотинские события наводили кое-кого на мысль, что всемужицкий Атилла уже выстругивает свою палицу, рождающую руины.
Комиссия, однако, выехала на Соть лишь неделей позже и сутки спустя после того, как с Геласием и Жегловым воротился Увадьев. Вечер, точно спетый вполголоса, был удивительно тих, и тем более странно было встретить троих вооружённых рабочих на дрезине, которую выслали за начальником строительства. Увадьев заинтересовался было цементом, сложенным под открытым небом, но шофёр заторопил с отправкой дрезины. Ветка становилась неблагополучной; ещё действовал в виссарионовой машине старый заряд. Накануне нашли на полотне безгласного китайца Фунзинова, торговавшего по сотинским деревням всякими детскими игрушками; ходили слухи, будто копит китаец деньги, чтоб жениться на русской и на осёдлое сменить своё кочевое житьё; да не докопил, разграбили. В лицах охраны, когда проезжали соленгскую пойму, средоточилась та сердитая зоркость, какой не видано было с самых гражданских боёв. Смеркалось; осенний закат полнеба окропил рдяной сукровицей, и оттого уместны были мысли о незаживляемой ране, нанесённой старой Соти.
Увадьеву пришлось сидеть рядом с одним из охраны, токарем из ремонтной мастерской; косясь на его морщинистые щёки, тускло мерцавшие в потёмках дрезины, на ремень с патронами, с которым ещё не, вполне освоился, он расспрашивал его полушопотом о сотинских новостях.
– Крутимся мало-мало, вчерашнему нонешнего всё едино не догнать, – неохотно отвечал тот, не спуская глаз с пути и тревожа Увадьева туманом слов. Кивком он показал на бугорок, мимо которого мчалась дрезина. – Вот тут и лежал китаёз! В лоб ударили, а игрушечки все конями притоптали. Чего, китаёзная жисть!
– Что там с бандой-то?
Токарь, задумчиво и еле касаясь, провёл пальцами по ложу винтовки:
– Да всё недорезанные… рабочему делать нечего там. Монах один тож блудует. Решета рябей, а туда ж, на коня полез! В волсовете есть, ершистый такой: неча, говорит, ждать, пока к околице подойдут. Дозволили бы, говорит, мы бы их в неделю повывели.
– Нельзя! – строго сказал Увадьев.
– А чего ж!.. на Енге конокрада поймали, пятки закатали к голове да по пяткам-то, чтоб резвости убавилось… – Он с досадой подёргал ремешок. – Разве можно такое во всём разбеге останавливать! – Он имел в виду Сотьстрой и случившуюся заминку. – Останови кровь, а она чернеть почнёт, а там хоть и всю ногу напрочь рубай. Да ещё Бураго войско хотел вызывать, а тут порохом не вылечишь… И ты тоже хорош, монахом советскую власть вздумал подпирать!
Повинуясь ходу мыслей, Увадьев обернулся и в упор взглянул на Геласия. Тот сидел прямо, весь в каком-то внутреннем полёте, одинаково переряженный снаружи и изнутри, но ещё не приросла к нему новая его одежда. «Подслушивает… и глаза как у ночницы, сквозь волосики огонёчек, – подумал Увадьев. – Ничего, вникай, парень!» Может быть, Геласий и догадался о минутном сомнении Увадьева.
– Там человек за деревом… перебежал! – резко сказал он, и тотчас же Увадьев приникнул к прозрачному холоду стекла, плясавшему в брезентовой раме.
Он сразу различил его в синей мгле сосновья; человек стоял неподвижно, как бы висел на суку. Увадьев заискал его ног, но дрезина уже пронеслась, и в запотевшем стекле отразилось собственное его лицо, освещенное вспышкой чужой папироски. Мгновеньем позже что-то гремуче визгнуло в испуганном теле дрезины, и тотчас же железная дрожь её перекинулась на людей; дрезина шла по шпалам. Втягивая голову в плечи, шофёр тормозил машину, и ещё до полной остановки её Геласий выпрыгнул, упал и, поднявшись, побежал к лесу. Звякнули винтовки охраны, люди высыпали наружу, ещё плохо соображая причины катастрофы.
– Гады, гады, гады… – бормотал шофёр, поднимая из канавы толстый железный болт, второпях, повидимому, положенный на рельсы. – Машину портить, гады…
Пока кольями и случившимся на беду домкратом втаскивали на путь соскочившую дрезину, Увадьев стоял в стороне, томясь стыдом и недоуменьем за Геласия.
– Эй, Элеоноров, чорт!.. – закричал он со сжатыми кулаками. Нелепое имя, ещё не обтёршееся в устах, прозвучало как издевательство над ним же самим, над Увадьевым. – Фу, похабство какое… – сказал он потом, стаскивая картуз.
В росной мгле из-за леса выходила недоделанная какая-то луна, и один её бок был помазан как бы маслицем. Стал виден глубокий шрам, проделанный на свежих шпалах колесом дрезины; задвигались тени. Люди ждали выстрелов или набега, но ничего не происходило, и болт в руках шофёра стал принимать другое, смешное значение. Так прошло, может быть, полчаса; лунишка поднялась на локоть выше; тени почернели, стало прохладней. Дрезина была готова к отбытию, а Увадьев, растопырив ноги, всё глядел в голубые рельсы, прямолинейно убегавшие к опушке.
– Поедем, может, он тово… домой пошёл? – еле слышно намекнул про Геласия тот же токарь.
Багровый гнев вливался Увадьеву в скулы; токарь дружелюбно потянул его за рукав. Вдруг Увадьев выхватил у него винтовку и, прыгая через шпалы, помчался к опушке; теперь уже и токарь различал двух, боровшихся на опушке. Помощь пришла во-время; Геласий лежал на траве, а на нём, извиваясь и хрипя, возилась бесформенная человеческая глыба. Рычал геласиев недруг:
– …пусти, пусти!.. ага, духовника своего… кусать? – Он не умел вырваться из геласиевых рук, державших его за бороду, и забился ещё сильней, когда добежали люди из дрезины.
Охрана едва вырвала Филофея из геласиевых рук, сомкнувшихся в мёртвой хватке. Уже вязали пленника, уже уводили к дрезине, подталкивая прикладами, а Геласий всё лежал, корчась и почему-то икая.
Увадьев наклонился к нему:
– Ну, вставай… руку, что ль, сломал? Ничего, починим… – «Верность, верность доказать хотел…» – топтались на уме догадки. – Вставай. Чего ж ты на медведя да безоружный полез!
– Он меня ногой… коновал. Он в срам меня… жеребёночек! – бредовым голосом шепнул Геласий, и тогда сам Увадьев, взвалив на плечи, потащил его к дрезине.
Когда отъехали сажен сто, токарь зажёг спичку и, водя её вдоль лица пленника с риском поджечь бороду, качал головой: должно быть, он дивился размерам добычи. Тот не двигался; из-под расклокоченной рубахи, вся в волосах и ссадинах, лезла на глаза грудь; взгляд его полон был звериной муки; он был подпоясан в несколько рядов верёвкой. Он был громаден; у таких стыд за то, что взят живьём, всегда превозмогает любую боль. Мало в нём осталось от монаха, ещё меньше от человека. Не в меру узкие порты его лопнули на коленях; он водил тяжким взором по дырам, как бы стараясь хоть этим прикрыть свою голизну.
– Ведь вот, на делах тебя изловили, а ведь сколько ещё на тебя денег потратят, прежде чем решить! – раздумчиво сказал токарь и прибавил, поглаживая по плечу: – Сидеть-то мягко тебе?.. не трёт?
– Шуми, муха, шуми… в шуму-т не так страшно быват! – проклокотал Филофей, и это были его единственные слова, которыми удостоил он мир.
Мотор замолк, в окнах дрезины заколебались огоньки посёлка. Прибытие Увадьева всколыхнуло тишину Сотьстроя; к дрезине собирались рабочие, но Увадьев уже прошёл. Носилки с Геласием вызвали меньше недоуменья, чем широкая филофеева фигура, на голову возвышавшаяся над конвоирами. При сдержанных криках толпы, уже разведавшей обстоятельства его поимки, Филофея провели в плотничий сарайчик и ворота припёрли кольями, а возле поставили милиционера в полном вооружении, чтоб охранял не столько от бегства, сколько от возможного самосуда. Озлобление рабочих против ночного ворья достигло того последнего предела, за которым бессильны и власть и всякая охрана. К полуночи весть о поимке злодея распространилась по всему посёлку, и тогда милицейскому пришлось применить всё своё крепкое красноречие, на которое, впрочем, без особого надрыва ему отвечали тем же. Отдельные подозрительные милицейскому глазу кучки стали прогуливаться мимо сарайчика, всем хотелось видеть пленника, щупать его глазами, касаться его рукой небережной и справедливой. Теперь все несчастья на Соти возлагались на одного человека: так было утешительней сердцу.
– …боров, отсель не выпустим! – кричали снаружи, и брань звучней булыжника летела в квадратное оконце, прорубленное в полутора саженях от земли.
– Пожечь его… и всё место его пожечь, шершневую колоду!
– Эй, скольких людей разорил… Выглянь, мы в тебя плевать будем.
Милицейский, сам разделявший остервенение рабочих, еле поспевал следить за всеми, и потому людское кольцо то суживалось, то размыкалось вновь. Так длилась эта бестолковщина до самого рассвета, когда тонкий невесомый свет зари стал бороть отускневшие звёзды; по травам легла тяжкая росная испарина. Вдруг кто-то заметил белесое пятно в окошке: Филофей решился выглянуть в мир. Люди замолкли, и тотчас же один молодой парень, плотник, метнул в дыру комом ссохшейся глины. Все видели, что он попал метко, но лицо продолжало невозмутимо белеть в провале, и тогда парень, обозлённый вконец, схватился за жердь, намереваясь хоть ею пропороть ненавистное спокойствие злодея.
– Товарищ, отступи!.. – кричал милиционер, готовый уже и кобуру расстёгивать, а непримиримый всё напирал, не помня себя.
Вдруг он сам выронил жердь и попятился, а милиционер так и застыл с поднятыми руками.
– Братишки… – вялыми губами сказал плотник, – …а на чём он стоит-то? Верстак-то ведь у той стены, а тута… тута нету ничего!
Они совещались о самом невозможном, а Филофей всё глядел на них из оконца, уже безразличный к тому, какое солнце побежит завтра над страной. Толпа поредела, и милицейский понёсся в посёлок будить тех, кого в особенности могло заинтересовать новое известие. Одно бряцанье милицейского снаряжения и гулкий его топот должны были вздыбить спящее население посёлка.
Увадьев проснулся получасом раньше. Падала луна на стол, где стояла пустая консервная коробка; дробный жестяной луч тянулся через комнату в самый его зрачок. Полуголый, но в пенсне, Жеглов высыпал в бумажку какой-то порошок.








