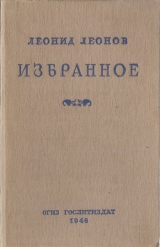
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Леонид Леонов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц)
– Считай то место, Вася, где ты находишься, за самую главную точку на земном шаре… а всё остальное только прилежащие окрестности. И потому думай, что нет тебя важней у Сталина, и он тебе всемирную историю вести поручил. Потому что история, милейший Вася, это тоже танк… держи крепче руки на рычагах!
Остальное – как натянуть сбитую гусеницу в бою или отремонтировать сцепление, Литовченко знал и сам. Всё же, для проверки, Собольков в первый же день приказал ему завести мотор на двести третьей, только что вышедшей из ремонта, и провести машину через заранее намеченные препятствия… Танк плавно поднялся из капонира, слегка встав на дыбки, как бы учуяв волю нового хозяина, и все отметили, что водитель не помял вишенки при этом, стоявшей по левому борту. «Ничего, подходяще… действуй так!» – одобрительно молвил Обрядин, словно Литовченко мог слышать что-нибудь за гулом своего железа. С высокой церковной паперти экипаж следил, как, перевалив канаву, танк вошёл в поле, спустился в указанную балочку, пропал на минуту, и когда все решили, что заглох у него мотор, с дельной сноровкой принялся карабкаться вверх по крутой и вязкой глинке; утром прошёл дождь, всюду солнце сверкало в лужах… Обратная дорога была прямая; согласно условию, Литовченко дал полный газ. В сущности, испытание закончилось, Обрядин полез за табачком. Покачивая пушкой, не сбавляя скорости даже в виду села, машина неслась обратно, когда одно непредвиденное обстоятельство заставило умолкнуть всех, даже ребятишек, собравшихся в изобилии насладиться зрелищем гонки.
Улицу переходил котёнок. Никто не обратил внимания, как он появился на пути танка. Осторожно, стараясь не запачкать лапок, он перебирался через изрезанную колеями дорогу. Грохот приближался, но котёнок не ускорял походки; состоя в коротком знакомстве со всей бригадой, он чувствовал себя в доброй безопасности; хромота на левую заднюю ногу также замедляла его путешествие. Зверь был явно нестоящий, его и разглядеть трудно было за пластами, глины, а водитель торопился завоевать доверие экипажа. Стало поздно спасать котёнка или хотя бы кинуть щепкой, если бы нашлась поблизости. На мгновенье все как-бы выросли на вершок, и тогда Литовченко, сработав рычагами, ловко, как, пулю, провёл свои двадцать восемь тонн в узкий промежуток между ветхим колодцем и дурашливым существом, невозмутимо продолжавшим прогулку… Это и был Кисó, пятый, сверхштатный член экипажа.
Если бы не война, где особо ценят всякое проявление жизни, Кисó не сделал бы такой карьеры. Был он головаст, кошачьей грацией или подхалимством не обладал и, вдобавок, отличался крайне непрактичной бело-рыжей мастью. За ухом у него образовалось несмываемое пятно от ласкательных прикосновений танкистских пальцев. В штаб корпуса эта смешная фигура пришла из сожжённой деревни, где ещё дымились головешки, – её последний житель, вышедший приветствовать освободителей! Нельзя было немцам ни сожрать его, ни угнать на каторгу, и, видимо, убийца пожалел на него патрона. Кто-то сунул зверя за пазуху, скорее для забавы, чем из милосердия; через неделю ему подбили ногу при бомбёжке на Кромской операции, а фронтовики умеют окружать незаметной и трогательной заботкой всякого, кто делит с ними опасности военного существования. Повидимому, новое его имя было образовано из слова Кацо, друг. Кисó быстро сдружился со всеми, и если не дремал на кухне, обдумывая очередные мероприятия по борьбе с мышами, от которых в том году приходилось даже окапывать землянки, то изучал окрестность, навешал в непогоду часовых или запросто заходил в штаб посидеть у главного хозяина на карте. Лично ему больше всего нравилось, чтобы член военного совета гладил его своей пятернёй, способной привести в замешательство любого нибелунга. Однако после того как Кисó, решив поделиться с хозяином добычей, разложил у него рядком на байковом одеяле шесть штук безжизненных мышей, его постиг гремучий гнев богов. Случилось это ровно через сутки после обрядинского падения: они как-то снюхались в тот горестный вечер, и оба решили, что штабная работа не соответствует их деятельным натурам. К сожалению, Кисó малярией не болел и с негодованием отверг те пять капель обрядинского лекарства, которые башнёр якобы пытался влить в горло приятелю. Впрочем, иные шутники по-другому объясняли происхождение царапин на обрядинском лбу: Обрядин покидал на селе двух красоток разом.
С тех пор Кисó поселился на боеукладке, в пушистой шубе одного немаловажного итальянского чина, сбиравшегося присоединить к Италии Сибирь. Не загадывая наперёд, кто приютит его, хромого и безродного, по окончании войны, Кисó участвовал во всех операциях корпуса и через Днепр переправлялся сквозь такой шквал огня, что танкисты предполагали выдать ему голубую ленту на хвост… До него в любимцах двести третьей состоял медвежонок, оказавшийся не портативным в условиях походного существования. Его целую неделю с успехом заменял один беспризорный гусь, Пётр Григорьич, но, как на грех, тут подоспело празднование по поводу вручения гвардейского знамени, а дружба человека с гусем всегда носит несколько односторонний характер; к тому же Пётр Григорьич был ужасный крикун… Кисó содержал в себе достоинства, недостаток которых в такой степени повредил его предшественникам. Вдобавок, будучи философом, он разбирался и в людях; так, он не одобрял порывистых замашек стрелка-радиста, зато очень ценил в механике-водителе его склонность к раздумьям, позволявшую подолгу сидеть на его тёплом, удобном колене… И в ту ночь, в канун последнего боя двести третьей, едва Обрядин ушёл наверх сменить Дыбка, Кисó немедленно перебрался под шинель к Литовченке.
Тот спал неспокойным сном. Вереница людей в чужой зеленоватой одежде уходила от него в обратную сторону; он видел её из танка с расстояния как раз необходимого для разгона. Сердце немело от ненависти, а нога судорожно выжимала полный газ, но никакая сила не могла сдвинуть пристывшего к месту железа… Обветшалый накат землянки, источенный мышами, пропускал влагу. С вечера никто не заметил капели. Вещевой мешок под головою просырел с одной стороны. Литовченко открыл глаза и сел на нарах. Рядом неслышно спал Дыбок, такой же подтянутый и статный, словно и во сне взбирался по ступеням большой жизни. Тягостный мглистый свет утра пробивался в продолговатую щель окошка, окаймлённого снежком. Освещение было недостаточным, и горела свеча. Огарок стоял между квадратным зеркальцем и лицом Соболькова, который брился. Он совершал это старательно и не спеша, следуя правилу: любое дело исполнять так, как если бы оно было самое важное в ту минуту на свете. Он слегка улыбался при этом, словно видел что-то дополнительно в стекле, тесном даже для его собственной щеки. Как всегда, он поднялся раньше всех, и уже посвистывал чайничек на печке, сооружённой из немецкого бензобака.
– … пора?
Собольков ответил не сразу, а может быть, просто голос его должен был просечь какие-то необозримые пространства, прежде чем достиг Литовченки.
– Теперь скоро начнётся, – отвечал лейтенант, возвращаясь, но улыбку оставил там, где-то в предгорьях Алтая. – Здорово ты бился во сне… испугался чего-нибудь?
– Бык меня бодал. – Ложь ему далась легко, тем более что до события с курёнком это детское приключеньице бывало самым страшным из его снов.
– Так вот, ничего не бойся, Василий, – сказал Собольков, намыливая другую щеку. – Страх, это… как бы тебе сказать, тоже вроде уважения, – только пополам с ненавистью. А фашиста уважать не за что, проверенную правду тебе говорю.
– Ничего не боюсь, – твёрдо, как в клятве, сказал Литовченко.
– Не зарекайся, – продолжал Собольков и брился начисто, точно на смотр отправлялся или свататься к невесте. – Я и сам этак-то в первом бою!.. а как зачали огоньком по стенкам стучать, чую… лицо у меня нехорошее стало, низменное сделалось у меня лицо. И тогда стало мне так смешно на себя: для каких ещё дел, важнее, мне себя беречь! И тут второе правило: как нахлынет на тебя это самое, телесное, ищи кругом смешного… война любит иной раз крепко посмеяться!.. К примеру, теперь уже можно сказать, очень я у себя, на Алтае, этим манером итальянцев уважал. Немца-то хоть на Волге видал, ничего особенного, только окурков наземь не кидают, а этих ещё не доводилось. Было время, весь мир под себя подмяли… Правда, мир тогда невелик был, в пол-Сибири!.. И вот, как посекли в тот раз Италию русские танкисты, взяли мы в плен трёх ихних генералов… в Венделеевке, под Валуйками. Там ещё конница Соколова из шестого корпуса действовала, только её мало было…
– Ну-ну… генералы-то! – жарко, как всегда слушают новички, напомнил Литовченко, придвинулся ближе и машинально погладил голый подбородок.
– Куда!.. Тащились они, бедняги, пёхом сто километров, подзябли, конечно. Младшенькому из них пятьдесят четыре годика. Ну, привели, выдали им по сто грамм… Усы гладят, оттаивают помаленьку, очень были довольны. «Мы, в Италии, говорят, не любим, когда холод». А пёс его любит, отвечаем, с непривычки-то!.. И каждый записал себе на бумажке кто его в плен взял, на память. И меня тоже записал один… страшенный такой, лицо вовнутрь продавлено, и оттуда волос жёсткий, как из дивана. Говорит мне по-своему, хорошо, дескать, воюешь. Ничего, отвечаю, если потребуется, ещё раз в плен возьму… пожалуйста! Что рано отвоевались, спрашиваю, мы только в разгар входим? Молчи-ит, стесняется… – Собольков встал и погасил свечу. – Вот она какая, война-то!
Свету в окошке прибавилось. Время не торопилось. Собольков успел вытереть лицо и, завернув старенькую бритву вместе с огарком в тряпочку, спрятать их на дно походной сумки, когда вошёл Обрядин. Он принёс с собой лишь одно слово, но сразу всё от него пришло в движение; и Дыбок был уже на ногах, точно только и ждал тревоги. Литовченко обвёл всех щуркими вопросительными глазами: ему казалось, что это начинается иначе. Он слышал, будто в последнюю минуту перед боем обычно пишут письма на родину или заявления в партию, и даже заготовил для колхозных подростков, с которыми недавно гонял голубей, прощальную фразу, полюбившуюся ему за красоту: «А больше писать нечего, идём в бой». Второпях он поискал взглядом, с кем бы обменяться адресками, чтобы сообщили родным, если чтó… но каждый заканчивал свои личные дела без признака волнения даже, только стали на минутку суровее, как перед дальнею дорогой, и он понял: именно здесь глубже всего понимают жизнь и даже мысленно не называют имени её могучей соперницы… Все были готовы, и ещё осталось маленькое время на вопрос, возникший у Литовченки при пробуждении. Ему заранее хотелось узнать, слышно ли из танка, когда гусеница наезжает на человеческое тело, хотя и помнил из рассказов, что железо станковых пулемётов беззвучно гнётся и сплющивается при этом.
Вместо лейтенанта, который застёгивал шлем у подбородка, утолить его любознательность вызвался Обрядин.
– А это смотря по тому, милый ты мой Вася, кто тебе попадёт, – с видом опытного знатока таких дел пояснил он. – Венгерец, например, попискивает, деликатно так пищит, а немец похрустывает… Понятно? Что касается румына, то он под тобою только лопается, как рыбий пузырь… Приходилось тебе большую рыбину потрошить?
Насмешливые и только чуть более обычного блестящие глаза смотрели отовсюду на Литовченку. Все по-разному и неправильно оценили его смущение. Собольков дружественно коснулся его плеча:
– Ничего, это сейчас пройдёт. Это и есть телесное. А ну… по машинам!
Дыбок пихнул дверь ногой, серенькое утро охватило их пронзительной сыростью. Литовченко услышал знакомый, как бы утолщающийся свист, и хотя кто-то пригнул его вниз, воздух смаху ударил ему в уши и по глазам. Когда он снова открыл их, земля уже оседала; длинная жердистая сосна, треща и сбивая сучья с соседей, падала прямо на него. Вершина её с нахлёстом легла на мокрый снег, но оказалось далеко, и брызги не долетели.
– Чего, война, кланяешься? Уж видались… – сквозь зубы сказал Обрядин и, потянув носом воздух, озабоченно вгляделся в глубину леса. – Щами пахнет. А ведь это, пожалуй, щи погибли, товарищи. – Потом лицо его прояснилось. – Нет, то не щи… при щах Иван Ермолаич состоит, а ему ворожейка нагадала сто лет жить да сто на карачках проползать… Ворожейкам веришь, лейтенант?
– Не трепись, – сухо сказал Собольков.
Иван Ермолаич был батальонный повар, который, вскоре после появления нового башнёра в бригаде, стал страдать приступами неизвестной болезни. Наверно, то была малярия, как верная собака бродившая по следам Обрядина.
Противник стремился прощупать границы расположения корпуса.
Слабое и множественное гуденье висело над лесом. Невысокая облачность мешала разведке спуститься ниже. Изредка между деревьями вставали тугие жгуты как бы из железных опилок, скрученные свирепой магнитной силой, но в узкой щели перед собою Литовченко не видел ничего, кроме угла землянки, где провели ночь, да приникшей вплотную ветки лесной калины с красными водянистыми от заморозка ягодами. Моторы работали на малых оборотах, зенитки молчали. Экипажи наготове сидели в машинах, только командиры поглядывали из башенных люков. Время от времени, заслышав свист, Собольков оповещал своих – «держись, хлопцы!» – и опускал стальную вьюшку над головой. Следовал гулкий раскат пополам с древесным треском; всякий раз после того чуточку светлело, как всегда бывает на лесосеках. Лётчик бомбил вслепую. Унизительное, даже подлое самочувствие мишени зарождалось от вынужденного бездействия; было томительно наблюдать из дрожащего от нетерпенья танка, как пешком тащится время.
Чтоб побороть гнетущее чувство холода и неизвестности, Собольков вторично и в деталях разъяснил боевую задачу: вместе с первым эшелоном прорваться сквозь пятиминутный заградительный огонь к переправе в направлении геодезической вышки, видимой отовсюду, и ждать второго сигнала в низинке у речки Стрыни, где изгиб русла и обрывистые берега надёжно укрывали от обстрела. Позже надлежало взять на броню мотопехоту, чтоб по красной ракете совместно ринуться на передний край врага, – передовая проходила в двух километрах оттуда… Так ждали они знака к выходу, но его не было. Самолёты ушли, в танк сочилась разноголосая, похожая на шопот, перекличка инструментов войны. Уже раздумывали, как скоротать время, пока приказ от верхнего Литовченки докатится до Литовченки, находящегося внизу. Вдруг два беззвучных от неожиданности смерча поднялись по сторонам ночной землянки и, ухватив её с подмышек, вышвырнули наверх со всем деревянным пожитком. Как бы понукая к действию, воздушная волна толканула двести третью, мотор заглох, и та же как бы ухмыляющаяся сила раздавила ягоды калины о триплекс; было видно, как розовые звёздочки текли, пересекая смотровую щель. Дальнейшая стоянка становилась опасней самого боя. Собольков увидел комбрига, который бежал вдоль капониров, махал рукой и кричал: «Пошли, пошли…» Тотчас же, взревев и давя пеньки, штук тридцать приземистых тел стали вылезать на поверхность.
Успокоенье пришло, как только покинули свои ямы. Танк до краёв налился металлическим звуком, всё пропиталось им до последнего болта; Литовченке казалось, что и сам он начинает звучать в ноту со своим железом. И стало совсем легко, когда ещё не заслеженное поле открылось за опушкой. Далеко впереди маячил сквозной удлинённый треугольник вышки, куда шли, но ближайшим ориентиром движенья был пока разрушенный домик, который на карте числился цветущей, в яблонях, усадьбой. Иные недолговечные деревья, сменившие их, изредка возникали теперь в слепящем, после лесных сумерек, утреннем пространстве; было что-то собачье в том, как они с громовым лаем перебегали с места на место, потрясая чёрной, неистовой листвой. Количество их удесятерилось, едва последние танки первой очереди покинули лес. Одно выросло как раз по левому борту, самое гривастое. Большой осколок с близкой дистанции ударил двести третью в лобовик над водительским люком; она шатнулась, сразу отемнились все смотровые щели. Отбитая покраска пополам с искрами, как показалось Литовченке, больно стеганула по лицу. Танк продолжал свой бег, и Собольков уже не сомневался в водителе; он не знал, что за мгновенье перед тем новичок сорвал кровяной мозоль о рычаг правого фрикциона, и эта маленькая боль в ладони спасла его от неминуемого шока… Двести третья извернулась, нырнула в кромешный мрак, и в момент разворота, сквозь падающую землю, Литовченко увидел всю шеренгу своего эшелона.
Она весело мчалась по бескрайней пойме, в проходах среди минных полей, заранее обозначенных хворостинками; пёстрый вал метели оставался позади. Они мчались, поминутно меняя курс и словно издеваясь над неточным боковым обстрелом, почти в ровном строю, кроме нескольких машин, что несли на себе груз сапёрного леса; одна, самая быстрая, уже пылала, но ускоряла бег, как бы в надежде сбить пламя ветром… Мчались, покачивая пушки, и пока без единого выстрела, потому что ничего не было впереди, а только серенький предзимний пейзаж с рваными, еще дымящимися проталинами да ещё высокий противоположный берег с висящими над ним дымками. Передние уже вступали под его укрытие, и, как бывает иногда в начале боя, обстановка и местный замысел командования стали до мельчайшего штриха понятны самому неопытному солдату, но не разумом пока, а каким-то первичным физическим ощущением.
За ночь немцы форсировали Стрыню дополнительно и на южном участке, пробив ещё километр в нашей обороне. Сплошная завеса заградительного огня сдерживала их левофланговый напор, и не стоило гадать, что случится, если устанут пушки или приостановится поток боепитания. Крохотный плацдарм оставался за советской пехотой на том берегу, всё стреляло там. Под прикрытием её смертной доблести и готовила свой манёвр тридцать седьмая. Таким образом получалось центробежное вращенье двух полярных воль, где осью служил домик садовода и где запоздавший обрекался на окружение и гибель. Именно в это место на карте и смотрел сейчас большой Литовченко на своём КП… Там, наверху, уже начался военный день, а здесь, под обрывом, было ещё тихо, «как в раю во время землетрясения», по определению Обрядина, когда экипаж вышел из танка помочь сапёрам. Сложив оружье в сторонку, мотопехота совместно с ними прорубала крутую дорогу сквозь нависшую осыпь или подтаскивала к мосту многометровые тёсаные брусья; они представлялись лучинками в присутствии самоходных орудий, тридцать-четвёрок и танкеток, что в просторечии войны зовутся малютками, – встревоженное стадо, сбившееся у водопоя. В обступившем артиллерийском грохоте не было слышно ни дробного стука топоров, ни шума незаглушённых моторов; те, наверху, могли подумать, что товарищи просто отсиживаются от бури, не торопятся, стремясь насладиться терпким запахом смолевого дерева, прежде чем войти в горячий смрад машинного боя; но они торопились, так как немецкий наблюдатель должен был когда-нибудь разгадать значение щепы в медлительном зеркале Стрыни… Тут пошёл снег.
И опять железное войско ждало своей ракеты, пока танкисты яростными жестами бранились с сапёрным капитаном и всё показывали на обрыв, откуда при каждом сотрясеньи струился мелкий, ещё не намокший песок; более нетерпеливые и злые спустились в реку и шарили броду по пояс в воде… Уходя к своим на подкрепленье, Собольков не забыл взглянуть на приборы водительского щитка. Температура масла достигала 105°, – судя по запаху, главный фрикцион был перегрет, для воды оставалось лишь три деленья на циферблате. Не столько тяжкий путь по пашне был причиной такой перегрузки, сколько волнение водителя, который с непривычки к огню явно задёргал танковое сердце. И лейтенант мельком порешил дать при случае полную волю Литовченке, чтобы тот упоеньем танкового могущества исцелился от ребячьей и такой понятной нерешительности. В эту минуту Собольков и разглядел Кисó в потёмках танка. Неизвестно, когда зверь успел забраться в свою походную квартиру, и представлялось уже несправедливостью выкидывать теперь за борт этого вполне заслуженного ветерана. Таким образом, на операцию экипаж уходил в полном составе.
Литовченко видел через люк, как лейтенант поднял котёнка и, прищурясь, заглянул ему в глаза.
– Что ж, воюй, Кисó, зарабатывай себе место под солнышком, – сказал Собольков и, поймав на себе взгляд Литовченки, стал выбираться из танка. – Вот, посмотрим, что она означает… тихая и грозная судьба человека, – добавил он совсем непонятно, глядя на высокий берег с вихрами седой и мокрой, трясущейся травы. – Только помни, Вася… судьба не тех любит, кто хочет жить, а тех, кто победить хочет! – Голос был не прежний, собольковский, да и поучение относилось скорее к самому себе, чем к этому простодушному пареньку, – как следствие минутного замешательства, нехотенья чего-то или от горечи внезапного открытия, что и жизни сам он жаждал не меньше, чем победы.
Литовченко зарделся, ему стало неловко от непривычной командирской откровенности, хотя в сущности ничего стыдного не случилось; кроме того, он ещё не знал, что означает взрослое городское слово судьба и что полагается отвечать в таких случаях. Он поднял на лейтенанта прямые ясные глаза, и тогда, смутясь, тот ушёл поспешно, запретив водителю далеко отлучаться от машины.
При самом беглом взгляде на окрестность делалось понятным запоздание с переправой. Судя по незаконченным окопчикам, ещё недавно здесь пыталась закрепиться горстка немецких автоматчиков, и её вышибали отсюда врукопашную, ценою потерь с обеих сторон. Литовченко обошёл место схватки, всматриваясь в лица павших. Хотя это сглаживает различия, их легко было распознать издали, – немцам не успели выдать в срок маскировочные халаты. Враги лежали рядом, иные почти в обнимку, как бы продолжая сражаться и теперь. Наших – было меньше; один – рябоватый, смуглый и скуластый – лежал на спине, грудью навыкат и с закинутой под голову рукой, как спят богатыри. Глаза были открыты, губы растянула полуулыбка, словно среди пасмурного неба встало вдруг над ним жаркое казахское солнце. Снежинка упала в его округлённый покоем зрачок и не таяла. Литовченко отвёл взгляд к артиллерийской воронке, которой не заметил вначале… На дне её скопилась подпочвенная вода. Там валялся обыкновенный, весь целый, гитлеровский солдат. Ноги тонули в ледяной жиже, а руки были широко раскинуты, будто обхватить хотел её всю, украсть, унести с собою – чужую землю вместе с её сокровищами, святынями и этим тоскливым хлюпающим снежком… но оказалась тяжела, и нехватило объятий, и он поник тут, пугало Европы, бессильный даже отряхнуть снег с былинок, торчавших меж его разведённых пальцев.
Он мог бы рассказать много, этот солдат, – как росла, крепла и потом сокрушилась германская мечта о самородном русском золотишке в распадах сибирских гор, о тучных рыбных стаях в тесноте полноводных рек, о волшебных куполах, всегда манивших немецкое око, о самом солнце, что нисходит на землю в этом государстве в обличий нефти, хлопка, пшеницы и вина; он мог бы похвастаться, как началось бредовое шествие железных пауков по чужим столицам, этим начальным ступенькам к синим хребтам, за которыми раскинулись блаженные страны Азии, земной рай с даровым шнапсом, где закуска растёт на деревьях, где гурий можно брать на гробницах непобедимых царей Востока, где дозволено, наконец, утолить тёмное зверство, прикрытое веками германской дисциплины. Это была бы длинная повесть, как они отправлялись в поход, провожаемые криками женщин: «Убивайте их, убивайте в Америке и Азии, убивайте везде… мы отмоем ваши руки!» – и как их встретила непогодная пучина России, где поржавело их железо и обвяла душа, и как они, огрызаясь, ползли назад с распоротым брюхом, и каждый камень рвал им внутренности, и каждый куст стрелял вдогонку. Он знал много, но мёртвые – плохие рассказчики. И хотя украинский тракторист не умел проникать в знаменья истории, он догадывался, над чем улыбается невдалеке спокойный и чуть иронический казах.
Завоеватель лежал в позе вора, стремящегося уползти, с подогнутым коленом и уткнувшись лицом в борт ямы. Белобрысый затылок напомнил Литовченке минуту, шрамом оставшуюся в памяти. Рядом, затоптанные в снег, валялись улики – автомат, походная шарнирная лопатка и ещё какой-то неузнаваемый утиль войны. Литовченко увидел опрокинутою каску. Он пошевелил её носком сапога. Талая вода кривой струйкой, как из чайника, полилась из пробоины. Дыра приходилась над самым надбровьем, с лучами трещинок, как кокарда; прицел русского стрелка был хорош. Кто-то встал рядом с Литовченкой, но он не пошевелился, как зачарованный следя за струйкой.
– Не тот, что на мамку замахивался? – спросил голос над самым ухом, когда каска опустела.
Это был Дыбок. Не насмешка, а лишь нетерпение читалось в его заметно похудевшем лице; ему хотелось скорее исполнить всю чёрную работу, с чего начиналась его большая и умная житейская дорога.
– Не-ет… тот постарше и с плешинкой был, вот тут, – нехотя протянул Литовченко и показал на затылок; но даже не в плешинке было различие, а в том, что не доставило душе сытости созерцание этого застигнутого на месте вора.
– Ищи его парень… крепко ищи! Не только врага, но себя прежде всего ищешь… – с особым значением сказал Дыбок.
– Где-то рядом ходит, всякую минуту чую его близ себя… – начал было Литовченко и вдруг побежал к машине: уже падало над лесом алоё яблочко сигнальной ракеты.
Дорога вверх была открыта, но одна дружная батарея без труда истребила бы здесь, в проходе, целый корпус, по мере того, как он стал бы выбираться из низины. Какой-то чудак, в пылу усердия, раскидал дымовые шашки вдоль берега, не загадывая, что из того получится, и теперь немецкая артиллерия перенесла огонь по этой подозрительной клочковатой тьме, что, подобно чернилам в воде, распускалась во все стороны. Она клубами стекала с обрыва, её рвали смерчи разрывов, в неё, как в туннель, незримые и незрячие, уходили облепленные десантниками танки. Одновременно немцы разглядели обрезки тёса в реке. Десяток тяжёлых мин с большим перелётом упал на пойму. Если бы Собольков вскочил в свой люк мгновеньем позже, он увидел бы, как, пошатываясь и с раскинутыми руками, с земли поднимались мертвецы, точно возобновляя рукопашную схватку и это нестерпимое зрелище стало бы заключительным в его жизни… Советские батареи открыли ответный огонь.
С полуоткрытыми люками, чтобы не протаранить соседа и не свалиться с обрыва, танки распространялись в чернильной ночи перед броском в атаку. Ещё до того как вышли из завесы, Дыбок принял по радио хриплую команду одиннадцать, что, по условию, означало: «развернись», и следом за тем – «сорок два». Больше приказов не поступало: у двести третьей осколком сбило штырь антенны. Не сразу пришло в память, чего требовала последняя команда – заходить углом слева или увеличить скорость; Собольков приказал и то, и другое… Всё смешалось и загремело. И оттого, что каждый раз в бою надо приспособляться к обстановке и даже смириться о чем-то, все пока молчали, кроме лейтенанта. Три души, три человеческих педали находились подле него, и он жал на них словом, шуткой и авторитетом, доводя отвагу до уровня самозабвенного ликования, – без этого немыслимо преодоление животных инстинктов, которыми жизнь вслепую обороняется от гибели. Казалось, провода переговорного устройства приникали к самому мозгу, и туда до боли громко кричал что-то Собольков в похвалу двести третьей, её прочности и резвости, а Литовченко односложно откликался, всем телом вслушиваясь в ровное машинное биенье за спиной. Ему то чудился подозрительный звон в трансмиссии, то мешал чёткий и частый стук о броню, точно кто-то просился войти снаружи; ни разу не побывав под крупнокалиберным пулемётом, он с отчаяньем принимал эти звуки за прощальные сигналы десантников, вдруг ставших ему ближе всякой родни.
Те ещё держались, хотя огненный ветер обстрела сдувал всё постороннее с брони. Танки приближались к переднему краю. По существу, до этого места курс двести третьей зависел скорее от удачи да ещё от того, с какой стороны возникала глыбистая падающая тьма, чем от уменья водителя. Только теперь Литовченко привык к скачкам смотровой прорези, – она то надвигалась, то уносилась вдаль, то становилась почти вертикально, когда хлестала бортовая волна. Сперва он различил лесок впереди и перед ним бугристое поле, где метались разрывы; затем он увидел стрелковую цепь, частично залегшую в чистом поле и местами уже выбитую из обороны. Тяжкий миномётный огонь шествовал по черте окопов, и ещё шустрые вихорьки сверлили посеревший снежок. Здесь можно было оценить чёрный и страшный труд пехотинца. И одни, не оглядываясь и слегка подымая винтовки, указывали проходы своим танкам, другие же лежали как-то слишком смирно, точно внимали ласковому и последнему напутствию родной земли, которую защищали.
– Вот она, наша мотошомпольная, – смешливо и резко крикнул Обрядин, когда на мгновенье заглох мотор, точно испугавшись чёрной тени, с грохотом прошедшей мимо. – Заметь, обожаемый Вася, лежат, как львы, и непримиримо смотрят в сторону врага!
Его смаху оборвал Дыбок:
– Это всё земляки и братья твои лежат, чорт усатый. Полежал бы сам на мокром пузе… и полежишь ещё у меня! – заключил он, точно он-то и был командиром.
Обрядин был умней своей шутки, которую придумал единственно для ободрения водителя. Как раз перед тем болванка прочертила, как полозом, путь перед двести третьей, а гусеница дрогнула, точно наехала на камень, и была опасность, что Литовченко сожжёт диски сцепления. Собольков понял это с запозданьем и сразу забыл, потому что именно тут и увидел зайца.
То было единственное живое во всём поле, не имевшее отношения к войне. Обезумев от рёва и пламени боя, он мчался наугад, весь белый, ясно различимый на тёмной исковырянной пашне. Иногда он останавливался, вскинув уши, приподнимая удлинённое страхом тело, и смотрел, всё ещё невредимый, как рушатся громады огня и воющего праха, и исчезал, припадая к снегу, чтобы снова превратиться в неуловимый глазом белый пунктир. Должно быть, заячий бог хранил до поры и, как перышко, нёс его пушистую, невесомую от ужаса шкурку; по неисповедимому заячьему провидению, он мчал её прямо на немецкие траншеи. Он заведомо хитрил, сбивая с толку, показывая зверька одновременно в десятке мест по фронту атаки и получалось, что именно за ним, повторяя его зигзаги, разя с ходу орудийным огнём, гнались шесть неистовых тридцать-четвёрок, как если бы он-то и был призом в этой беспримерной охоте. Они настигали, он метнулся, угол курса резко изменился… Застылая, наклонённая жижа блеснула под танками на дне окопа, и в нём, с поднятыми руками, стояли недвижные, как на фотоснимке, какие-то зелёные – значит, не русские люди; иные как будто падали и всё не могли упасть. Теперь уж и собственной стрельбы не слышал экипаж, и верилось: одной силой гнева и взгляда своего роняет их Собольков. Тогда-то, каким-то образом разглядев в своей неудобной щели, Обрядин и доложил лейтенанту, что противотанковая пушка справа, у кустов, тоже настоятельно просит своего пайка. Только он выразил это в одном каком-то неистовом, неповторимом слове; действия стали короче, чем их словесные определения, и приказания отдавала сама мысль.








