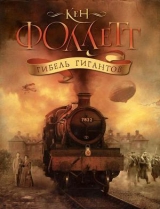
Текст книги "Гибель гигантов"
Автор книги: Кен Фоллетт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 62 страниц)
Но уйти он не успел: его окликнули по имени.
– Фиц! Фиц! Неужели это вы?
Голос был знакомый. Обернувшись, он увидел приближающегося немца. Когда тот подошел, Фиц его узнал.
– Фон Ульрих?! – изумленно воскликнул он.
– Он самый! – Вальтер широко улыбнулся, протягивая руку. Фиц по привычке тоже протянул руку, и Вальтер с жаром ее пожал. Вальтер похудел, светлая кожа лица обветрилась. «Наверное, я тоже изменился», – подумал Фиц.
– Это просто поразительно! Какое совпадение! – сказал Вальтер.
– Рад видеть вас живым и здоровым, – сказал Фиц.
– Взаимно!
– А с этим нам что делать? – Фиц махнул рукой в сторону братающихся солдат. – Мне это внушает беспокойство.
– Согласен. Завтра они могут не пожелать стрелять в новых друзей. Нужно активизировать боевые действия, чтобы они пришли в норму. Если утром с обеих сторон начнется артобстрел, они скоро вновь начнут ненавидеть друг друга.
– Надеюсь, вы правы.
– Но расскажите мне, как вы, мой старый друг?
Фиц вспомнил свою хорошую новость и просиял.
– Я стал отцом, – сказал он. – Би родила мальчика. Хотите сигару?
Они закурили. Вальтер рассказал, что вначале был на Восточном фронте.
– В русской армии страшный беспорядок! Офицеры продают армейские запасы на черном рынке, а пехота мерзнет и голодает. В Пруссии половина жителей ходит в купленных по дешевке армейских сапогах, а русские солдаты воюют чуть ли не босиком.
Фиц рассказал, что был в Париже.
– Твой любимый ресторан «Voisin» по-прежнему открыт, – сказал он.
Солдаты затеяли игру в футбол, англичане против немцев, в качестве штанг сложив стопками кепки.
– Мне придется поставить в известность командование, – покачал головой Фиц.
– Мне тоже, – ответил Вальтер. – Но сперва скажите мне, как там леди Мод?
– Полагаю, у нее все хорошо.
– Я бы очень хотел, чтобы вы передали ей мой нижайший поклон.
Фиц заметил, что Вальтер произнес эту обыденную фразу с особенным ударением.
– Обязательно, – сказал он. – У вас есть для этого особые причины?
Вальтер отвел взгляд.
– Перед самым отъездом из Лондона… Я танцевал с ней на балу у леди Вестхэмптон. Это было последнее светлое воспоминание из прошлой жизни, когда еще не началась эта война… – Вальтер, казалось, не мог справиться с чувствами. Его голос дрожал. Может, это Рождество так на него повлияло? – Мне бы очень хотелось, чтобы она знала, что в Рождество я думаю о ней… – Он взглянул на Фица влажно блеснувшими глазами. – Друг мой, передайте ей это обязательно!
– Передам, – сказал Фиц. – Уверен, ей будет приятно.
Глава четырнадцатая
Февраль 1915 года
– И вот пошла я к врачу, – рассказывала женщина, сидевшая рядом с Этель, – и говорю ему: «Доктор, у меня чешется между ног».
По комнате пробежал смешок. Они сидели в комнате на верхнем этаже маленького домика в восточном Лондоне, возле Олдгейта – двадцать женщин, склонившихся над швейными машинками. Тесными рядами сидели они с двух сторон за длинным столом. Очага в комнате не было, а единственное окошко было плотно закрыто от февральских холодов. Дощатый пол был голый. С давно не беленных стен осыпалась старая штукатурка, местами просвечивала обрешетка. От дыхания двадцати женщин было душно, но при этом и ужасно холодно. Все женщины были в уличной одежде.
Рядом с Этель сидела ее сверстница и квартирантка, девчонка-кокни Милдред Перкинс. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не выступавшие передние зубы. Неприличные шутки были ее коньком.
– А врач мне, значит, отвечает, – продолжала она: – «Не говорите так, это непристойно».
Этель усмехнулась. Милдред умела хоть на несколько минут внести оживление в тяжелые двенадцатичасовые смены. Никогда прежде Этель не слышала таких разговоров. В Ти-Гуине прислуга следила за своей речью. А эти лондонские женщины могли сказать что угодно. Они были разных национальностей и всех возрастов, некоторые плохо говорили по-английски, были даже две беженки из оккупированной Бельгии. И лишь одно их объединяло: всем им отчаянно была нужна работа.
– …А я его спрашиваю: «А как же мне тогда говорить?» А он: «Ну говорите, например, что у вас чешется палец»…
Они шили форму для английских солдат, тысячи рубашек и штанов. Каждый день с фабрики, расположенной на соседней улице, в больших картонных коробках привозили рукава, спины, штанины из плотной ткани цвета хаки. Здесь работницы сшивали их и слали дальше, на другую маленькую фабрику, где пришивали пуговицы и делали петли. Платили им сдельно.
– …Потом он спрашивает: «Миссис Перкинс, а ваш палец беспокоит вас постоянно или время от времени?»
Милдред помолчала, и все замерли, ожидая развязки.
– А я отвечаю: «Нет, доктор, не постоянно, а только когда писаю!»
Женщины покатились со смеху.
В комнату вошла худенькая девочка. На плече она несла шест, на котором висели большие кружки и котелки – двадцать штук. Она осторожно поставила свою ношу на стол. В кружках был чай, горячий шоколад, бульон, водянистый кофе. Кружка у каждой была своя. Дважды в день – поздним утром и ранним вечером – они давали Элли кто пенни, кто полпенни, и она ходила с их кружками в соседнее кафе.
Женщины разбирали кружки, потягивались, распрямляли руки и ноги, терли глаза. Работа была не такая тяжелая, как в шахте, думала Этель, но утомительная: долгие часы сидишь, не разгибаясь, над машинкой, и все смотришь на строчку, чтобы шла ровно. Хозяин, Мэнни Литов, проверял каждую вещь, и если что не так – не платил за работу, хотя Этель подозревала, что бракованную форму он тоже отсылал.
Через пять минут Мэнни вошел в мастерскую, хлопнул в ладоши и сказал:
– Так, все за работу!
Они допили, что оставалось в кружках, и снова склонились над машинками.
Мэнни был суровым надсмотрщиком, но женщины говорили, что не из худших. По крайней мере он не лапал девчонок и не требовал, чтобы они с ним спали. Это был темноглазый, чернобородый человек лет тридцати. Его отец был портным, приехал из России и открыл магазин на Майл-энд-роуд – шил дешевые костюмы для служащих банков и курьеров. Мэнни научился ремеслу у отца и начал претворять в жизнь более честолюбивые планы.
Война оказалась на пользу бизнесу. С августа до Рождества миллион англичан пошли в армию добровольцами – и всем нужна была форма. Мэнни брал на работу всех встречных швей. К счастью, Этель в Ти-Гуине научилась шить на машинке.
Этель не могла не работать. Хотя за дом было уплачено, и она получала арендную плату от Милдред, но ей нужны были деньги на то время, когда появится на свет ребенок. Однако, когда начала искать работу, поняла, что даже в таком большом городе ее совсем не просто найти.
Там, где мужчина получал три-четыре фунта, женщине предлагали работать за один фунт. К тому же, соглашаясь, женщина должна была терпеть враждебное отношение и нападки. Многие пассажиры отказывались предъявлять билеты кондуктору-женщине; женщине-инженеру коллеги мужского пола могли подлить масла в ящик с инструментами, а женщин, работавших на заводе, не пускали в паб у проходной. Но что приводило Этель в ярость, так это то, что те же самые мужчины назвали бы женщину лентяйкой и плохой матерью, если бы ее дети были одеты в лохмотья.
В конце концов она с неохотой и досадой остановила выбор на исконно женской профессии – поклявшись, что всю жизнь будет бороться и обязательно изменит эту несправедливую систему.
Она потерла поясницу. Родить она должна была через неделю или две, и сейчас каждый день на работе мог стать последним. Шить с таким большим, далеко выступающим животом было неловко, но тяжелее всего оказалось справляться с наваливающейся усталостью.
Дверь открылась, и вошли еще две женщины, одна – с повязкой на руке. Швеям часто случалось повредить руку иголкой или острыми ножницами.
– Послушайте, Мэнни, – сказала Этель, – вы должны обеспечить нас аптечкой, чтобы у нас всегда были бинты, йод и кое-что из самого необходимого.
– Мне что, денег некуда девать? – отозвался он. Это был его обычный ответ, когда работницы пытались от него чего-нибудь добиться.
– Но вам же самому приходится терять в деньгах, когда кто-то из нас поранится, – стала мягко убеждать его Этель. – Вот пожалуйста, две женщины потеряли целый час. Вместо того чтобы сидеть за машинкой, им пришлось отправиться в аптеку, а потом обрабатывать рану.
– А потом мне пришлось зайти в «Гусь и пес», успокоить нервы, – сказала, усмехнувшись, женщина с повязкой.
– Вы, наверное, скажете, что я должен держать в аптечке и бутылку джина? – язвительно спросил Мэнни. Этель не обратила внимания.
– Я составлю вам список и узнаю, что сколько стоит, тогда вы и решите, ладно?
– Я ничего не обещаю, – сказал Мэнни, но он никогда ничего не обещал.
– Договорились, – и Этель вернулась к машинке.
Это она всегда просила Мэнни улучшить условия на рабочем месте, или возражала, когда он вводил перемены к худшему, например, пытался заставить их самих оплачивать заточку ножниц. Сама того не сознавая, она, кажется, взяла на себя ту роль, которую в Эйбрауэне играл ее отец.
Три последних часа рабочего дня показались Этель самыми тяжелыми. Ныла поясница, а от ярких ламп разболелась и голова.
Но когда часы пробили семь, ей не хотелось идти домой. Мысль, что придется весь вечер провести в одиночестве, ее угнетала.
Когда Этель только приехала в Лондон, на нее обратили внимание несколько молодых людей. Никто из них ей особенно не нравился, но она соглашалась пойти в кино, мюзик-холл, на концерт или провести вечер в пабе, а с одним даже целовалась, но без особого чувства. Однако когда стало заметно, что она беременна, все они потеряли к ней интерес. Одно дело – хорошенькая девчонка, и совсем другое – женщина с ребенком.
К счастью, сегодня должно было состояться собрание лейбористской партии. Вскоре после покупки дома Этель вступила в олдгейтскую ячейку Независимой партии лейбористов. Она часто думала, что бы сказал отец, если бы узнал. Может, захотел бы выгнать из партии, как выгнал из своего дома? Или был бы доволен в глубине души? Но этого она, должно быть, никогда не узнает.
Выступать должна была Сильвия Панкхерст, одна из лидеров движения суфражисток. Война внесла разлад в знаменитую семью Панкхерст. Мать, Эммелин, считала, что на время воины следует прекратить борьбу за права женщин. Одна дочь, Кристабель, поддерживала мать, но другая, Сильвия, порвала с ними отношения и продолжила борьбу. Этель была на стороне Сильвии: в военное время женщин угнетали не меньше, чем в мирное, и пока у них не будет права голоса, справедливости им не добиться.
Выйдя на улицу, Этель попрощалась с остальными. В свете газовых фонарей спешили домой рабочие, забегали в магазины покупатели за едой на вечер, а любители ночной жизни отправлялись на поиски развлечений. Теплом и весельем пахнуло из открывшейся двери паба «Гусь и пес». Этель понимала женщин, проводивших вечера в таких местах. Многим в пабе было уютнее, чем в собственном доме: здесь у них была веселая компания, и горе они заливали глотком эля или чего покрепче.
Бакалейная лавка Липмана, что возле паба, была закрыта: ее разгромили хулиганы-патриоты из-за якобы немецкой фамилии хозяина, и теперь окна и двери были заколочены. На самом деле хозяином лавки был еврей из Глазго, а его сын служил в шотландской легкой пехоте.
Этель села в конку. Ехать было всего две остановки, но она слишком устала, чтобы идти пешком.
Собрание должно было состояться в доме молитвы «Голгофа», где находилась клиника Мод. Когда Этель только приехала в Лондон, она направилась в Олдгейт, потому что это был единственный район Лондона, название которого она слышала, но зато уж о нем Мод говорила много.
Зал был ярко освещен настенными газовыми светильниками, а в центре стояла угольная печка, согревая промозглый воздух. Напротив стола и кафедры были выставлены ряды дешевых складных стульев. Этель поприветствовал Берни Леквиз – трудолюбивый и аккуратный до педантичности человек с добрым сердцем. У него был встревоженный вид.
– Заявленного выступающего не будет, – сказал он.
– А что же делать? – спросила Этель и оглядела зал. – Уже полсотни человек собралось…
– Обещали прислать замену, но я даже не знаю, что эта женщина из себя представляет. Она даже не член партии.
– А как ее зовут?
– Леди Мод Фицгерберт, – сказал Берни и недовольно добавил: – Может быть, из той самой семьи, что владеет угольными шахтами.
Этель рассмеялась.
– Надо же! – сказала она. – Я у них работала.
– И как она, хороший оратор?
– Понятия не имею.
Этель стало интересно. Она не видела Мод с того памятного вторника, когда та сочеталась браком с Вальтером фон Ульрихом, а Великобритания объявила Германии войну. Платье, купленное Вальтером, Этель хранила – оно висело в шкафу, заботливо обернутое бумагой. Платье было из розового шелка, с прозрачной накидкой, и вещи прекраснее у Этель не было никогда. Конечно, сейчас она бы в него не влезла. К тому же ведь не на собрания его носить. И шляпка к нему была, а на шляпной коробке значился адрес солидного магазина на Бонд-стрит.
Она устроилась поудобнее – ждать начала собрания. После свадьбы они с красавцем Робертом фон Ульрихом, кузеном Вальтера, обедали в «Рице» – этот обед она запомнила навсегда. Когда они входили в ресторан, она поймала на себе пару-тройку пристальных взглядов, и догадалась, что несмотря на дорогое платье, в ней было что-то, выдающее ее принадлежность к низшему классу. Но ей было все равно. Роберт смешил ее язвительными замечаниями об одежде и украшениях окружающих дам, а она рассказала ему немного о жизни в валлийском шахтерском городке – это было для него едва ли не большей экзотикой, чем жизнь эскимосов.
Где они сейчас? Конечно, и Вальтер, и Роберт отправились на войну: Вальтер с немецкой армией, Роберт – с австрийской, и узнать, живы ли они, невозможно. Как и о Фице. Этель лишь предполагала, что он отправился во Францию с «Валлийскими стрелками», но даже в этом не была уверена. И все равно она внимательно просматривала в газетах списки раненых и убитых, страшась увидеть имя «Фицгерберт». Она ненавидела его за то, что он так с ней обошелся, но все равно каждый раз благодарила Бога, не найдя в списках его имени.
Она могла бы поддерживать связь с Мод, просто посещая по средам клинику, но как было объяснить свои посещения? После небольшого волнения в июле – тогда на белье появилось пятнышко крови, но доктор Гринворд уверил ее, что беспокоиться не о чем – она чувствовала себя прекрасно.
Мод за эти шесть месяцев ничуть не изменилась. Она вошла в зал, как всегда, эффектно одетая, в шляпке с большим пером, поднимавшимся из-за ленты, как мачта корабля. Этель в своем стареньком коричневом пальто вдруг почувствовала себя оборванкой.
Мод заметила ее и тут же подошла.
– Здравствуйте, Уильямс! Простите, я хотела сказать, Этель! Какая приятная неожиданность!
Этель пожала ей руку.
– Вы меня простите, если я не встану? – сказала она, коснувшись выступающего живота. – Боюсь, сейчас я бы не поднялась даже чтобы приветствовать короля.
– Конечно, и не думайте! А после собрания мы сможем поболтать несколько минут?
– Это было бы замечательно!
Мод направилась к столу, и Берни начал собрание. Берни был евреем из России, как и многие лондонцы, живущие в Ист-Энде. Здесь вообще было мало настоящих англичан, зато много валлийцев, шотландцев и ирландцев. До войны было много и немцев; сейчас появились тысячи беженцев из Бельгии. В Ист-Энде они сходили на берег, и, естественно, здесь и селились.
Несмотря на присутствие столь уважаемой гостьи, Берни настоял на том, чтобы собрание шло по заведенному порядку: извинения отсутствовавших на прошлом собрании, несколько слов о его итогах и другие скучные повседневные вопросы. Он работал в библиотеке местного совета и во всем любил порядок.
Наконец он представил Мод. Она заговорила о борьбе женщин за равноправие – уверенно, со знанием дела.
– Женщина, выполняющая такую же работу, как мужчина, должна и получать так же, – сказала она. – Но часто нам говорят, что мужчина должен содержать семью.
Несколько мужчин в зале горячо закивали: именно так они всегда и говорили.
– Но что если женщине тоже приходится содержать семью?
Раздались одобрительные женские голоса.
– На прошлой неделе в Эктоне я познакомилась с молодой женщиной, которая пытается кормить и одевать пятерых детей на два фунта в неделю, а ее муж, который сбежал, бросив ее, зарабатывает четыре фунта десять шиллингов, делая в Тоттенхейме гребные винты для кораблей, и пропивает все деньги в пабе!
– Вот именно! – сказала женщина рядом с Этель.
– Недавно в Бермондси я говорила с женщиной, у которой муж погиб на Ипре. У нее четверо детей, а ей платят мало, потому что она женщина.
– Безобразие! – раздалось несколько женских голосов.
– Если предприниматель может платить мужчине по шиллингу за изготовление какой-нибудь детали, то он может столько же платить и женщине за такую же работу.
Мужчины неловко заерзали на своих стульях.
Мод обвела слушателей твердым взглядом.
– Когда я слышу, как мужчины-социалисты возражают против равной оплаты труда, я их спрашиваю: неужели вы позволите жадным нанимателям обращаться с женщинами как с дешевой рабочей силой?
Этель подумала, что Мод при ее положении надо быть очень смелой и независимой, чтобы иметь такие взгляды. И еще она позавидовала Мод. Позавидовала ее прекрасным нарядам, свободному стилю общения. К тому же Мод была замужем за человеком, которого любила.
После выступления лейбористы-мужчины стали задавать Мод недоброжелательные вопросы.
– Как вы можете скандалить по поводу избирательного права, когда во Франции умирают наши мальчики? – сказал кассир ячейки, краснолицый шотландец по имени Джок Рейд. Его поддержал гул голосов.
– Я рада, что вы спросили меня об этом, потому что этот вопрос беспокоит многих мужчин, да и женщин тоже, – ответила Мод. Этель понравился примирительный тон ее ответа, выгодно контрастирующий с враждебностью вопроса. – Следует ли во время войны продолжать заниматься политикой? Продолжаете ли вы, лейбористы, посещать партийные собрания? Должны ли профсоюзы бороться против эксплуатации рабочих? Прекратила ли на время войны свою работу партия консерваторов? Или, может, несправедливое отношение и угнетение временно прекратилось? Я скажу вам так. Мы не должны позволять врагам прогресса наживаться на рабском труде под предлогом войны. Это не должно давать традиционалистам повод остановить нас. Как говорит мистер Ллойд Джордж, дело есть дело.
В конце собрания организовали чаепитие – конечно, женщины, – и Мод, сняв перчатки, села рядом с Этель, держа в нежных руках чашку с блюдцем голубого фаянса. Этель чувствовала, что Мод было бы тяжело узнать правду о ее беременности, и потому она рассказала ей последнюю версию своей вымышленной истории любви: «Тедди Уильямс» погиб в бою во Франции.
– Я всем говорю, что мы были женаты, – сказала она, показывая дешевое обручальное кольцо. – Хотя сейчас никого это и не интересует. Когда мужчины уходят на воину, женщинам хочется порадовать их на прощанье, неважно, поженились они или нет. А вы, – тут она понизила голос, – ничего не слышали о Вальтере?
Мод улыбнулась.
– Произошла невероятная история. Вы читали в газетах о «рождественском перемирии»?
– Да, конечно – как англичане и немцы дарили друг другу подарки и играли в футбол на нейтральной полосе. Какая жалость, что они не отказались сражаться и не продолжили перемирие!
– Еще бы! Но как раз тогда Фиц встретил Вальтера!
– Вот это и впрямь чудо!
– Конечно, Фиц не знает, что мы женаты, и Вальтер не мог сказать ему этого именно теперь. Но он просил передать, что в Рождество он думал обо мне.
Этель сжала руку Мод.
– Как хорошо, что он жив и здоров!
– Он участвовал в боях в Восточной Пруссии, а сейчас во Франции, но не был ранен.
– Слава Богу. Но вы, наверное, вряд ли услышите о нем еще. Такая удача дважды не бывает.
– Да. У меня одна надежда: его могут зачем-нибудь послать в нейтральную страну, вроде Швеции или Соединенных Штатов, откуда он сможет отправить мне письмо. Иначе мне придется ждать конца войны.
– А как граф?
– Фиц? Прекрасно. Первые недели войны он наслаждался жизнью в Париже.
«Пока я искала себе копеечную работу», – с возмущением подумала Этель.
– У графини Би родился мальчик, – продолжала рассказывать Мод.
– Фиц, должно быть, счастлив, что у него теперь есть наследник.
– И мы все этому очень рады, – ответила Мод, и Этель вспомнила, что, несмотря на свои взгляды, Мод все же аристократка.
Собрание закончилось. Мод ожидал кэб, и они попрощались. Берни Леквиз вместе с Этель сел в конку.
– Она оказалась лучше, чем я ожидал, – сказал он. – Хоть и аристократка, но говорила убедительно. И очень доброжелательная, особенно к вам. Наверное, хорошо узнаешь людей, когда работаешь у них?
«Вы даже не представляете, насколько», – подумала Этель.
Она жила на тихой улочке в маленьком домике, стареньком, но крепком, совмещенном боковыми стенками с другими такими же домами. В них жили высокооплачиваемые рабочие, искусные ремесленники, мастера. Берни проводил ее до парадной двери. Она догадалась, что ему хочется поцеловать ее на прощанье. Она на миг задумалась, не позволить ли ему это – просто из благодарности, что есть в мире хотя бы один человек, считающий ее и сейчас привлекательной. Но здравый смысл возобладал: она не хотела давать ему пустую надежду.
– Спокойной ночи – и спасибо! – сказала она и ушла в дом.
Сверху не доносилось ни звука, света тоже не было: Милдред и ее дети уже спали. Этель разделась и легла в постель. Она устала, но мозг продолжал работать, и заснуть она не могла. Полежав так, встала и поставила чайник.
Она решила написать брату письмо. Этель открыла блокнот с писчей бумагой и начала:
Здравствуй, милая сестренка Либби!
В их детском шифре считалось каждое третье слово, а еще можно было переставлять буквы в словах, так что начало письма следовало читать «Здравствуй, Билли!». Сначала надо было написать письмо, а потом шифровать его. Она написала:
Я сижу одна, мне тоскливо.
Потом сразу зашифровала:
Там, где я работаю, я сижу уже не одна, и теперь мне не так тоскливо.
В детстве ей очень нравилась эта игра: придумывать вымышленное послание, чтобы зашифровать настоящее. Чтобы было легче, они с Билли придумали кое-какие приемы: вычеркнутые слова считались, а подчеркнутые – нет.
Она решила сначала написать все письмо, а шифровать уже потом.
В Лондоне жизнь не сахар, во всяком случае в Олдгейте.
Она собиралась написать бодрое письмо, рассказывать о своих проблемах непринужденно. А потом подумала: «Наплевать, уж брату я могу сказать правду!»
Мне казалось, что я особенная – не спрашивай, почему. Обо мне говорили: «Она думает, что слишком хороша для Эйбрауэна», и были правы.
Ей пришлось оторваться от письма и вытереть слезы, когда она вспомнила те дни: накрахмаленная форменная одежда, сытные обеды в безупречно прибранной столовой для слуг, а главное – стройное, прекрасное тело, которым она когда-то обладала.
А что я сейчас? Я работаю по двенадцать часов в день в мастерской Мэнни Литова. Каждый вечер болит голова, иногда и спина. Родится ребенок – он будет никому не нужен. Я тоже никому не нужна, кроме зануды библиотекаря.
Она погрызла конец карандаша и после долгого раздумья приписала:
Может, лучше было бы умереть.
II
Каждый месяц, во второе воскресенье, из самого Кардиффа приезжал приглашаемый для русских священник. Он прибывал в Эйбрауэн на поезде с саквояжем бережно упакованных икон и подсвечников – служить Божественную литургию.
Левка Пешков ненавидел попов, но службу посещал всегда – чтобы потом бесплатно поесть. Служба проходила в читальном зале публичной библиотеки. Библиотека носила имя Карнеги и была построена на пожертвования американского филантропа – так было написано на мемориальной доске, висевшей в вестибюле. Левка умел читать, но совершенно не понимал людей, получающих от этого удовольствие. Газеты здесь были прикреплены к массивным деревянным стойкам, чтобы не украли, и повсюду стояли таблички с просьбой соблюдать тишину. Ну что хорошего может быть в таком месте?
Левке вообще мало что нравилось в Эйбрауэне.
Лошади были везде одинаковы, но он ненавидел работать под землей: там вечно стояла полутьма и толстым слоем все покрывала угольная пыль, от которой он постоянно кашлял. А снаружи непрерывно шел дождь. Никогда он не видел, чтобы дождь шел столько дней подряд. Не грозы, не случайные скопления туч, за которыми можно ожидать передышки – ясного неба и сухой погоды. Нет, дождь был мелкий, моросящий, он сыпался с неба целый день, иногда – целую неделю, и противная сырость поднималась вверх по штанинам и заползала за шиворот.
В августе, вскоре после начала войны, бастующие выдохлись и вернулись на работу. Многих приняли назад и вернули им дома – исключение составили те, кого начальство заклеймило как смутьянов, и почти все они ушли с «Валлийскими стрелками» на войну. Выселенные вдовы как-то устроились. Новеньких больше не бойкотировали: местные пришли к выводу, что эти иностранцы – просто пешки, которыми манипулирует капиталистическая система.
Но Левка сбежал из Петербурга не для того, чтобы здесь сидеть. Конечно, в Англии лучше, чем в России: здесь разрешены профсоюзы, полиция более-менее держится в рамках, даже евреи чувствуют себя посвободнее. Но он не собирался всю жизнь просидеть в этом шахтерском городишке у черта на куличках. Не о том мечтали они с Григорием. Здесь не Америка.
Даже если бы ему и захотелось остаться, он должен был ехать дальше – ради Григория. Он понимал, что поступил с братом по-свински, но он ведь поклялся выслать ему денег на билет! Левка за свою короткую жизнь легко нарушил множество обещаний, но это собирался выполнить.
Ему уже почти хватало на билет от Кардиффа до Нью-Йорка. Деньги он прятал в тайнике под большим кирпичом на кухне своего дома на Веллингтон-роу, вместе с пистолетом и паспортом брата. Конечно, сбережения у него были не от шахтерского заработка: тех денег едва хватало на пиво и курево. Деньги на билет он откладывал, играя каждую неделю в карты.
Спиря уже не был его соседом: через несколько дней после приезда в Эйбрауэн он вернулся в Кардифф искать работу полегче. Но найти жадного человека можно везде, и Левка завел дружбу с помощником начальника шахты по имени Рис Прайс. Левка обеспечивал Прайсу постоянный выигрыш, а потом они делили выручку. Важно было не переборщить: иногда следовало дать выиграть и другим. Если бы шахтеры поняли, что происходит, для Левки это обернулось бы гибелью не только прибыльного дела, но и его собственной: скорее всего, его просто убили бы. Так что его богатство росло медленно, и Левка не мог себе позволить отказываться от бесплатных обедов.
Священника всегда встречала на станции машина графа. Его везли в Ти-Гуин, где угощали хересом с бисквитами. Если графиня была дома, она вместе с ним шла в библиотеку и заходила за несколько секунд до него – так ей не приходилось долго ждать в одном помещении с чернью.
И сегодня, через несколько минут после того как большие часы на стене в читальном зале пробили одиннадцать, она вошла в библиотеку в белой меховой шубке и шляпке – стоял февраль, и было холодно. Левка содрогнулся: видя ее, он всегда снова чувствовал тот всепоглощающий ужас шестилетнего мальчика, у которого на глазах казнили отца.
Следом за ней вошел священник в белом одеянии. В этот день впервые он явился в сопровождении другого человека в рясе – и Левка с ужасом узнал своего прежнего подельника Спирю.
Пока священник резал пять хлебов и смешивал воду с вином, Левка лихорадочно думал. Может ли такое быть, чтобы Спиря обратился к Богу и исправился? Или его одежда священника – лишь новый способ воровать и обманывать?
Началась главная часть литургии. «Аминь!» – отозвался священнику хор, созданный несколькими прихожанами из числа глубоко верующих (создание этого хора сердечно обрадовало соседей-валлийцев). Левка крестился, когда крестились остальные, но мысли его крутились вокруг Спири. Если бы тот вздумал выболтать правду и разрушить Левкины планы, это было бы вполне в стиле попов. Прощайте тогда карты, прощай билет до Америки и мечта вытащить туда Григория…
Левка вспомнил последний день на «Архангеле Гаврииле», когда он пригрозил Спире выбросить его за борт, едва тот спросил, что бы Левка делал, если бы Спиря его обманул. Теперь он вполне мог это припомнить. Левка пожалел, что тогда не сдержался.
Всю службу он смотрел на Спирю, пытаясь по лицу определить, чего от него ждать. Когда он подошел причаститься, то попытался поймать взгляд недавнего приятеля, но Спиря не подал вида, что узнал его: он как будто был всецело поглощен службой.
Потом священник и его служка уехал вместе с графиней на машине, и около тридцати прихожан последовали за ними пешком. Левка подумал, что, может, Спиря заговорит с ним в Ти-Гуине, и со страхом попытался себе представить, что он скажет. Сделает вид, что никогда не занимался с Левкой карточным жульничеством? Или все расскажет шахтерам и направит их гнев на Левку? Или потребует денег за молчание?
Искушение бежать из города немедленно было велико. Поезда на Кардифф шли каждый час или два. Было бы у него побольше денег – он бы сделал ноги не раздумывая. Но ему не хватало на билет, поэтому он брел по дороге, ведущей на холм к особняку графа, за бесплатным обедом.
Их кормили в помещениях для прислуги, на нижнем этаже. Кормили сытно: тушеная баранина и вволю хлеба, да эль, чтобы все это запить. К ним приходила Нина, русская служанка графини, женщина средних лет, которая была за переводчика. Левка ходил у нее в любимчиках, и она всегда следила, чтобы ему перепадала лишняя кружка эля.
Священник ел вместе с графиней, но Спиря вошел в столовую для слуг и сел рядом с Левкой. Левка изобразил самую обаятельную дружескую улыбку.
– Мой старый друг, какой сюрприз! – сказал он по-русски.
Но Спиря не клюнул.
– Скажи-ка мне, ты по-прежнему играешь в карты? – спросил он.
– Если ты будешь об этом помалкивать, я тоже никому ничего не скажу, – тихо произнес Левка, все так же улыбаясь. – Справедливо?
– Мы поговорим об этом после обеда.
У Левки упало сердце. Чем, интересно, кончится этот разговор – проповедью или шантажом?
Когда после обеда Спиря пошел к черному ходу, Левка двинулся за ним. Ничего не говоря Спиря повел его к белой беседке-ротонде, напоминающей греческий храм в миниатюре. Если бы к ним кто-то направился, они заметили бы его издали. Шел дождь, и по мраморным колоннам стекали крошечные ручейки. Левка стряхнул с кепки воду и снова надел.








