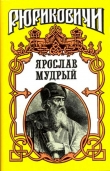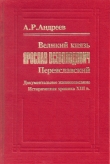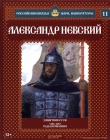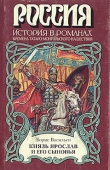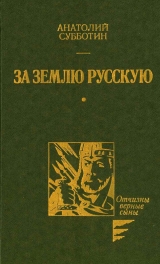
Текст книги "За землю Русскую"
Автор книги: Анатолий Субботин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 55 страниц)
Глава 3
Победители
Новгородское войско вернулось из похода к невскому рубежу. Ликующими кликами встречал победителей Великий Новгород. Владыка архиепископ с собором попов в облачении и с хургвями вышел из Детинца навстречу войску. Впереди возвращающихся новгородских полков – князь Александр Ярославич. На встрече он сошел с коня, приблизился к владыке и опустился на колено.
– Радуюсь, княже, что вижу тебя на Новгороде, – в наступившей тишине громко и отчетливо прозвучал тонкий, высокий голос владыки. – Да будет слава тебе и войску твоему, поразившему врагов земли нашей. Аз, смиренный архипастырь и настоятель дому святой Софии, в память победы твоей над войском вражеским, волею Господина Великого Новгорода, сказанною в грамотах веча и совета господ, нарекаю тебя именем Невский, да пребудет оно по вся дни славою тебе и потомству твоему…
– Слава!..
Не слышно последних слов владыки. Их заглушили громкие клики новгородцев и войска.
Три дня звонили колокола церквей и монастырей в Великом Новгороде. Праздновали новгородцы победу своих полков над шведскими крестоносцами.
На городских улицах с утра до вечера полно людей. На Буян-лугу, на Гулящей горке шапке негде упасть. Далеко разносились над Волховом песни голосовые; то протяжные, трогающие за сердце, то игровые, веселые. Не было конца забавам богатырским; пытали в забавах удалые головы свою силу. Чуть примолкнут песни, слышно перебор гуселюшек. Рожками и гуслями, звонкими сопелями зазывали людей скоморошьи ватаги. Не умолкая трещали голоса веселых петрушек.
Где бы ни собрались люди – на вольном ли воздухе, за чашей ли меду, – везде разговоры о походе. Да и как молчать, не сказать о горячей сече со шведами у невского рубежа! Ратники, бывшие в походе, сказывали о том, что сами видели, о чем от людей, от товарищей по походу слышали на пути. Переплетались в рассказах были с небылицами. Остер язычок у молодца, так всякое слово складно.
– Так-то и молвлю я, братцы милые, – начиналась речь. – Кто не видел битвы на Неве-реке, тому на ладошку не выложишь. Люто, во всю мочь и силу свою, бились наши полки. Первым начал сечу головной полк. По колено в крови стояли ратники. Солнце высоко поднялось, печет. В ту пору как выбежал берегом на поле полк правой руки с воеводою Спиридоновичем, день-то, казалось, остановился. Так вот! Неделю сказывай, не расскажешь дива, какое видели очи.
– Страшное было диво?
– Страшное ли? – вздохнул рассказчик. – Страшно вспоминать, а когда бились, страх поодаль стоял.
– Не страшно биться в сече, была бы сила да рука крепкая, – сказал стоявший близ рассказчика молодец в алом кафтане с наборным поясом; сказал и повел темной бровью.
– А что диво, Анфим, молви! – узнали люди в статном молодце Анфима, щитника с Рогатицы.
– Своими очами видел я диво, – щитник вышел вперед, усмехнулся, глядя на раскрытые от любопытства рты слушателей. – Кто силою не обижен, тому легко в бою, а кто мал и неказист, тому свой топор в тягость. Бился в сече молодец удалой, не топором бился – стрелами меткими. Припадет на колено, натянет тетиву – ни одна стрелочка не падет мимо. Есть в Новгороде Великом искусники в стрелецких потехах, но метче стрелы, чем у того молодца, о коем сказываю, не знал я ни в Новгороде, ни инде.
– Уж не свей ли стрелец?
– Не свей. Небось дюжина свеев от его стрел пала на землю. В новгородском полку бился молодец. Пришел он из Карелы.
– Ой, Анфим, неужто там метче новгородских лучники?
– Может, стрелы завороженные у того молодца? Люди в Кареле не нашему, своему, лесному богу молятся.
– Заворожить бы твой язычок, Офоня, то-то бы укладно молвил.
– С Офоней говорить – решетом воду лить, – пробиваясь сквозь плотную толпу вперед, скороговоркой прочастил Омоско-кровопуск. – Кланялись бы Офониной чести, да язык у Офони на сыром месте. Молви, Анфим, – Омос остановился перед щитником. – Каким ремеслом промышляет тот молодец?
– Князь он тамошний. Охотник, метко бьет зверя.
– Коли так, то и дива нет. Глаз у молодца по звериному следу наметан.
Близ Мстиславова дуба на колоде сидит Игнат-гвоз-дочник. Он в красной рубахе с узенькой плетеной опояской; волосы расчесаны, борода ровная, словно кужель у прядеи-мастерицы. Лишек меду выпил вчера Игнат, нынче хоть и опохмелился, но голос у него осип; говорит Игнат покашливая:
– Шагал с нами в походе ратничек… Кх! Ростом – верста немеряная; я не мал, а он на полголовы меня выше. Смеялись над ратничком в походе: «Эко, мол, чадушко! Рос – с елками в бору мерялся, троим положи бог столько росту – не обиделись бы». Шел детинушка на встречу с недругом, а на плече нес не копье, не рогатину – игрушку, топоришко легонький. Лезвие у топора изогнуто навроде молодого месяца. Только и виду у топоришка – ратовище, схваченное кольцами, длинное, как у рогатины.
– Откуда взялось экое чадушко? – усмехаются вокруг.
– Сказался со Мшаги, кузнец тамошний, – прокашлялся и ответил гвоздочник. – Ратники смеялись над его топориком, а он хоть окрысился бы на кого, скалил зубы вместе со всеми. О моем топорике, говорит, после битвы слово будет. А в битве, кто смеялись над ратником, прикусили язычок. Правду молодец молвил. При моих глазах махнул он топориком, вражий шелом рассек надвое. Не поломался, не погнулся топоришко, будто не железо рубил. Александр Ярославич видел в бою ратника, хвалил его. Добро бы, сказал, всем кузнецам такие, как у этого молодца, топоры ковать. Может, сила хитрая скрыта в железе, может, колдовство – не скажу про то, не ведаю.
– Хитры наши кузнецы! – прозвучал голос.
– Хитры-ы!
– Чьим копьем – заморских мастеров аль новгородского изделия – бился Ярославич с правителем свейским?
– Наших мастеров копье. Страшко ковал.
– Вправду?
– Почто врать? Страшково копье держал Ярославич. Правителя свейского с поля унесли замертво.
– Не сказка ли? Сам ты, Игнат, видел, как несли свея?
– Не сам, а знаю. Верные люди сказывали.
– Слыхали и мы от верных-то людей небылицы в лицах… То-то долгие, то-то гладкие.
– Дурак, коли не сумел отличить от вранья правду, – в толпе кто-то резко и грубо оборвал черномазого детину в серебряном поясе, напомнившего о небылицах. – В гридях болярских ходишь, а почто сам отлынил от похода, голову свою берег…
– Жаль небось головы-то, – засмеялись.
– А почто жалеть, коли пустая… Видел я, братцы, бой Александра с правителем Биргером… Не небылицу люди молвили, а быль.
Все глаза обернулись на того, кто сказал, что видел поединок. Узнали – Устин. Стоит он с нахмуренным челом, руку, оцарапанную шведским копьем, держит на рушнике, перекинутом через плечо. Он только что подошел к толпе, слушавшей рассказ гвоздочника, и, услыхав речь гриди, рассердился.
– Устин! Выйди-ка вперед, покажись! И о твоих подвигах рассказывают сказочки.
– От сказок я не вырасту, а в бою, как и все, бился.
– Видел поединок княжий?
– Привелось, близко был.
– Скажи, пал свей с коня?
– Пал. В чело шелома угодил ему копьем Ярославич.
– А Миша-ладожанин, сказывают, кораблики свейские ловил?
– Ловил. Целехоньких взял три кораблика, а много и по воде пустил. На большом корабле бился один с вражьей оравой.
На разные лады, по-разному складываются сказы о битве.
И воины и мирные люди с грустью вспоминали старого воеводу Ратмира. Видели Ратмира в битве, видели и лежащим в поле, среди павших от его меча шведских латников, и все же… Сил нет верить тому, что не покажется больше ни на улицах новгородских, ни на вечевой степени, ни на Буян-лугу бехтерец и кованый шелом воеводы. Вспоминали Ратмира и те, кто любили его, и кто врагом своим почитали, – вспоминали добром. В битве за Русь славною смертью пал витязь.
Храбро рубился в битве Гаврила Олексич. Молод, горяч, но слава Олексичу на Новгороде не за то, что мечом и копьем искусно владеет, что друг он князю, что отличал его воевода Ратмир среди других воинов. Храбрость не удивляла: славны храбростью и умением биться витязи новгородские! За то слава Олексичу, что сражался с воинами и оруженосцами Биргера, уносившими на ладью правителя, что, гонясь за Биргером, искупался в глубокой невской воде. На отрока Савву, из учебной палаты с Нередицы, показывали пальцами люди, говорили: «Это Савва… Борода еле проступила у молодца, а в сече он, как муж. Опоры у Биргерова шатра подрубил».
Старосты ижорских людей Пелгусия раньше имени не слыхали новгородцы, а теперь оно у всех на устах. В летах Пелгусий, борода у него седая: дивно казалось, как Пелгусий с ватагою гулял на Невской протоке, как рубил и топил вражеские ладьи.
На исходе вторая неделя со дня встречи войска. Слава и почетное прозвище Невский, которым встретил его Новгород, поднимали в душе Александра гордое сознание величия дела, которое совершили новгородские полки. Казалось, только теперь, в Новгороде, понял он значение победы над крестоносцами Биргера. После битвы и на походе, возвращаясь с ратного поля, Александр гордился победой, но то была гордость юноши, преодолевшего смертельную опасность, которая встала на его пути. Он молод, храбр, возвращается победителем из похода – чего же больше желать ему? До встречи с Биргером, как полагали люди и против чего не стал бы возражать Александр, сила его и власть опирались на силу и незыблемость власти отца, великого князя владимирского. Теперь слава сопутствовала Александру, новгородцы увидели в нем не только сына Ярославова, но сильного мужа, стоявшего во главе полков, защитивших от нашествия врага новгородские рубежи.
В первый же день по возвращении в Новгород Александр долго беседовал с ближним своим боярином Федором Даниловичем. Беседа касалась посылки гонца во Владимир, к князю Ярославу Всеволодовичу, с известием о победе. Александр высказал самонадеянную мысль, которую хотел выразить в грамоте отцу, что после Невской битвы Новгороду не грозит опасность нападения шведских крестоносцев, что урок, полученный ими на Неве, охладит пыл к походу на Новгород и у рыцарей-меченосцев и у римских попов. Александр не ожидал возражений Даниловича, говорил горячо; в голове его еще не улеглась память о дне битвы. Федор Данилович, ни разу не прервав, выслушал все, о чем сказал Александр, но вместо того, чтобы одобрить слова князя, заговорил хитро, будто заглядывая вперед:
– Истинно молвил ты, княже. Бегство свеев перед твоими полками – урок врагам Руси, но время ли нам кричать о том? Мыслю я, ливонские лыцари, а тем паче попы римские не оставят давних своих надежд о походе на Новгород. Войско лыцарское под Изборском. Поработили лыцари ливонские племена, смущают людей в нашей Вольской пятине. Орда не тронула Новгорода, но кто молвит, что не вернется хан, не пойдет боем и не потребует покорности?
– Не страх ли говорит твоими устами, болярин? – сказал Александр. – Хан далеко, ливонские лыцари ведают о нашей битве со свеями, нужда ли ожидать ливонцев к Новгороду?
– Тать и разбойник нападает, когда его не ждут, княже, – усмехнулся Федор Данилович. – Нам ли о том не памятовать! Вели нынче ехать мне во Владимир.
– Нет Ратмира, не будет и тебя в Новгороде, болярин Федор.
– Авось недолог сложится путь. О месяце сроку вернусь.
– Поезжай! Чаю, и батюшка рад будет видеть тебя.
Незаметно шли дни. После отъезда Федора Даниловича Александр был на совете господ в Грановитой. Бояре-вотчинники, старые посадники и тысяцкие, держали себя чинно, никто из них словом не нанес на князя. Не в пример прежнему, и между собой сидели тихо, не спорили, не бранились.
За мужество, оказанное в битве, Александр взял в младшую дружину отрока Савву. Чернец Макарий хотя и сетовал, что не увидит в учительной палате способного и прилежного ученика, но не перечил.
– Савва будет ладный отрок в дружине, – молвил. – Слух был, княже, о мире твоем с вотчинными болярами… Жаль, не пророк я, не предскажу, когда вотчинники вновь покажут свои когти.
– А если нет?
– Тому не бывать, – убежденно произнес Макарий. – Молчат, пока громка твоя слава, а попритихнет – вспомнят они о «старых грамотах»[38]38
Грамоты о власти и правах вотчинного боярства в Новгороде.
[Закрыть].
Глава 4
Ханский посол
Легче, чем с Федором Даниловичем и Макарием, дышалось Александру с Гаврилою Олексичем. Как и Александр, гордился Олексич победой над свеями, тем, что стар и мал знают его нынче на Великом Новгороде.
– Счастливо ты искупался в Неве-реке, Олексич, – вспоминал Александр. – Слава твоя затмила славу войска.
– Ради смеху слава.
– Полно! Где смех, там веселье и ласка.
– Кому меня ласкать, княже…
– Вот как! Уж не забыл ли ты хоромы на Нутной? – рассмеялся Александр. – Не заросла ли травой дорожка к молодой вдове?
– Не заросла, а…
– Коли не заросла, так веди в гости! – перебил Олексича Александр Ярославич. – Авось, веселое слово услышу, да и на вдову твою полюбуюсь… Пара ли молодцу? Не зазорно ли ближнему дружиннику моему бывать у нее в хоромах?
– Когда велишь, княже?
– Ввечеру нынче. Пожалуй, заранее кликни ей, припасала бы мед для гостей незваных.
Вечером, до полуночи, пировали в хоромах у Славновны. Нагрянула ватага дружинников, только ставь на стол еду да питье. Славновна убралась к приходу гостей, ходит по горнице белым лебедем, рада: ну-ка, сам князь с ближними переступил порог в ее горницу! Одно печалило Катерину Славновну: не остался сокол ее залетный ночь коротать в хоромах.
На другой день Олексич, еще ранние обедни не отпели попы, разбудил Александра.
– Вставай, княже! Весть тебе превеликая.
Спросонок Александр не сразу понял, что говорит Олексич.
– Отстань! Знать, вчерашний хмель не выветрился у тебя… Умойся студеной водой, отойдет.
– Не о хмеле речь, Александр Ярославич, – не унимался Олексич. – Спал бы и я, да разбудили не вовремя. Ордынский посол прибыл на княжий двор.
– Бредишь. Откуда быть ему?
– Так-то и я думал, княже, пока своими глазами не увидел ордынянина. Сам конно и с ним полторы дюжины конников.
Как рукой сняло с глаз сонную одурь. Александр вскочил, шагнул к окошку, но оттуда не видно двора. Не зная, зачем посол прибыл в Новгород, Александр велел Олексичу принять его, звать отдохнуть с дороги, а после обеден провести в гридню, буде ханский посол сам того захочет.
Олексич вышел. Но не минуло и получаса, как он снова вернулся в горницу. Александр в домашнем кафтане, с непокрытою головой, распахнув створку окошка, смотрел на густую зелень кленов и лип, ограждающих княжий терем. На скрип двери он круто повернулся и, увидев Олексича, нетерпеливо спросил:
– Говорил с ордынянином?
– Говорил, княже. Хочет он видеть тебя.
– Уж не выйти ли мне навстречу? – усмехнулся Александр. – Сказал ты, что он не в Орде, а в хоромах князя новгородского?
– Не слушает он слов, грозит волей хана.
– А нам ли слушать ханскую волю! – потемнев лицом и с трудом сдерживая гнев, произнес Александр. – Новгород Великий и князь новгородский не просили милости хана, и страха у нас нет. Буду говорить с ханским послом, как сказал, после обеден. А пока пусть отдыхают ордыняне. Укажи им место на нашем дворе, где жить, и дай корм!
Как ни кричал и ни сердился посланец хана, Александр сдержал слово, не принял ордынянина. Разгневало его упрямство ханского посла, то, что грозил ордынянин ему, князю новгородскому, волей хана. Разве не слыхал он о битве на Неве? Был в Новгороде посол Биргера, грозил полоном и смертью. Правитель шведов поплатился гибелью своего войска…
Все утро Александр не притронулся к еде. Собрался было в терем к княгине, но на полпути передумал, не пошел. Даже там, в тереме у княгини, спроси она об ордынянине, Александр не смог бы сдержать себя, выдал бы свой гнев и свою тревогу.
Готовясь к встрече с послом, Александр от души пожалел, что отпустил во Владимир ближнего боярина. Федор Данилович нашел бы, чем образумить ордынянина и принять его так, чтобы не пострадали ни слава, ни честь князя. Посоветоваться с Олексичем? Но он, как и все дворские, хорош дома, в домашних делах, но нет у него того спокойствия и рассудительности, которыми отличается Данилович. Среди бояр-вотчинников в совете господ и на владычном дворе есть умные головы, но не рано ли советоваться с ними, не узнав, какую весть шлет хан? Дадут совет, а после не стали б кичиться тем, что без них не смог князь говорить с ханским послом. Посоветоваться с гостиными людьми и с ремесленными, вече созвать, но и времени нет на то, и нечего пока сказать вечу. В конце концов Александр решил: «Послушаю, что молвит ордынянин, а сам молвлю, что молвится».
После обеден Александр вышел в гридню. Княжая круглая шапка покрывает его голову, синий кафтан туго перетянут княжим золотым поясом.
Окинув взглядом ближних дружинников, Александр прошел на свое высокое место и велел Олексичу ввести посла.
В парчовом распахнутом халате, из-под полы которого виднелась рукоять кривой сабли, в островерхой, жесткой, как луб, бараньей шапке, мягко ступая по ковру неподкованными, без каблуков, тонкими зелеными сапожками, посол приблизился к месту Александра. Он передал князю ханскую грамоту, потом, приняв от оруженосца саблю со сверкающей золотом и самоцветными каменьями рукоятью, поднял ее обеими руками и положил перед князем.
– Могущественный хан Вату, повелитель многих земель и многих народов, – начал он, – велел передать дар свой тебе, князь. Могущественный хан, покорив Русь, вступил ныне в землю угров; он послал меня в улус свой Новгород и к тебе, князь, чтобы сказать: почему Новгород не шлет своих послов к хану, не согревает сердца светом очей могущественного повелителя? Не поклонится новгородский улус миром, пошлет хан войско, разорит непокорный улус, не оставит камня на камне от жилищ ваших. Решай, князь, быть ли улусу новгородскому и тебе покорными повелителю мира или положишь меч и огонь на город свой?
Пока говорил ханский посол, лицо Александра то бледнело, то яркая краска заливала щеки. Казалось, вот-вот вскочит он, гневным словом остановит посла, велит или бросить его в поруб или гнать из города. Но Александр молчал. Уже посол давно кончил говорить, Александр все еще сидел неподвижно, точно скованный словами ордынянина. Но вот он поднялся, наступил ногою на саблю, положенную перед ним ханским послом.
– Спасибо хану за то, что не забыл он землю нашу, – сказал. – Жаль, неведомо, с какой поры величается ханским улусом Великий Новгород? Не ослышался ли я или не ошибся ли ты словами, посол хана?
– Не свои слова, а повеление могущественного повелителя передал я тебе, князь.
– Известно ли хану, что недавно полки новгородские поразили и иссекли в битве сильное войско короля свейского? В той битве не просили мы у хана ни помощи, ни совета. О том, как быть, после скажем и ответ свой дадим хану. А тебе, послу ханскому, рад Новгород. Гости вольно!
Глава 5
Тучи над Новгородом
Весть о приезде ханского посла разнеслась по городским концам. На торгу и в хоромах передают из уст в уста:
– Ханским улусом назвал ордынянин Великий Новгород, требовал дани.
– Ой, да как же? Кому дань-то?
– Им, улусникам… Орде окаянной.
– Врут. Статочное ли дело кланяться Орде?
– Истинную правду сказываю.
– Правда-то с кривдой – родные сестреницы. Молвишь правду, а ей тесно. Обежит все избы да снова к тебе в дверь… Такая-то разукрашенная, что не признаешь.
– Побожился бы, да ведь душу на ладошку не выложишь.
– А улусом почто звал? Не улус Новгород – Господин Великий.
– То ханское слово.
– Неужто Ярославич без гнева слушал, как ордынянин поносил перед ним Новгород?
– Слушал.
– Не велел схватить ордынянина, не выгнал из города?
– Нет. Живет ханский посол на Новгороде без обиды.
Не знали новгородцы злее вести, чем эта. Боярин Стефан Твердиславич долго ломал голову над тем, что велел хан своему послу сказать Великому Новгороду. И обида тяжко давила и сомнения тревожили. Не легко подняться из дому, но все же собрался боярин к куму Лизуте. Хитер и умен боярин Якун, уж он-то рассудит; коротка ли, длинна ли речь – Якун Лизута каждое слово добела обсосет.
Тоньше думы и мысли яснее, когда на столе ендова с медом, когда первые чаши опрокинуты, первым заедкам оказана честь.
Начал речь Твердиславич издалека, посетовал, что на старости остался он в одиночестве. Знал бы о скором походе, не послал Андрейку на Ладогу.
– За грехи, знать, покарал меня бог, Якуне, – вытерев рушником сухие глаза, сказал Стефан Твердиславич. – Как услышал весть, что сгиб Ондрей в битве, чую, ноги подсекло. Один у меня был Ондрей, кому оставлю вотчины? Кому хоромы и все добро, кому имя свое передам?
– Почто о худом думать, Стефане? – Лизута привстал и, выражая сочувствие горю кума, придвинул ближе к нему ендову. – Пережил я, Стефане, эти горя: дочь свою, по грехам моим, схоронил в черный год и болярыня моя тоже вот… Страдает.
– Годов своих страшусь, Якуне. Не спохватился вовремя, как схоронил покойную болярыню… На Ондрия была надёжа.
– Годы не укор, Стефане. У старого дуба корни крепче, так сказывают.
– Куда уж! Корни в земле, Якуне. Сломит буря вершину, и корни сгинут.
– А ты не поддавайся. И я жалею Ондрия… Крестник мой. Да ведь из жалости кафтан не сошьешь… У кого коротка жизнь, у того и грехов меньше. Чист Ондрий предстанет, как голубь…
– Род, род мой угас, – продолжал сетовать Стефан Твердиславич. – Последний я Осмомыслович. Копил и приумножал добро в поте лица, а тут – все прахом! Горько думать о том, Якуне!
– Испей-ка меду!.. Хорош мед, крепок. Намедни с Мологи, из моей вотчины тамошней, привезли… Ты о житейском тревожься, Стефане, оно ближе. За житейскими тревогами отойдет горе.
– Тревожусь, зело тревожусь… К слову бы молвить: ордынского хана послишко нынче на Новгороде… Не пойму, почто терпим?
– Истину молвил, терпим, – Лизута, прищурясь, поднял глаза на кума. – Прежде иноземные послы Великому Новгороду били челом, а хан забыл о Новгороде, князю писал грамоту, и слово посла было князю.
– Ну-ну, как же так, Якуне? – притворно изумился Твердиславич, будто впервые услышал о грамоте.
– Не видел хан Новгорода, неведомы ему и обычаи новгородские, – ответил Лизута. Потом, склонясь вперед, точно из боязни, что кто-то может услышать его, зашептал – Суздальские князья, Стефане, не ищут ли покрыть протори свои за счет Великого Новгорода?
– Можно ли так-то?
– Почему не можно? Почему бы иначе-то хану писать грамоту не Новгороду Великому, а князю?
– Растревожил ты меня, Якуне, своими речами, – Стефан Твердиславич неловко заерзал на лавке и, словно вдруг стало душно ему, расстегнул шубу. – Небось князь-то Александр не встанет супротив отца?
– Не жду того и не льщусь, – уклонился от прямого ответа Лизута. – Александр высоко голову держит. Которую неделю в городовых концах слышно его имя. Мыслю, Стефане: послишко-то ханский не на руку ли Новгороду?
– Не домекаю.
– А ты домекни! Александр молод. После битвы со свеями да как Невским всенародно назван, гордость его стала превыше разума. Хан в грамоте своей, слышно, извеличал Александра своим улусником. Любо ли этакое величание?!
– Не любо. Доведись меня…
– Сказывают, Александр то и сделал, – не слушая Гвердиславича, продолжал Лизута. – Напомнил послу, как новгородские полки иссекли свейских крестоносцев. Вот и суди, Стефане: по гордости-то по своей примет ли Александр покорность хану?
– Не знаю. Не молвлю наперед.
– Не примет, – отвалясь на лавке, усмехнулся Лизута. – И на пользу это нам, Стефане.
– Чем?
– Кинь-ко умом! Не покорится Александр хану – от хана зло примет; окажет покорность – Великий Новгород не возьмет улусье. Вече созвоним, пусть Александр скажет, как он волю новгородскую за ханские посулы отдал. Не близко ли, Стефане, времечко, когда увидит Новгород княжий поезд за городским острогом?!
– Такое-то сталось бы!..
Неделя прошла, как живет в Новгороде ханский посол. Все эти дни Александр не видел его. Олексич передавал: сердится ордынянин, ждет ответной грамоты. Александр велел дать в подарок послу меха куниц и черных лис, не жалеть меду и мальвазеи… Пусть ждет.
Послание хана больно уязвило самолюбие Александра. Ему ли, гордому князю, признать себя улусником? При одной мысли об этом охватывал гнев. Но Александр помнил развалины городов русских, знал силу Орды и потому сдержал себя, не посмеялся в лицо ордынянину, не изгнал его и его конников из города.
Не из страха перед ханом поступил он так, не себя жалел. «Погибну, кто рад будет гибели моей? – спрашивал Александр себя. – Вотчинники да об руку с ними лыцари ливонские. Тем, что ляжет костьми, не отвратим бед. Жесток и силен хан. Вернется на Русь войско ордынское – разрушит оно Новгород. Кровью людской потечет Волхов, пепел и камни останутся на месте славного города».
Душен и тяжел спертый воздух в горнице. Неподвижно стоят за окном клены и липы. Тронутая кое-где желтизной зеленая листва их бессильно поникла, словно увядшая. Доносится шум торга, и как будто вместе с этим шумом струятся в горницу запахи избяного дыма, перегретого дегтя, стоялых вод, – запахи изнывающего от жары города.
В переходе скрипят под ногами рассохшиеся половицы. В светлице княгини, куда вошел Александр, полумрак. Теплится огонек лампады перед темным киотом.
– Параша!
Княгиня поднялась навстречу. Просторный летник скрывает ее полноту. Жемчужные рясы ярко оттеняют вспыхнувший румянец щек.
– К тебе, Параша, спросить хочу…
– Что я молвлю, – улыбнулась княгиня.
– Ты сядь! Почто стоишь, – Александр осторожно обнял и усадил на мягкую лавку Прасковью Брячиславовну. – О большом деле хочу сказать, – продолжал он. – Трудно мне. Как вернулось из похода войско – весел я был, радовался и гордился тем, что от моих полков приняли поражение крестоносцы, что сам я поразил в битве правителя свейского. Думалось, ничто не в силах омрачить радость. Не верил я болярину Федору, когда, собираясь к батюшке, говорил он мне о новых вражеских кознях… И вдруг… Не стало у меня радости. Ордынский хан улусом своим назвал Новгород, покорности хочет. Скажи, Параша, улус ли Новгород?
– Ах, Сашенька, скажи тому послу, что ты князь… Ехал бы он прочь. И мне ли думать о хане? Видишь я какая… Скоро уж…
– Да, скоро, – как бы не поняв того, что сказала княгиня, хмуро повторил Александр.
– Не сердись, Сашенька! Не могу я о чужом думать. Не знаю, что будет со мной… И рада я и боюсь.
Александр молча обнял княгиню. Хотелось успокоить ее, сказать, что напрасно она тревожит себя, но как сказать об этом?.. Пришел, напугал речами…
Встревоженный вернулся Александр к себе. Как быть? Надо решить и сказать свое решение ханскому послу. В открытую оконницу откуда-то издалека, будто с Волхова, доносится песня, где-то кричат лоточники; на дворе, у княжей вежи, играют в рюхи дружинники.
Александр постоял у окна, послушал. Город живет, как и жил. Александр развернул плечи и потянулся с такой силой, будто тяжел и тесен вдруг стал ему легкий домашний кафтан.
В горницу неслышно вошел отрок. Он помялся у двери, видя нахмуренное чело князя, и молвил:
– Болярин Федор Данилович возвернулся, княже.
– Данилович? Где он? – Александр поднял голову.
– Возок его на дворе… Видел болярина и голос его слышал.
– Иди к нему и скажи: как отдохнет, шел бы не в гридню, а, по-домашнему, в горницу.