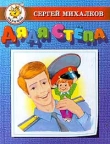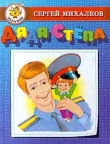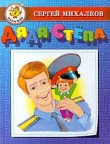Текст книги "Собрание сочинений в 3-х томах. Т. I."
Автор книги: Алексей Мусатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 40 страниц)
С утра Степа выехал на Фефеле бороновать вспаханную под пар землю. Земля уже засохла, отвердела, и железные зубья бороны оставляли на полосе еле приметный след.
Приходилось пускать борону по одному и тому же следу по нескольку раз.
Сначала Фефела ходила в постромках довольно исправно, но потом, когда начало припекать солнце и налетели слепни, она стала яростно хлестать себя хвостом, часто взбрыкивать и останавливаться.
Степа, помня наказ Тани и Нюшки о том, что с Фефелой надо обходиться построже, зло дергал вожжами и орал на лошадь страшным голосом. Но это мало действовало на Фефелу.
Когда от слепней стало совсем невтерпеж, лошадь вдруг легла на бок и, дрыгая ногами, принялась кататься по вспаханной земле. При этом она так запуталась в постромках, что Степе пришлось перепрягать ее заново.
И началось единоборство. Степа выломал длинный лозняковый прут и нещадно хлестал им лошадь, как только она пыталась повалиться на бок. Фефела же, скосив глаз, все выжидала момент, когда ее хозяин зазевается, и снова старалась лечь.
Но вскоре и прут уже не пугал Фефелу.
Тогда разъяренный Степа схватил глыбу земли и метнул в спину лошади. Фефела рванулась вперед, и мальчик даже не успел подобрать волочившихся по пашне вожжей.
– Тпру! Сто-ой!.. – закричал он, а лошадь, чувствуя, что ее преследуют, свернула с полосы и как ошалелая помчалась к деревне.
Борона запрыгала по комковатой пашне, заметалась из стороны в сторону.
Паровое поле кончилось. Фефела вырвалась на зеленое клеверище и, как гребенкой, процарапала по нему черный след. Потом она попала на чью-то картофельную полосу.
Степа обомлел. Сейчас лошадь с бороной ворвется в деревню и наделает такого переполоха, какого, наверно, еще никогда не бывало в Кольцовке...
Но тут от дорог и навстречу Фефеле шагнул какой-то человек. Он шел медленно, широко раскинув руки, потом вдруг кинулся к лошади и ловко схватил ее под уздцы.
Фефела, затанцевав на месте, остановилась.
Степа подбежал к незнакомцу. Сердце его гулко колотилось.
– Спа... спа... сибо, дядя!
«Дяде», державшему лошадь под уздцы, было лет под тридцать. Среднего роста, широколицый, с маленькими белесыми усиками, в запыленных сапогах, он лукаво поглядывал на красного, запыхавшегося Степу.
– На здоровье. Получай-ка свою лошадь. И скажи, кто это тебя научил швырять в нее комьями земли?

– Слепни одолели, – сконфуженно сказал Степа.
– Это бывает. А зачем ты за лошадью следом гнался, когда надо бы вперед забежать? Ты что, не деревенский?
– Да нет... я здесь живу, – помявшись, признался Степа.
– Скажи тогда отцу, чтобы он научил тебя с лошадью обращаться, – посоветовал незнакомец, передавая мальчику вожжи.
После этого он направился к дороге, где стоял оставленный им чемодан, и, взяв его, зашагал к Кольцовке.
Степа, проводив взглядом незнакомца, перевернул борону вверх зубьями и тронул лошадь обратно к паровому полю.
В сумерки, когда мальчик вернулся домой, к нему прибежал Шурка:
– Ты знаешь, кто к нам приехал? Отцов брат, дядя Матвей.
– Это что с усиками?
– Ага... Ты уже видел?
– Встречались...
– Отец говорит, Матвей что-то интересное будет рассказывать. Приходи к нам завтра утром.
Утром Степа направился к Рукавишниковым.
Их изба стояла недалеко от околицы. Большая, приземистая, она глубоко осела в землю и от старости наклонилась вперед, словно сгорбилась, и, как на клюку, опиралась на толстую дубовую подпорку. Одна сторона избы была обита тесом, другая, по-зимнему, закутана соломой. Фасад выкрашен яркой охрой, на крыше красовался щеголеватый резной петух, а у крыльца прогнили две ступеньки – у хозяев никак не доходили руки, чтобы их починить.
К углу избы был прибит вместительный дощатый ящик с надписью: «Для газет и писем», хотя письмоносец, по обыкновению, передавал письма через окно.
В сенях стоял закапанный клеем большой верстак, за которым обычно столярничал Шуркин отец, стена была увешана столярным инструментом, на полу лежали пахучая щепа и завитые в колечки и трубочки стружки.
Степа заглянул в избу; в ней никого не было. Тогда он пошел в огород.
Здесь было полно людей. То ли ради воскресного дня, то ли по случаю приезда Матвея к Рукавишниковым собрались родственники, соседи и немало односельчан.
Они расположились под старой раскидистой яблоней на траве. Кто сидел, поджав под себя ноги, кто полулежал, опершись на локоть, кто стоял на коленях – казалось, что люди собрались у костра для хорошей беседы.
Все с любопытством посматривали на Матвея Рукавишникова. Нет, он, пожалуй, ничуть не изменился. Тот же крутой лоб, густые белесые брови да шрам на виске – след давнишней мальчишеской драки. Только Матвей стал шире в плечах, завел усики, да светлые глаза смотрят внимательнее и строже.
– Так как же, Матвей? – заговорила Аграфена. – Надолго к нам-то? Или проездом?
– Теперь, думаю, надолго... – Матвей сощипнул с грядки стрелку зеленого лука, надкусил крепкими белыми зубами. – Хватит, побродил по белу свету.
– А не сжуют снова тебя, как вот этот лучок зеленый? – осторожно заметил Дорофей Селиверстов. – Зубастые-то у нас еще не перевелись.
– Не сжуют – подавятся, – усмехнулся Матвей. – Я теперь жесткий стал... горький.
Среди собравшихся прошел сдержанный смешок. Они вновь, и теперь уже с нескрываемым любопытством, смотрели на Матвея.
Кто из них не помнил Мотьку Рукавишникова? Мальчишкой он был первым озорником – ни одна драка без него не обходилась. Он водил ребят конец на конец, деревня на деревню, чистил чужие сады и огороды.
Но больше всего доставалось садам и посевам богатеев Шмелевых, Глуховых, Ереминых.
«Грабь награбленное», – вычитал Мотька в какой-то книжке, и с этим кличем он водил свою компанию на штурм чужих садов.
Не раз на Мотькину компанию составлялись суровые акты «о нанесении убытков культурным крестьянам» и дело передавалось в суд. Приходилось потом родителям за озорство детей выплачивать штрафы.
С тех пор так и повелось. Что бы ни случилось в Кольцовке– околела собака, завалился забор, пропал хомут, оборвали яблоки в саду, – за все был в ответе Мотька Рукавишников.
Егора, старшего брата Мотьки, замучили штрафами, вызовами в сельсовет, в милицию.
Потом Мотька уехал в город и поступил в педагогический техникум. Через четыре года он вернулся в родную деревню с дипломом учителя начальной школы. Жители Кольцовки отнеслись к нему с недоверием: что можно ждать от такого учителя! Ребятишки звали его Матвеем Петровичем, а для взрослых он по-прежнему оставался Мотькой.
Но Матвей Рукавишников стал другим.
С первых же дней приезда в родную деревню он затеял переписку с уездным начальством, потом не раз ездил в область и добился того, что старый помещичий дом, арендованный кулаком Шмелевым у сельсовета для своей торговой лавки, отдали под школу. По вечерам в школе собиралась молодежь, пела песни и ставила спектакли. Спектакли были не совсем обычные. На сцену выходили ряженые комсомольцы и школьники, а зрители, сидящие в зале, очень быстро узнавали своих земляков: здесь были и кулак Глухов со своими тремя батраками, и торговец Шмелев, спаивающий сельсоветчиков, и знахарка Спиридониха, за яйца и сало врачующая кольцовских крестьян от всех болезней.
Школьные спектакли завоевали широкую известность.
Вскоре Матвей организовал в Кольцовке пионерский отряд – в школе зазвучал голосистый горн, посыпалась дробь барабана. Часто пионеры выходили в поле и помогали многодетным вдовам-беднячкам убирать хлеб, копать картошку, возить из лесу топливо на зиму.
На уроках Матвей рассказывал ребятам, что старой крестьянской жизни приходит конец, что скоро мужики будут трудиться вместе. И потом, когда в Дубняках возникла первая сельскохозяйственная коммуна, Матвей вместе с комсомольцами ходил по избам и уговаривал мужиков не отставать от дубняковцев.
На стенах изб появились плакаты и лозунги, призывающие крестьян записаться в коммуну. Но охотников войти в коммуну было немного. Мужики недоверчиво посматривали на молодого учителя, все реже пускали его в избы и даже стали забирать из школы своих детей.
Председатель школьного родительского комитета Никита Еремин написал жалобу и, собрав подписи родителей, отвез ее в уездный отдел народного образования. Оттуда приехал школьный инспектор, и Матвею было предъявлено обвинение в том, что он отошел от школьной программы и учит детей не тому, чему нужно.
Все припомнилось учителю: и то, как он, засучив штаны, лазил с ребятами по болоту, и как играл с ними в лапту, бегал наперегонки, и как ставил оскорбительные для местных жителей пьесы, и как в осеннюю непогоду водил детей в поле.
Вспылив, Матвей обозвал инспектора кулацким прихвостнем и выгнал, из школы.
А через неделю молодого учителя отстранили от работы.
– Ну вот, Мотя, и выжили тебя! Не ко двору пришелся... – с горечью сказал ему Егор. – С нашими тузами лучше не связываться – с потрохами сгложут.
Матвей заявил, что он от своего не отступится и поедет разыскивать правду.
– Поезжай, поезжай! – напутствовал его брат. – Смотри только не заблудись.
Добиться возвращения в Кольцовку Матвею не удалось. Тогда он поступил на курсы повышения квалификации, а потом уехал учительствовать на Кубань – хотелось своими глазами увидеть, как начинается коллективизация.
И вот сейчас Матвей вновь вернулся в родную деревню и намеревался работать здесь учителем.
– Порасскажи, Матвей, о Кубани, – обратился к брату Егор. – Что там слышно?
– Что же вам рассказывать – сами, наверно, читали, – заговорил Матвей Петрович. – Поднялись станичники... Знаете, как в ледоход... Стоит лед, побурел, весь в трещинках, в полыньях, а все еще стоит, как будто зима в разгаре. А весна все же свое берет. Шевельнулась одна льдина, другая, затрещало все кругом, и пошло... Как уж зима ни пыжься, а ледоход не удержишь. Вот и у нас скоро так будет...
– Так уж и будет? – недоверчиво переспросила Аграфена. – Сам помнишь, как ты мужиков в коммуну звал записываться. А кто пошел? Так и теперь каждый в своем закутке сидит да за свою полоску держится.
– Будет, тетя Груня, ледоход, будет! – убежденно сказал Матвей Петрович. – В коммуну мужик не пошел, рано было, а в артель двинется, непременно двинется... Другие времена теперь. На помощь селу город идет, машины посылает, технику. Сколько уж тракторов «Красного путиловца» на полях работает! Одних рабочих двадцать пять тысяч в деревню едет. Будут помогать крестьянам колхозы строить...
Матвей Петрович оглянулся и, заметив, что у изгороди, кроме взрослых, собралось немало ребят, знаком пригласил их подойти поближе, словно хотел сказать: «Слушайте и вы! Вам это тоже знать надо», и принялся рассказывать дальше:
– Довелось мне попасть на Кубани на первый краевой съезд по коллективизации. Съехалось тысячи две делегатов. Выслушали доклад, начались прения. И каждому захотелось выступить, рассказать, как у них лед тронулся. Триста записок в президиум поступило. Прения на две недели можно растянуть. А тут кто-то и предложил: «Покажите нам тракторный завод». И всем это по душе пришлось. Подали специальный поезд. Приехали делегаты в Сталинград на тракторный завод. Завод огромный – за день не обойдешь. И уже совсем к пуску готов. Вошли мы в цех, а с конвейера пробный трактор сходит. Прогрохотал мимо нас, вышел за ворота и хоть сейчас в поле... Тут мы и представили, сколько же тракторов будет выпускать этот завод. И все это для колхозов. И такой на делегатов силой повеяло, слов не подберешь! И каждый, наверно, подумал: «Да, перед такой силой ничто не устоит».
И долго еще Матвей Петрович рассказывал о кубанских станицах, где люди начинают новую жизнь, о тракторных колоннах, что уже работают на колхозных полях.
– Артельная жизнь – дело нелегкое. Сама собой не явится, – продолжал он. – Кулачье, конечно, сопротивляться будет, мешать всячески. На Кубани они такую агитацию развели против колхозов – и слухами людей пугают, и огнем, и убийствами! Да еще хлебозаготовки саботируют. Государству хлеб нужен, надо рабочих кормить, Красную Армию, а кулаки придерживают зерно, скрывают хлебные излишки, прячут их, не продают государству: посадим, мол, Советскую власть на голодный паек... Кстати, как у вас с хлебозаготовками?
– Совсем несознательный народ, – пожаловался Горелов, сидевший позади собравшихся. – Ходишь по избам, толкуешь, а хлеба продают с гулькин нос...
– Ты на народ не греши! – перебила его Аграфена. – Кто с совестью, так прошлой осенью еще хлеб продали. Сама помню – красным обозом в город возили, с флагами. А вот наши крепенькие попридержали хлебушек, а потом втридорога на базарах им торговали или бедноте под отработку роздали. Ты ведь, председатель, лучше меня об этом знаешь! Так зачем же шоры на глаза навесил и уши паклей заткнул?
– Ты меня не учи, как хлебозаготовки проводить! – огрызнулся Горелов. – Я в сельсовете не первый день.
– То ли сидишь, то ли место просиживаешь!
– Ну, ну, схватились! – остановил их Егор Рукавишников. – Здесь вам не сходка. Дайте о колхозе-то поговорить. Кубань нам пример, конечно, но у нас и поближе народ зашевелился. В Пустоваловке, говорят, уже в артель сходятся, в Снегирях – тоже... А про Дубняки и говорить нечего. Там колхоз пятый год здравствует. Начали с коммуны, теперь на артель перешли.
Степа, сидя позади взрослых, боялся пропустить хоть одно слово. Рука его лежала на кармане гимнастерки. Значит, твердое это дело – колхозы. И совсем не на песке замешано, как говорит Илья Ефимович, если люди верят в них и всё смелее начинают жить по-новому. Значит, и отец его не напрасно погиб за коммуну...
Степа даже не заметил, как достал из кармана газетную заметку и протянул ее Матвею Петровичу:
– Это про Дубняки...
Матвей с удивлением покосился на мальчика:
– А-а, бороновальщик!
– Не узнаешь? – спросил Егор. – Это крестник мой, Степа. Погибшего Григория Ковшова сынок. Первый, так сказать, коммунар в нашем селе...
– Знакомы уже, – улыбнулся Матвей Петрович.
Степа подумал, что сейчас он со смехом расскажет, как убежала лошадь с бороной. Но тот только подмигнул мальчику и, взяв заметку, принялся читать ее вслух.
Заметка была короткая, и в ней шла речь о том, каких доходов добилась дубняковская артель «Заре навстречу» – за один только прошлый год колхозники приобрели сорок племенных коров и купили трактор.
– Слышите, товарищи! – оживился Матвей Петрович. – Есть и вам у кого поучиться. Надо экскурсию в Дубняки устроить. Лучшей агитации за артель не придумаешь! – Он обернулся к Степе, вернул ему заметку и внимательно заглянул мальчику в глаза. – Давай руку, молодой Ковшов. Я твоего отца хорошо знал. Добрую он память о себе оставил...
Степа доверчиво вложил свою руку в широкую ладонь Матвея Петровича.
ХОМУТОВЫ СТРОЯТСЯ...
Вслед за сенокосом подошла жатва. Рожь на полосах покрывалась золотисто-бронзовым загаром, усатые колосья, отяжелев от зерна, клонились к земле. Спелые хлеба слились в одно просторное, большое поле, и казалось, что нет в этом поле ни межей, ни отдельных полосок.
Но вот началась жатва, в поле запестрели платки, картузы, фуражки, соломенные шляпы, и вскоре обнаружилось, что все поле, как лоскутное одеяло, состоит из узких полосок, кургузых клиньев и делянок. Проступили глубокие межи, разделяющие одну полосу от другой, поросшие лебедой, чертополохом, овсюгом.
Рожь убирали кто как мог: одни жали серпами, другие, у кого хлеб уродился тщедушный и неказистый, скашивали косой.
Илья Ефимович, на зависть соседям, пустил на полосу жнейку, которую только что приобрел в городе. Жнейка, запряженная парой лошадей, взмахивала крыльями, как большая степная птица, и легко состригала глянцево-желтые стебли ржи.
Жатва у Ковшовых шла быстро. Но в семье никто не сидел без дела. Там, где не могла пройти жнейка, Илья Ефимович заставил своих домочадцев жать рожь вручную.
Надо было, нагнувшись к самой земле, захватить в левую руку как можно больше стеблей и срезать их зазубренным, изогнутым в дугу серпом, так похожим на клюв злой, хищной птицы.
И нет числа этим поклонам земле. Распрямиться можно только на короткий миг, когда связываешь сжатую рожь в тугой сноп.
Уже к концу первого дня жатвы у Степы мучительно заболела поясница. Мальчику казалось, что он мог бы вытерпеть еще два сенокоса, только бы не гнуть на полосе спину.
Кряхтел и чертыхался от такой работы и Филька.
– Эх вы, мужики! – посмеивалась над ними Таня. – Мыли бы полы почаще – было бы легче.
На третий день Филька прихватил серпом палец. Порез был неглубокий, но крови вытекло много, и перепуганный Илья Ефимович освободил сына от жнитва. Филька принялся таскать из родничка воду и угощать запаленных жнецов. Глаза его при этом плутовато поблескивали, и Степа почти был уверен, что Филька нарочно подставил под серп палец. Он даже сказал об этом Фильке.
– А кто тебе мешает? – фыркнул Филька, – Возьми да отхвати полруки! Что, брат, кишка тонка? Ну так и помалкивай в тряпочку, не рыпайся!
На четвертый день на соседнюю с Ковшовыми полосу вышли Хомутовы. Отец, мать и Афоня жали рожь серпами, а Никитка подносил воду; скручивая перевясла, подтаскивал снопы. Работали Хомутовы жадно, быстро, почти не разгибая спины, полдневали самую малость и к вечеру почти сжали всю полосу.
– Ну и работаете вы! – с восхищением сказал Степа Афоне. – Как жнейки, садите. Неужели у вас спины не болят?
– Ого! Еще как! – признался Афоня. – Жнитво – оно хуже каторги. Ты смотри, что мы с батькой придумали! – И он показал на колено, обмотанное тряпками. – Встанем на правое колено и двигаемся.
На другой день Степа попробовал работать по примеру Хомутовых, и ему стало немного легче. И все же он с большой радостью встретил день окончания жатвы – можно было распрямить спину.
Потом, когда снопы в поле подсохли, стали легкими и ломкими, началась молотьба.
Как-то раз Степа с Таней поехали на дрогах в поле за снопами.
Все полосы были заставлены шеренгами желто-бурых поставков – небольших округлых шалашиков, сложенных из снопов ржи и прикрытых сверху тоже снопом, превращенным в своеобразную шляпу. Одни шляпы сидели прямо, другие были сдвинуты набекрень или сбиты ветром на землю; издали казалось, что все поле заполнено подгулявшими и неизвестно куда бредущими людьми.
Отыскав полосу Ковшовых, Степа остановил лошадь около поставков. Обжигая руки о колючий жабрей, застрявший в снопах, он осторожно отделял из поставков сухие, теплые от солнца снопы и подавал их Тане.
Снопы потрескивали, брызгали зерном.
Сестренка стояла на дрогах и, приняв сноп в руки, бережно, как спеленатого ребенка, укладывала его на возу колосьями внутрь, колючим гузом наружу.
На соседнюю полосу на огромных скрипучих дрогах въехал Афоня Хомутов с братишкой Никиткой.
Приглядываясь к кольцовским мальчишкам, Степа обнаружил, что никто из них так много не работает в поле и дома, как Афоня.
Он поднимался чуть свет, раньше других ребят шел в табун за лошадью, быстро запрягал ее и выезжал вместе с отцом в поле или на луг.
На первый взгляд Афоня казался медлительным, вялым, нерасторопным, но любую работу он выполнял быстро и споро, стараясь опередить других. Если косил, то косой размахивал со всего плеча, прокос делал широкий, под стать здоровому мужику. Если грузил на дроги сено, то воз у него получался высокий, как дом, и лошадь еле тащила его по дороге.
От любой работы кольцовские ребята не прочь были убежать на речку, или на вырубку за ягодами, или просто поваляться где-нибудь на траве.
Не то было с Афоней. Работал ли он с отцом, с матерью или один, он все равно продолжал гнуть спину и трудился до тех пор, пока рубаха на спине не покрывалась солью и не вставала жестким коробом.
И даже в воскресные дни, когда ребятам обычно давалась передышка, Афоня был занят делами.
Сейчас, заметив Степу с Таней, Афоня помахал им рукой:
– Э-ей, Ковши! Давайте на спор, кто больше снопов увезет! – И, спрыгнув на землю, он сразу принялся за дело.
Степа оживился – почему бы не поспорить!
– С Хомутом не вяжись! – предупредила Таня. – Его никто не перегонит.
Но Степу уже заело.
Он торопливо кидал сестренке сноп за снопом, и она еле успевала укладывать их на возу. Порой снопы летели так, как и полагалось – колосьями вперед, но чаще всего, перевернувшись в воздухе, они падали в руки Тани колючим гузом. Колосья ударялись о край воза, и из них брызгало тяжелое зерно.
– Не срамись хоть перед Афоней! – взмолилась Таня. – Посмотри, как он работает.
Степа оглянулся.
Афоня осторожно отделял из поставка каждый сноп и подавал его на воз колосьями вперед. Потом, когда воз поднялся выше головы, Афоня достал маленькие двузубые вилы с длинным черенком. Как острогой, он пронзал снопы вилами, бережно проносил их по воздуху и плавно клал к ногам Никитки, так что ни одно зернышко не падало в жнивье.
Степа завистливо вздохнул: ничего не скажешь, ловко работает Афоня. И вилы-двузубцы он прихватил очень кстати.
Возы все росли и росли. Степе уже стало трудно подавать снопы наверх, и Таня сказала, что воз пора «гнетить». Делалось это так: поверх воза клали тяжелую гибкую слегу – гнет и при помощи веревки подтягивали его к снопам.
Потратив немало усилий, Степа с Таней наконец «загнетили» воз, выехали с полосы на дорогу, а Афоня все еще подавал братишке снопы.
– Да он что, зараз все снопы увезти хочет? – вслух подумал Степа и закричал Афоне: – Ладно, кончай, тебя не переспоришь!
– А он не для спора, – сказала Таня. – Такая уж у них порода, у Хомутовых: всегда чтобы полно да много было.
Степа еще с минуту задержался на дороге: интересно, как-то Афоня «загнетит» такой возище.
Стараясь поймать брошенный снизу сноп, Никитка слишком близко подошел к краю воза. Неожиданно снопы поползли вниз, Никитка плюхнулся и вместе со снопами съехал на щетинистое жнивье.
– Ах ты, малявка! Бестолочь! Зачем воз развалил? – свирепо заорал Афоня и, замахнувшись, ударил братишку черенком вил по затылку.
Взъерошенный, перепуганный Никитка отскочил в сторону И захныкал.
Степа бросился к Афоне и выхватил у него из рук вилы:
– Ты что малолетних бьешь?!
Афоня оторопело развел руками:
– Больно ты грозный! Отдай-ка вилы...
– Не отдам! Сам виноват... Зачем такой воз навьючил?
Чуя недоброе, к мальчишкам подбежала Таня и протиснулась между ними:
– Расчепитесь! Как вам не стыдно!
– Он же не больно... Он только замахивается, – подал голос Никитка. – Он у нас добрый, Афоня...
– «Добрый, добрый»! – забурчал Афоня. – А зачем на край стал? Лезь вот обратно.
Но Таня уже опередила Никитку. Она вскочила на оглоблю, потом на спину лошади и оттуда прыгнула на воз:
– Подавайте. Я сама уложу.
В четыре руки Афоня и Степа быстро покидали снопы Тане, потом «загнетили» воз и вывели его на дорогу. На каждом бугорке и повороте он угрожающе покачивался, телега поскрипывала, оси в колесах тяжело сопели.
– Ничего, дотянем! – успокоил Афоня. – У нас телега без износу.
Заморившийся за день Никитка еле волочил ноги и, поднимая с дороги столбы пыли, жадно поглядывал на воз.
– Экий ты мужик малосильный! – упрекнул его Афоня. – А ну, полезай на снопы!
– Дойду... Пегашке и так тяжело, – рассудительно отказался Никитка.
– Ладно, садись тогда на закорки, – сжалился Афоня и присел на корточки.
Никитка взгромоздился брату на спину, обхватил его руками за шею, и Афоня легко потащил его.
Степа с удивлением покосился на братьев.
– Вы что? – вполголоса спросил он. – Тоже, как батраки, робите.,. Ни вздоха, ни отдыха. С ног валитесь.
– Тю! – обиделся Афоня – «Батраки»! Скажешь тоже... Не-ет! Мы люди вольные, на себя стараемся. – Он вскинул повыше сползшего со спины Никитку и широко улыбнулся: – А что робим здорово, это правильно! Так мы всей семьей – отец и мать и мы с Никиткой. Про нас так и говорят: «Хомутовы с цепи сорвались... гору своротят». Батька – так тот день и ночь косой может махать или цепом бить.
И Афоня, ставший на редкость словоохотливым, принялся рассказывать. Раньше Хомутовы жили не ахти как – не было лошади, отцу приходилось кланяться соседям, подрабатывать у богатеев. Теперь стало много лучше. Отцу в районе дали ссуду, и они купили лошадь. Правда, Пегашка – маленькая, пузатая, мохноногая, но зато сильная и старательная. Вот как усердно она тянет воз со снопами, как ловко обходит каждую выбоину на дороге!
А самое главное то, что Хомутовы строятся. Старый дом вот-вот совсем завалится, стены вспучило, матица прогнулась, и под ней уже стоят три дубовые подпорки. Зато рядом вырос новый сруб из чистых сосновых бревен, с широкими окнами.
И теперь все, что Хомутовы ни делают, – всё ради нового дома. Надо побольше намолотить хлеба, запасти сена, побольше накопать картошки, чтобы на вырученные от продажи деньги купить доски, дранку, тес, гвозди, стекло, кирпич.
– Отец и говорит: «Голые будем ходить, а в новый дом въедем». Правда, он стал как помешанный. Ночью почти не спит, воскресных дней и праздников не признает, ворочает за двоих-троих да и нас заставляет работать так, что у всех кости трещат. Суров стал отец, несдержан, резок на руку – чуть зазеваешься, убежишь на речку или пойдешь с мальчишками поиграть в футбол, в лапту, так зараз получишь добрый подзатыльник или солдатского ремня во всю спину.
– Глядя на батьку, и ты по чему ни попадя младших лупишь? – спросил Степа.
Афоня смущенно покосился на Никитку, который уже дремал за его плечами.
– Да нет... Я тихонько, для острастки. – Он остановился, вздохнул и с надеждой произнес: – Скоро в новый дом въедем – тогда уж отдышимся...
– Давай понесу, – кивнул Степа на Никитку.
– Пожалуй... – Афоня бережно взвалил братишку Степе на спину и перевел дыхание. – А ты нашего дома еще не видел? Приходи – покажу.
Степа молча кивнул головой. Спокойный, неунывающий Афоня все больше и больше привлекал его к себе.
После этого случая Степа частенько заглядывал к Хомутовым, но Афоню никак не мог застать. То он теребил с отцом и матерью мох на болоте для конопатки нового дома, то возил бревна из лесу, то пас на лугу Пегашку.
Наконец Степе повезло – Афоня оказался дома. Он лежал в старой избе на широкой деревянной кровати и по-стариковски кряхтел и охал.
Около брата хлопотал Никитка, наваливая на него одеяла и шубы.
– Что с ним? Простудился? – вполголоса спросил Степа.
– Надорвался чуток, спину повредил, – объяснил Никитка.
Сегодня утром Афоня с отцом грузили в лесу бревна. Бревна перед этим только что ошкурили, и они были скользкие и верткие. Никитка сам видел, как отец с Афоней подняли тяжелый белый комель, чтоб положить его на грядку телеги. Неожиданно отец поскользнулся, упал, и его ноги могло придавить бревном. Всей своей неимоверной тяжестью комель повис на руках Афони. Он покачнулся, но отец крикнул ему: «Держись, паря!», и Афоня, судорожно обхватив комель, прижал его к груди, пока отец, вскочив на ноги, не принял всю тяжесть на себя.
Но в пояснице у Афони словно что оборвалось – он еле добрался домой и слег в постель.
– Ты отцу-то сказал об этом? – встревоженно спросил Степа.
– Зачем? – отмахнулся Афоня. – Только сердить его. Он вот как не любит, когда кто хворает! И сам про любую болезнь молчит.
– А вдруг ты позвоночник повредил, чудо-юдо? В больницу же надо...
– Ништо мне... Отлежусь – и все дела. Заживет до свадьбы. Да и Митяй обещался полечить.
И верно, вскоре пришел Митя Горелов.
Он сбросил с Афони все шубы и одеяла, заставил его лечь на живот и обнажить спину. Потом, достав из кармана бутылку, он налил себе на ладонь густой темной жидкости и принялся растирать Афоне поясницу. Афоня застонал, заскрипел зубами, засучил ногами, но Митя старался на совесть: тер поясницу своими жесткими ладонями и вдоль, и поперек, и вкруговую.
– Чем это ты врачуешь? – поинтересовался Степа.
– Муравьиный спирт, – объяснил Митя. – У бабки Спиридонихи выпросил. Здорово помогает! – И он принялся расхваливать чудодейственную силу спирта. Потом обратился к Афоне: – Хорошо бы тебя к живым муравьям отнести...
– Это зачем?
– А лег бы ты голой спиной в муравьиную кучу и полежал бы с полчасика. Сразу полегчает... Мой дедушка всегда так лечился.
– А на осиное гнездо лечь не прикажешь? Нет уж, сам так лечись! Мне и этого довольно, – отказался Афоня.
Наконец втирание было закончено, и ребята вновь закутали Афоню в одеяла.
Он полежал, успокоился и, кивнув через окно на белые стены сруба, попросил Никитку показать Степе их новый дом.
– Я уже видел, – сказал Степа. – Где там дом! Ни крыши, ни пола нет. Одни стены. Пока до нового дома доживешь, еще пять раз надорвешься.
– Ничего, выдюжим, – вздохнул Афоня. – К зиме обязательно переселимся. На окна наличники резные повесим. Палисадник перед домом поставим.
– Когда-то да что-то! А жили бы вы, скажем, в колхозе, собрались бы сейчас все артельщики: «Раз-два взяли, сама пойдет!» – вот вам и новый дом. Живи, Хомутовы, не надрывайся.
Степа принялся рассказывать о дубняковской артели, куда Матвей и Егор Рукавишниковы недавно ездили с группой крестьян, и о том, что скоро в Кольцовке «начнется ледоход» – мужики будут вступать в колхоз.
– Не-ет! Мой батька в колхоз не пойдет, – покачал головой Афоня. – Зачем нам? Он говорит, у кого голова на плечах да кто не лентяй, тому сейчас и без артели жить можно. Мы-то уж на ноги встанем как пить дать!