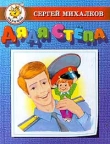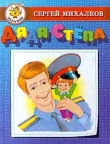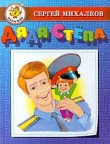Текст книги "Собрание сочинений в 3-х томах. Т. I."
Автор книги: Алексей Мусатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 40 страниц)
Через три дня чуть свет Шурка прибежал в общежитие и, разбудив Степу, сообщил ему новость: сегодня ночью исчезли из Кольцовки Еремины.
Они угнали своих коров, лошадей, вывезли все добро из сундуков, хлеб из амбара, и сейчас на ереминском доме висит тяжелый замок, а у крыльца на цепи бродит лютый Полкан и никого не подпускает к дому.
Отец Шурки, Матвей Петрович и еще несколько колхозников оседлали лошадей и верхами поехали догонять Ереминых.
– Драпанули, значит! – обрадовался Степа. – Туда им и дорога. Другим мешать не будут.
– А это видал? – Шурка достал из-за пазухи листок бумаги. – Послание нам... У себя на крыльце нашел.
«Степке Ковшову и всем его собакам-ищейкам, – прочел Степа. – Живите да оглядывайтесь! Мы еще встретимся на узкой дорожке и за все посчитаемся!»
Подписи под запиской не было, но Шурка принялся уверять, что почерк с такими загогулинами может быть только у Фомы-Еремы.
– Ну как, дрожишь? – осведомился он. – Страшно?
– Дрожу – печку не натопили, – усмехнулся Степа, натягивая рубаху. – А так вроде ничего.
– А знаешь что? – предложил Шурка. – Возьмем лошадей на конюшне – и тоже в погоню. Посмотрим, как Ереминых захватят. Да еще Фоме-Ереме накостыляем, чтобы не грозился.
Мальчишки недолго думая направились на конюшню, но Илья Ефимович резонно заявил, что без разрешения председателя он коней не даст, тем более несовершеннолетним школярам.
Не поддержала ребят и Аграфена.
Пришлось Шурке и Степе отправиться на занятия.
Весь день поглядывали они в школьные окна, поджидая, когда же вернутся из погони колхозники.
Те приехали только к вечеру. Впереди всадников двигалось двое саней, груженных пятью тушами убитых коров и телок, а за ними, сгорбившись, шел Никита Еремин с женой и дочерью. Но Фомы-Еремы и его старшего брата Оськи среди них не было.
Оказалось, что, когда погоня стала настигать ереминский обоз, Оська пострелял из обреза всех коров и телок, потом вместе с Фомой-Еремой они выпрягли из саней лошадей и, вскочив на них, скрылись в лесу. Старика Еремина колхозники застали около мертвых коров в неутешном горе. Он проклинал душегуба-сына и требовал, чтобы того поскорее нагнали. Тут же выяснилось, что сани были набиты разным домашним скарбом, но в них не было ни одного мешка семенного зерна.
– Нечего мне увозить было. Все на заготовку сдал до зернышка. Хоть верьте, хоть нет, – упрямо твердил Еремин.
А еще через несколько дней в Кольцовке началось раскулачивание. Кулацкие хозяйства были выселены из деревни. У них отобрали лошадей, коров, запасы зерна, сельскохозяйственный инвентарь, машины и все эта передали молодому колхозу.
Выселили из деревни и Никиту Еремина. Перед отправкой в район он ходил по избам без шапки, всклокоченный, в шубе нараспашку, падал перед мужиками на колени и слезно умолял простить его прегрешения... Вот жил он, Никита Еремин, карабкался вверх, как глупая букашка по травинке, а подул ураган – и он сброшен вниз, втоптан в грязь, и даже собственные сыновья бросили его на произвол судьбы.
Еремин все пытался повидать Илью Ефимовича, лез к нему в избу, но Ковшов упорно отсиживался во второй половине дома. Все эти дни он жил в тревожном ожидании, что гроза может разразиться и над ним. И только через Фильку Ковшов решил сообщить Еремину, что его хлеб скрыт в надежном месте.
Наконец раскулачивание закончилось, деревня приутихла, и Илья Ефимович облегченно вздохнул – грозу пронесло.
Но сегодня, вернувшись из школы, Филька передал отцу, что директор школы просит его вечером зайти к нему на квартиру. ,
«Опять дела да наказы...» – чуть было не сказал Илья Ефимович, но, покосившись на сына, сдержался.
– Попозже велел зайти, – повторил Филька. – И чтобы не очень приметно...
– Времени хватит – схожу! – недовольно буркнул отец.
Поужинав, он вместе с Аграфеной задал коням корму, переждал еще немного и часам к десяти вечера отправился к школе.
После того как Савин перестал заходить в дом к Ковшовым, Илья Ефимович даже обрадовался: меньше будет беспокойства, тревожных разговоров, всяких неожиданных поручений.
Но Савин не забыл Илью Ефимовича. Он то приглашал его к себе на квартиру, то передавал с Филькой записки, то присылал школьного сторожа.
Задания и поручения росли с каждым днем. Особенно ошеломило Ковшова последнее поручение– поддержать на собрании Василия Хомутова и записаться самому в члены артели. Сначала Илья Ефимович наотрез отказался от этого: лучше он бросит все хозяйство и уедет в город, чем станет работать бок о бок со всякой голытьбой, вроде Груньки Ветлугиной и Егора Рукавишникова.
Илья Ефимович до сих пор помнит тот вечер, когда об этом зашел разговор. Савин кричал на него, топал ногами. Он доказывал, что хотя Ковшов и считается умным человеком, но сейчас действует глупо, опрометчиво, под стать Еремину и Шмелеву. Бежать в город Илье Ефимовичу уже поздно; скорее всего, он попадет под раскулачивание, лишится всего своего добра, и его, помимо воли, выселят из деревни. Выход остается только один – сделать искусный ход и вместе со всеми пойти в колхоз.
Осторожненько напомнил Савин и о спрятанных мешках с хлебом: достаточно ему, директору, сказать хоть одно слово, и Ковшову явно не поздоровится.
Схватившись за голову, Илья Ефимович, в свою очередь, закричал, что директор вьет из него веревки, превратил в своего подчиненного, но в конце концов вынужден был согласиться.
– Вот и договорились! – улыбнулся Савин. – Значит, так на собрании и скажете – умненько, душевно...
А после вступления Ковшова в колхоз произошли еще более неожиданные вещи.
На собрании членов артели, когда зашла речь об обобществлении лошадей, Савин предложил занять двор Ковшова, а самого Илью Ефимовича, как человека грамотного и хозяйственного, назначить старшим конюхом. Директора школы поддержали Игнат Хорьков и Василий Хомутов: «Послужи обществу, Ефимыч... Ты в конях толк понимаешь».
Пораженный, Ковшов начал отказываться, но, поймав сверлящий взгляд маленьких свинцовых глаз директора, махнул рукой: «Раз общество просит – уважу!»
«И зачем я ему снова понадобился? – раздумывал сейчас Илья Ефимович, шагая вдоль улицы. – Неужто Савин что-нибудь новенькое придумал? Может быть, еще лошадей голодом морить заставит или сапом заразить. С него станется... Школой заведует, детей учит, а сам, как матерый волчище, вцепится в горло – не оторвешь. И откуда только такой забежал в Кольцовку?..»
Клейкий пот выступил у Ильи Ефимовича на спине. Он остановился, расстегнул верхний крючок дубленой шубы. А может, не ходить к директору? Это ведь верная гибель, если он, Ковшов, начнет пакостить на конюшне. За ним и так во все глаза смотрят. Недаром председатель артели приставил к нему вторым конюхом Аграфену.
Да еще эти чертенята-ребятишки, Степкины ищейки, следят за каждым его шагом. И как только ему удалось переправить ереминский хлеб и ни на кого не нарваться! Прямо повезло! Да и Филька молодец, научился на карауле стоять. Надо будет ему обновку справить, побаловать парня...
Илья Ефимович воровато оглянулся – нет, сегодня, кажется, никто за ним не смотрит.
Но что это? Мимо палисадников крадутся две фигуры. Они то остановятся в густой тени, что отбрасывают избы, то стремглав перебегают через голубую лунную прогалину и опять затаиваются.
Илья Ефимович прибавил шагу и перешел на противоположную сторону улицы. Фигуры сделали то же самое. Илья Ефимович дошел до конца деревни, где дорога поворачивала к школе, и, оглянувшись, присел за омет соломы.
Вскоре фигуры поравнялись с ометом, замедлили шаг, и Ковшов услышал их разговор.
– Куда же он подевался?
– Должно, к школе повернул, к директору... – И зачем он ходит к нему?
– Кто его знает... Раньше все Федор Иваныч к дяде заглядывал, а теперь почему-то дядя к директору бегает...
«Скажи на милость, и девчонки ищейками заделались!» – подумал Илья Ефимович, узнав по голосам Таню и Нюшку.
Первой его мыслью было нагнать девчонок, отодрать их за уши и отослать домой. Но потом мелькнуло другое...
Илья Ефимович снял шубу и вывернул ее шерстью наружу.
Таня и Нюшка, пройдя еще немного по освещенной лунным светом зимней дороге, замедлили шаг и вскоре повернули обратно.
Когда же они поравнялись с ометом соломы, в ноги им с хриплым рычанием бросился огромный лохматый зверь.
Обмерев от страха, девчонки завизжали, шарахнулись в сторону и, увязая по колено в сугробах, побежали к деревне.
И только когда они добрались до первой избы, Нюшка догадалась, что их перепугал не кто иной, как Илья Ковшов.
– А я сапог потеряла! – испуганно призналась Таня, обнаружив, что на левой ноге у нее нет валенка.
Нюшка всплеснула руками. Мало того, что подруге попадет теперь за валенок, дядя Илья, наверно, еще догадался, что они шли за ним следом.
– Ах ты, невезучая... вроде Митьки Горелова! – упрекнула Нюшка и полезла искать в снегу валенок.
Таня как цапля, поджала ногу и, растирая ее руками, осталась на дороге. Подруга долго не возвращалась. Она шла по старым следам, рылась палкой в снегу, но валенка нигде не было видно.
– Нюш, у меня нога коченеет... – позвала ее Таня.
Нюшка поняла, что с морозом шутки плохи. Она перестала копаться в снегу, сорвала с головы платок и обмотала им замерзшую ногу подруги.
– Бежим в общежитие... тут близко.
Вскоре девчонки были в теплом, натопленном общежитии. Степа первый бросился навстречу сестренке:
– Кто тебя?
– Потом, потом... Неси снегу! – приказала Нюшка.
Сгорая от любопытства, интернатцы обступили девчонок и забросали вопросами. Любопытно было знать, от кого это Таня так улепетывала, что потеряла валенок.
Никому ничего не объясняя, Нюшка усадила Таню и до красноты растерла ей ногу. Только после этого, отведя Степу в сторону, она вполголоса рассказала ему, при каких обстоятельствах Таня потеряла валенок.
– А куда Ворон пошел? – спросил Степа.
– Не знаю... Мы его след потеряли...
– Тогда вот что... – подумав, распорядился Степа. – Возьми Афоню и иди с ним искать валенок. А я побуду у школы...
ВО ФЛИГЕЛЕ
Перепугав Таню и Нюшку, Илья Ефимович обогнул кругом школу и отыскал калитку, ведущую в сад. Привычным движением он нажал щеколду, прошел мимо заснеженных деревьев и цветочных клумб к флигелю и как дятел постучал в боковое окно.
Вскоре на крыльце показался Савин.
– Поздновато, Ковшов! Ждать себя заставляете, – заметил он, вводя Илью Ефимовича в полутемную комнату.
– Так дела же, Федор Иванович, обуза! – пожаловался Илья Ефимович. – Двадцать пять коней во дворе. А я как-никак старший конюх... по вашей милости.
Савин, казалось, не заметил недовольного тона Ковшова.
– Обуза обузой, а от ночной работы не отказались... ереминский хлеб-то прибрали.
– Зачем же добру пропадать...
– Жадность одолевает... Опасную игру ведете, – холодно заметил Савин.
– И верно, опасную, – вздохнул Илья Ефимович. – Знаете, почему я еще задержался? Ребятишки по пятам ходят. Степка, как видно, целую компанию сколотил. – И он рассказал о встрече с Таней и Нюшкой.
– А они, случайно, за вами не увязались? – встревоженно спросил Савин, внимательно выслушав Ковшова.
– Да нет... Я их здорово припугнул... Убежали, – усмехнулся Илья Ефимович. – А вообще долго ли до беды... От этого колониста жизни не стало. Зря вы осенью тогда из школы его не убрали. Очень уж момент был подходящий.
Через окно Савин посмотрел в сад, залитый лунным светом. Как будто здесь все тихо и спокойно. Тянутся черные тени от деревьев, мерцает снег, к окну прильнули раскидистые ветви яблони.
Савин кивнул на вешалку, на которой висело несколько шуб и полушубков:
– Раздевайтесь!
– А что, разве надолго? – немного опешив, спросил Илья Ефимович.
– Сколько нужно, столько и задержитесь.
Савин провел его в соседнюю комнату.
Здесь было светло, с потолка свисала лампа-«молния», на полу лежала огромная медвежья шкура.
У стен, на венских стульях, поджав ноги, чтобы не наступать на шкуру валенками, сидели шесть или семь мужиков. Илья Ефимович почти всех узнал с первого взгляда. Кто был из Больших Вязем, кто из Торбеева, кто из Заречья.
– Надеюсь, вы знакомы! – Савин кивнул мужикам на Ковшова. – Садись, Илья Ефимович, послушай...
Ковшов осторожно присел на краешек стула.
– Так продолжим наш разговор, дорогие гости, – заговорил Савин, подходя к столу. – То, что вы раньше делали – всячески удерживали крестьян от вступления в колхозы, – было правильно. Но времена меняются. Как ни говорите, а мужик тронулся с насиженного места. Удержать его сейчас уже невозможно. А потому надо быть ловчее. Идите в колхоз вместе со всеми, не плетитесь в хвосте. Вступайте сами в артель и зовите туда других. Да что там – зовите!.. Сейчас кричат о сплошной коллективизации. Вот вы в лад и подыгрывайте. Пустите слушок: кто не запишется в артель, будет раскулачен. Припугните мужиков выселением из деревни, Сибирью...
– Чудно́ говорите, Федор Иваныч! – сумрачно перебил его большеголовый, горбоносый мужик из Торбеева. – Нам эти колхозы как кость поперек горла, а вы нас туда же заталкиваете... А зачем, спрашивается? Для мебели, что ли, для виду?
– Наоборот, Сидор Карпыч, – обернулся к нему Савин. – Вы в колхозах первыми людьми должны стать. Пробирайтесь в члены правления, в завхозы, в бригадиры, занимайте, как они говорят, командные посты. А там поворачивайте хозяйство, как вам будет угодно. – Савин кивнул на Ковшова. – Берите пример с Ильи Ефимовича. В артели без году неделя, а уже старший конюх, ведает всем колхозным тяглом.
– Навалилось на мою шею это тягло, – пожаловался Ковшов, – разорваться впору! Хоть бы пооколевала половина конюшни...
– Ничего, привыкайте, нужно это, – перебил его Савин. – И не вздумайте пока лошадей морить. Ухаживайте за ними по совести, чтобы люди вам поверили. А там... все в ваших руках.
– Федор Иваныч, гляньте сюда, – вполголоса позвал Савина горбоносый мужик из Торбеева, сидевший ближе всех к окну. – Кто-то снаружи вроде скребется...
Савин обернулся.
За окном, царапая верхнее стекло рамы, слегка покачивалась яблоневая ветка. Савин прижался к темному холодному стеклу, прикрыл глаза ладонями, чтобы свет лампы не отражался в окне, и вперил взгляд в ночную темноту. И тут совсем близко от себя он увидел настороженные, неморгающие глаза и приплюснутый к стеклу мальчишеский нос.
«Ковшов! Колонист!» – мелькнуло у Савина.
На какое-то мгновение взгляды их скрестились, потом глаза за окном исчезли, что-то глухо треснуло, и ветка закачалась быстрее. Затем все стихло.
Колючий холодок пробежал по спине Савина. В кои веки он собрал у себя на квартире «гостей», и этот мальчишка успел уже все высмотреть. И что ему надо, молодому Ковшову?
А Илья Ефимович, пожалуй, прав. Зря Савин в свое время не убрал Степку Ковшова из школы. Момент был действительно подходящий. А теперь вот расплачивайся...
С трудом сдерживая себя, Савин отошел от окна и встретил вопросительные взгляды «гостей».
– Кто там? Девчонки, что ли? – вполголоса спросил его Илья Ефимович, приподнимаясь на стуле. – Я вот уши им оборву, будут знать...
– Племянник твой балуется, – сдержанно ответил Савин. – Чересчур любопытен стал.
– Ах, собачья кровь! – выругался Ковшов. – Теперь разнесет по белу свету: то-се, собрание в ночь-полуночь, разговоры потайные...
– Накличешь ты нам беды, директор, подведешь под монастырь! – сердито сказал горбоносый мужик, поднимаясь со стула. – А ну, граждане, расходись, пока нас не зацапали...
Мужики устремились в соседнюю комнату и, толкая друг друга, принялись срывать с вешалки шубы и полушубки.
– Тихо! К порядку! – властным шепотом прикрикнул на них Савин и постучал карандашом по столу. Потом быстро подошел к двери, повернул ключ в замочной скважине и опустил его в карман. – Срам, позор! Серьезные люди – и кого испугались? Школьников, баловников. А ну, садись по местам...
Мужики, не выпуская из рук одежды, вновь заняли стулья.
Не скрывая брезгливой усмешки, Савин принялся объяснять, что через двойные рамы никто их разговора подслушать не мог и не может, а прийти к нему на квартиру мужики могли по любому поводу: побеседовать о школе, о своих детях, да мало ли еще о чем. На то он и директор школы.
– Да ведь время-то какое... всякое могут наговорить, – опасливо заметил кто-то из мужиков.
Савин покосился на темное окно. Вновь представилась качающаяся ветка, настороженные глаза Степы.
«Убрать его, убрать надо. И как можно скорее...»
– Тогда вот что, – сказал он. – Кое-кто из вас ходил ко мне раньше в хоровой кружок. Давайте-ка споем во избежание всяких кривотолков. Спевка и спевка – никаких подозрений не может быть.
– Верно, – согласился горбоносый. – Только маловато нас... да и баритона нет... Осужден по сто седьмой статье за сокрытие хлеба.
– Ничего! – усмехнулся Савин. – Илью Ефимовича попросим подтянуть. У него вроде тоже баритон... Так с чего же начнем? С нашей любимой?
Он достал камертон, щелкнул ногтем, поднес к уху, прислушался. Потом взмахнул руками и глуховато запел:
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока ты на воле.
Высоким, почти женским голосом его поддержал горбоносый, потом, недоуменно переглядываясь, не в лад, разноголосо, подхватили песню еще несколько человек, и позже всех натужным голосом принялся подпевать Илья Ефимович.
А в это время на улице, под окном, стояли Степа и Нюшка. Забраться еще раз на яблоню и заглянуть через верхнее стекло во флигель Степа больше не решился. Прижав ухо к окну, он все пытался подслушать, о чем директор школы разговаривает с мужиками.
Но голоса звучали глухо, отдаленно, и Степа с Нюшкой ничего не могли разобрать. Но вот во флигеле запели.
– Спевка у них, – догадалась Нюшка. – Фис это любит.
– А разве Ворон тоже в хору состоит? – спросил Степа. – У него же никакого голоса нет...
– Это так... От его голоса лошади шарахаются, коровы молока не сдают.
– Так зачем же Ворон на спевку пришел? Да еще ночью?
Нюшка пожала плечами и потянула Степу за рукав:
– Ох, уж и поют мотивно, слушать противно!.. Пошли отсюда...
Часто останавливаясь и поминутно озираясь на флигель, Степа побрел вслед за Нюшкой.
КЛЮНУЛО
Урок у Георгия Ильича шел, как обычно. Сначала учитель увлеченно объяснял очередную теорему по геометрии. Он размашисто рисовал на доске чертеж, звонко стучал мелком, так что летели белые брызги.
Потом Георгий Ильич перешел к опросу. Тут он спуску ученикам не давал. Спрашивал придирчиво, обстоятельно, «докапываясь до корня», как он выражался, и не жалея язвительных словечек для тех, кто отвечал путано и сбивчиво. «Так-с, молодой человек, пенки снимаете, шкварки выковыриваете, – обычно говорил он. – На халтурку хотите проехать?»
И надо сказать, что школьники побаивались острого языка учителя.
Сема Уклейкин, только позавчера попавший Георгию Ильичу на зубок, вел себя на уроке тише воды, ниже травы. Опустив голову, он лег грудью на парту и старался не попадаться на глаза учителю, хотя и чувствовал, что вызова к доске ему не миновать.
Уклейкин вздохнул и, толкнув в бок соседа по парте – Фильку Ковшова, признался ему, что он не приготовил урока по геометрии:
– Выручай!.. Сейчас в лужу сяду.
– Да я и сам не успел, – шепнул Филька. – Прогулял вчера.
– А Шум уже поглядывает на нас... Как кот на сало. Сейчас спросит, поди... Вот уж осрамит! – И тут Уклейкин решил применить свой излюбленный прием – заговорить учителя и затянуть время. Он тряхнул рыжей шевелюрой и поднял вверх длинную руку. – Георгий Ильич, можно спросить?
Учитель кивнул головой.
Уклейкин, громыхнув крышкой парты, поднялся, шмыгнул носом и спросил Георгия Ильича, где мягче климат: в Сибири или в Соловках.
– Позвольте! – удивился учитель. – Какое это, собственно, имеет отношение к геометрии? Если уж угодно, так спросите об этом на уроке географии.
– Имеет, Георгий Ильич, – невозмутимо пояснил Уклейкин. – Мужикам знать надо, куда лучше ехать – в Сибирь или в Соловки.
Степа оторвал глаза от тетради и переглянулся с Шуркой – они сидели за одной партой. Уж какой раз Уклейкин начинает на уроках вот такие разговорчики. И почему только Георгий Ильич терпит?
– Мужики, Сибирь... О чем ты говоришь? – пожал плечами учитель.
– А вы разве не знаете? – продолжал Уклейкин. – Сейчас такой закон вышел: кто в колхоз не пойдет, того, значит, из деревни в дальние края выселят. Могут даже к Ледовитому океану отправить, к белым медведям.
– Что за глупости, Уклейкин! – рассердился Георгий Ильич. – Садись!.. И давайте заниматься делом.
Лукаво подморгнув своим приятелям, Уклейкин опустился за парту. А приятели, сообразив, что урок может пройти без вызова к доске, принялись забрасывать учителя вопросами. Правда ли, что семена, которые засыпают сейчас в общий амбар, потом отвезут в город для отправки за границу, а колхозных лошадей угонят на живодерку и забьют: мясо пойдет на конскую колбасу, а из кожи пошьют городским дамам модные туфельки.
– Это же брехня кулацкая! – заливаясь краской, выкрикнул Степа.
– Самая что ни на есть отборная! – поддержал его Митя Горелов.
– Эй вы, бражка! – Шурка исподлобья посмотрел на компанию Уклейкина. – Не мешайте урок слушать.
– А мы не мешаем, – невинным голосом сказал Уклейкин. – Мы вопросы задаем. Пусть Георгий Ильич нам по правде все скажет.
Озираясь по сторонам, Степа выискал глазами комсомольцев:
– Ребята, что же вы... Запретить им! – И он прикрикнул на Уклейкина: – Ты... подлипало! Замолчи сейчас же!
– Вот уж и подлипало! Что ж теперь, нам и спросить нельзя?
– Может, еще нас голоса лишите? – поддержали Уклейкина приятели.
– К белым медведям сошлете?..
– Привыкли тут комиссарить!
– Начальники! Голытьба!
И класс забурлил. Мальчишки повскакали с мест, размахивали руками, кричали друг на друга, стучали крышками парт.
И только Филька неподвижно сидел на своем месте. Как ни хотелось ему ввязаться в перепалку с «артельщиками», но он, помня наказ отца, ни в какие споры о колхозах не лез, держал себя в руках.
Все-таки странная у него жизнь, у Фильки. Дома говори что душе угодно, ругай колхозы, Рукавишниковых, Аграфену, Степку-колониста, а на улице или в школе веди себя паинькой, помалкивай. С каким бы удовольствием Филька подстерег Степку где-нибудь в темном переулке и намял бы ему бока, чтобы колонист не следил за Ковшовыми! Отец же говорит: нельзя!
А неделю назад он дал Фильке совсем уж странное поручение – раззадорить Степу, вызвать на драку, но самому его не бить; сделать так, чтобы вся вина пала на колониста. Милое дельце! Тебя будут дубасить, а ты стой и облизывайся. Хорошо еще, что на свете есть Семка Уклейкин, который за деньги сделает все, что угодно. Семка, конечно, ободрал Фильку как липку, но дела до сих пор почему-то не начинает.
Сейчас Филька исподтишка наблюдал за распалившимся Степкой и Уклейкиным. Пожалуй, драки сегодня не миновать. Хоть бы перемена поскорее...
– Прекратите! Сейчас же! Я кому говорю! – взывал Георгий Ильич, стуча карандашом по столу. – Что это такое, спрашивается? Урок в классе или деревенская сходка? Уклейкин, Ковшов! Да вы скоро за грудки друг друга схватите...
Класс наконец угомонился, но было уже поздно: прозвенел звонок.
Георгий Ильич вытер взмокшее лицо и, расстроенный, вышел из класса.
Степа бросился к Уклейкину:
– Ты что, нарочно урок сорвал? Издеваешься над Георгием Ильичом?
– А тебе какая забота? – с вызовом ответил Уклейкин. – Подумаешь, коммунар приблудный! Заявился невесть откуда, командует тут...
– Гнида ты! – брезгливо сказал Степа. – Да тебе за такое дело...
Филька затаил дыхание: лучшего момента для драки и быть не может. Колонист разъярен, не помнит себя, кругом полно свидетелей.
Филька надавил приятелю на ногу: действуй!
Уклейкин вылез из-за парты, расправил грудь, вплотную подошел к Степе и толкнул его плечом:
– Стукнуться хочешь?.. А ну, тронь попробуй. Покажи свой бокс.
Степа отпрянул назад, глаза его сузились, все тело напряглось. Он уже не помнил себя от гнева.
Но драке помешали Шурка с Митей. Они отвели Степу к двери и вытолкали в коридор.
– Дурной, с кем вяжешься? – сердито зашептал Шурка. – Уклейкина не знаешь? Сейчас хай поднимет на всю школу, жаловаться побежит...
Тяжело дыша, Степа засунул руки в карманы и отошел в конец коридора.
И препротивный же у него характер! Сколько раз Матвей Петрович предупреждал его, чтобы он сдерживался, не лез на рожон! Но как тут сдержаться, если слышишь такие подлые слова!..
Тем временем в опустевшем классе Филька сердито отчитывал Уклейкина:
– Телок, размазня! Колониста не мог подначить.
– Видал? Боится он меня! – похвалился Уклейкин. – Задний ход дал.
– Кому нужна твоя храбрость? Забыл, чему я тебя учил?
– Помню, помню... – отмахнулся Уклейкин. – Ладно, он еще у меня клюнет.
Весь день Уклейкин обдумывал, как бы ему раззадорить колониста. Может, подставить ножку или толкнуть в узком коридоре... Но ничего путного в голову не приходило.
В большую перемену Уклейкин заглянул в школьный зал. Когда-то здесь была барская гостиная, и до сих пор сохранились следы былой роскоши: лепные потолки с амурами, потертый фигурный паркет, камин, выложенный цветной майоликой, и огромное, чуть ли не во всю стену, полукруглое окно, застекленное толстым зеркальным стеклом, через которое так хорошо видны школьный парк, речка, а еще дальше холмистое поле и дорога, уходящая на станцию.
В зале прогуливались девочки, мальчишек было немного. Они предпочитали проводить большую перемену в нижнем коридоре, подальше от дверей учительской и кабинета директора, которые, как нарочно, выходили в школьный зал.
По примеру девчат Уклейкин принялся чинно прохаживаться по залу. У окна, достав из кармана маленькое круглое зеркальце, Таня Ковшова расчесывала гребенкой короткие волосы.
«Вот Степка на кого клюнет – на сестрицу!» – мелькнуло у Уклейкина.
Улыбаясь своей догадке, он подкрался к девочке, выхватил у нее из руки гибкую, прозрачно-желтую гребенку и, сжав ее, как пружину, пустил вверх.
Гребенка ударилась о лепной потолок, потом о паркетный пол, подпрыгнула, и не успела Таня схватить ее, как Уклейкин, словно мяч, уже гнал гребенку по залу.
Мальчишкам игра пришлась по душе. Гребенка летала из угла в угол, скользила по паркету и никак не давалась Тане в руки.
– Эй, мужики, пас на меня! – войдя в азарт, командовал Уклейкин и под одобрительный смех приятелей ловко обводил девочку: что там ни говори, а он не последний футболист в Кольцовке.
– Отдай гребенку! – со слезами в голосе просила Таня, гоняясь за Уклейкиным. – Как не стыдно! Я вот Степе скажу...
Но и без Тани кто-то из девочек уже успел позвать Степу. Тяжело дыша, он влетел в зал и шагнул к Уклейкину: – Забавляешься?
Уклейкин остановился, гребенка лежала у его ног.
– Ага! – весело ухмыльнулся он. – Можем сыграть!
– Подними! – глухо приказал Степа.
Уклейкин сделал вид, что хочет нагнуться, но потом, кряхтя и скоморошничая, потер поясницу:
– Ох, прострел у меня... Спина не гнется.
Мальчишки кругом засмеялись.
Степа побледнел. Стиснув зубы, вдруг схватил Уклейкина за шиворот и, собрав всю силу, словно переломил его в пояснице, наклонил к полу:
– Поднимай, говорю!
Пыхтя, Уклейкин принялся сопротивляться, но Степа все ниже пригибал его к паркету. Вот уже руки Уклейкина коснулись гребенки. Мальчишки вновь засмеялись – в этот раз, пожалуй, не над Степой.
Чувствуя, что драка опять может не состояться, Уклейкин, изловчившись, изо всей силы ударил Степу под ложечку.
У мальчика потемнело в глазах. Выпустив Уклейкина, он отступил назад, жадно глотнул воздух, потом ринулся вперед. Он уже не помнил, как дрался: боксом или сплеча, он просто наносил удар за ударом во что-то большеротое, испуганное, хрипло орущее.
– Караул! Убивают! – истошно, на всю школу, вопил Уклейкин, пятясь назад и размазывая по лицу кровь из разбитого носа.
Вот он натолкнулся на стремянку, что стояла недалеко от окна. Не зная, куда деться от частых ударов, Уклейкин принялся карабкаться на стремянку. Степа полез следом, схватил Уклейкина за грудь и потащил вниз.
Стремянка покачнулась. Девчонки завизжали и шарахнулись в сторону.
Описав дугу, стремянка, как подрубленное дерево, упала на окно и верхним концом ударилась в стекло.
Сцепившиеся мальчишки свалились на пол.
Оглушительный звон стекла сразу отрезвил драчунов.
Оттолкнув Уклейкина, Степа поднялся, бросил взгляд на окно... и замер.
Большое стекло было исполосовано причудливыми трещинами, в середине зияла пробоина с острыми, зубчатыми краями, и из нее несло холодом.
Из учительской, приоткрыв дверь, на Степу смотрел директор школы.
А на полу валялась Танина гребенка...