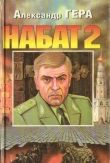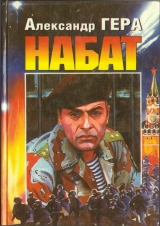
Текст книги "Набат"
Автор книги: Александр Гера
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
– А боевики? Не чахлый был народ, не трусы…
– В самый корень, Семен Артемович. Чтобы защищаться от боевиков, вооруженных, кстати, револьверами и стальными прутьями, казакам-сверхсрочникам разрешалось – понимаете? Разрешалось! – вплетать в кончик две пули. Такой удар успокаивал боевика минут на пятнадцать – двадцать до подхода жандармов и полиции. Казаки о смутьянов руки не марали, этим жандармы занимались.
– Так утяжеляли все же нагайки? – для себя прояснял картину Гречаный, Ивану он доверял всецело.
– Объясняю, – важно отвечал Бурмистров. – Казака призывали в полк двадцати одного года от роду, а нагайки с пулями доверяли только сверхсрочникам. Потому что молодой казак еще не имеет сострадания к чужой боли, может погорячиться и грохнуть обидчика насмерть. Это у нас восемнадцатилетние омоновцы орудуют дубинками без сожаления. И без духовности в первую очередь. Нам, омоновцам, что водка, что пулемет – лишь бы с ног валило…
– По-твоему, казаки взяли большевиков в 1905 году на испуг? – перевел разговор в прежнее русло Гречаный.
– Святая правда. Их боялись как организованную нравственно и духовно силу. И сейчас боятся. Вот еще что важно: люди Воливача стали пугать народ казаками, и коммуняки пугают. Смотрите, Семен Артемович, едва шушера всякая и жидво стало под демократов маскироваться, Дзержинскому петлю на шею враз надели, с постамента сбросили, а памятник, где озверевший якобы казак порет нагайкой безоружную ткачиху, по сей день стоит, чьи-то подлые ручонки цветочки к нему носят. Явная промашка. А ведь Дзержинский добра много русским сделал, воевал с контрой, а расстреливать дворян, государевых чиновников и прочий зажиточный люд велели чекистам лейбы да наши тупорылые типа Зиновьева и Каменева. И не они ли потом селились во дворцы, обставляясь награбленным? Каменев, сучара, один с бабой дворец занимал, а простым смертным отдавали такой человек на пятьдесят: коммуналка, видите ли, народ сплачивает, а мне, мол, думать надо за всех смертных. Правильно Сталин им бошки поотрывал, это не коммунисты, а прихлебатели из миски Карла Маркса.
– Ой, Ваня, – шутливо схватился за голову Гречаный, – уезжал ты по станицам тихо…
– А чего, Семен Артемович? Я только теперь стал погоны свои с достоинством носить, формы не стыжусь, как прежде, и превращать казака из защитника Отечества в опричника не позволю.
– Не позволяй, – серьезно ответил Гречаный, а про себя думал: добрый помощник вырос. С удовольствием думал.
– У прадеда были награды? – спросил он.
– Еще какие! – разом воспрянул Бурмистров. – Полный георгиевский кавалер! Я ж откуда род свой исследовать стал – в списках на стене Георгиевского зала фамилию Бурмистрова нашел!
– Имеешь право носить награды прадеда.
– Не буду, Семен Артемович, – спокойно ответил Иван. – Пока не имею права. Это я для себя так решил. Мой прадед Степан Сильверстович на Шипке первого Георгия получил, под Плевной второго и под самым Стамбулом третьего. Боевые награды, хотя и дадены за освобождение братского болгарского народа. А мы пока не воюем…
– И слава Богу, – серьезно ответил Гречаный, поднимаясь. – Спасибо, Ваня, за службу, а за науку особенно.
– Не за что, – беспечно ответил Бурмистров.
– А как приживается новая вера?
– Пока никак. Пока наш Смольников из пальца документ высасывает, старая как жила, так и живет.
– Сложно переход делать, – оценил его слова Гречаный.
– Это вы не о том, Семен Артемович. Русских и славян вообще дважды православными сделали. А старая вера – ведическая. Ребята развозят по куреням «Ригведу», и что удивительно, прочитают люди и говорят: вот это подлинно православная вера, а иисусик примазался к ней, и церковь с тех пор голову нам морочит абсолютно не русским духом, а жидовским.
– Иван Петрович, – мягко, но полуофициально сказал Гречаный, – настрой у тебя хороший после этой поездки, лишь одно слух режет: больно ты на евреев ополчился.
– А чего с ними миндальничать?
– Обожди, доскажу, – жестом руки остановил Гречаный. – Искать свои беды в чужих происках – последнее дело. Мы ведь сами позволили сесть на голову себе, а потом завопили, что дышать тяжело. В «Ригведе» нет призыва к уничтожению людей людьми, и не злоба накопилась от наших бед, а величие. Понимаешь?
– Хорошо понимаю, – кивнул Иван. – У вас получается так: если евреи нам дыхалку перекрывают – это одесский юмор, а если мы их на место ставим – это антисемитизм. Я не призываю истреблять их, я перед Ойстрахом шляпу всегда сниму, поклон до земли отвешу Ростроповичу, а Ротшильдам кланяться не обязан и засилья мойшев на русской земле терпеть не собираюсь. Пусть Ойстрах услаждает русский слух во славу своего народа, а «зеленые попугаи» пусть на своих шестках рассаживаются. И знают это…
3 – 12
Толмачев первым заметил изменение цвета кожи Судских. И не это было удивительным, а другое: каждые четыре дня он розовел, бледнея постепенно, и снова розовел. Каждые четыре дня профессора Луцевича ставили в известность, он приезжал, однако чуда не происходило. Подобно заре, цвет кожи постепенно бледнел и на третьи сутки принимал обычный восковатый оттенок, чтобы утром четвертого дня стать розовым.
Луцевич пожимал плечами и уезжал. Симптомов пробуждения не было, кроме непонятных этих.
Как правило, ограниченные люди недоверчивы, и Толмачев стал искать подвох, а не исследовать симптоматику. Вышло, что изменение цвета кожи приходится всякий раз на ночное дежурство Сичкиной.
– Сичкина, – прищурившись, допрашивал он, – почему именно ваше дежурство знаменательно?
Женя Сичкина за себя умела постоять. Будь Луцевич на месте Толмачева, она бы принялась мямлить, краснеть и в конце концов плакать, а Толмачев ни в один из разрядов мужчин по ее классификации не входил, и она отвечала кратко:
– Есть дежурный врач, его и спрашивайте.
Дежурный врач обычно спал, если не случалось происшествий, поэтому отвечал также уверенно:
– Все в норме. Приборы регистрируют, мы отслеживаем.
И демонстрировал контрольные ленты.
Ничего не добившись, Толмачев все же сделал вывод: Сичкина знает причину. Однако доказать не мог. Пусть Луцевич думает…
Зато каждое утро после дежурства Женя Сичкина могла видеть обожаемого профессора. Влюбленность не проходила. Мужчины у нее не переводились, естество требовало, а обладать богом оставалось мечтой желанной.
Потихоньку стал о чем-то догадываться и Луцевич, приехав в очередной раз через четыре дня. Внимательно посмотрев на медсестру, он ничего не сказал, а Сичкиной позже пришлось пить валерьянку.
Еще раз Луцевич исследовал каждое показание, все диаграммы, осмотрел участок головы, откуда выводили злополучную последнюю пулю, и ничего сверхважного не нашел, но велел подготовить для себя уголок. Каждое четвертое дежурство он будет оставаться в реанимационном блоке вместо врача.
Женя Сичкина задохнулась от соблазнительных картинок совместных дежурств. Она добилась-таки своего!
– Женечка, вы скрасите мое ночное бдение? – спрашивал Луцевич, разглядывая вены на руках Судских. И ладно, что так, иначе бы ей потребовался нашатырь, и, возможно, не видать тогда Сичкиной прелестных картин наяву. Она почти прошептала в ответ:
– Все бдения, Олег Викентьевич.
– Думаю, достаточно будет одного.
Сичкина чуть не умерла.
– Вот и чудненько, – произнес Луцевич. То ли вены Судских ему понравились, то ли покорность медсестры. – А дежурить мы с вами будем очень интересно, – продолжил Луцевич, и Женя сомлела от сладостных картин. Луцевич выпрямился и повернулся к Сичкиной. – Никакого секса. А страдать будем оба.
– Как страдать? – не смогла сдержаться Сичкина. – От любви?
– От нервов. Как все болезни. Один сифилис от любви.
– Я порядочная женщина! – вспыхнула Сичкина: созданный мир соблазнительных утех рушился на глазах.
– Не сомневаюсь. Только в нынешнем мире творятся чудеса. Вот, к примеру, последний случай. Юноша загибается от СПИДа, хотя девственник и даже импотент.
– Как же это? – испугалась Сичкина. Ей всегда было жаль недолюбивших и не любивших вообще.
– Никто не знает. Однако выяснилось, папаша был изрядный ловелас и премерзко обращался с женщинами. Женский батальон в полном составе взывает о мщении и сыплет проклятия на голову папани. Оральный, выходит, способ заражения. С небольшой разницей.
Сичкина разницы не уловила, но едва устояла на ногах. Слава Богу, Луцевич вернулся к Судских и не заметил перемены в Сичкиной.
– Как там, Игорь Петрович, не пора ли нам пора то, что делали вчера? – воззрился он в лицо Судских, ожидая ответной реакции.
– Тогда пошли, – сказал Судских, будто они вели перед этим долгую беседу.
Профессор округлил глаза, Сичкина свои закрыла. Ей стало плохо.
– Куда? – спросил Луцевич, преодолев недоумение.
– Тебе виднее, – ответил Судских. – Пошли к твоим гуриям, коль Всевышний, как ты говоришь, не препятствует этому. А к нему?
Сичкина ойкнула.
– К нему еще рано, – отвечал Луцевич. – Сам позовет.
Луцевич понял: Судских разговаривает с кем-то в ином мире, и от него, реального, требуется дать точный ответ, чтобы не взбеленились самописцы приборов и процесс восстановления шел естественным путем.
– Он сам нас найдет, – решился Луцевич.
После этих слов наступило заметное облегчение для всех. Судских больше не говорил. Луцевич уяснил картину и был доволен, а Женю Сичкину перестало трясти.
– Женечка, вы расскажете мне, о чем вы беседовали с Судских? – подступился к медсестре Луцевич.
– Клянусь, Олег Викентьевич, ни о чем мы не говорили, – защищалась Сичкина. По обыкновению, Луцевич просил оставлять его один на один с Судских, лишь сегодня он специально оставил медсестру, почему и разговор складывался откровенным.
– Тогда чем занимались? – как о прогулке спросил Луцевич.
– Ничем, – стояла на своем Сичкина.
– А все же?
Женя собрала всю свою решимость:
– Если проводите меня домой, тогда расскажу. Для науки это важно.
Луцевич другими глазами посмотрел на нее и сделал вывод: влюбленную женщину ожесточать нельзя, иначе Судских не жилец.
– Что ж, – решился и он. – Если это важно для науки, я даже поднимусь к вам. Какой этаж?
– У нас скоростной лифт! – возликовала Сичкина.
– Вот и правильно, – уже без них промолвил Судских. – Пойдем, Тишаня, прогуляемся. Может, Его встретим… А ты видел Его?
– Единожды. Только в яви Его не увидать. Как сон это. Будто идешь по луговине, и вдруг выплывает пред тобой образ. Видеть видишь, а потрогать нельзя. И видеть Его можно живым только раз в жизни, в момент рождения души.
– Души?
– Души, – подтвердил Тишка-ангел. – Когда человек появляется на белый свет, его душа живет уже девять месяцев и Сущий присутствует в момент ее зачатия. Всегда. Не случайно древние народы считали день рождения человека с учетом девяти месяцев в утробе, а мать знает точно, когда ребенок зачат…
– А как Он везде поспевает? На земле в одну секунду рождаются тысячи душ.
– А зачем ему торопиться? – засмеялся бестолковости Судских Тишка. – Мы в Нем живем, Он в нас и всегда с нами, если мы не продали душу дьяволу. Ты бы, Игорь свет Петрович, о другом задумался: почему человеку отведено девять месяцев до появления?
– Процессы, думаю, такие нужны. Кроликам полтора месяца отведено, кошкам – три, человеку – девять, а слонам – того боле. Почему?
– Про слонов ты, княже, хорошо вспомнил. Стало быть, не человек самый-самый, а слоны?
– Тишка, давай рассказывай, чего томишь? – вслед за своим ангелом рассмеялся Судских.
– Расскажу, княже, слушай. Действительно, на земле одни слоны дольше человека вынашивают плод потому, что они остались жить после Потопа. Несколько изменились только. До Потопа женщина вынашивала дитя полтора года, так в древних ведических книгах было записано, и жил тогда человек лет под тысячу – это и в Библии есть. Потом изменилась сама жизнь, изменилась и наследственность.
– Генетический код, – подсказал Судских.
– Он самый, – поддакнул Тишка уверенно. – Наслышаны. И чтобы зародилась душа, заполнила все клеточки тела, стало хватать всего девяти месяцев.
– Получается, – озадачился Судских, – если случится новая катастрофа, мы превратимся в кроликов?
– Ты очень прав, княже, – серьезно подтвердил ангел. – Не допусти этого…
Они поднимались выше и выше по белесым ярусам. Светлело. Так высоко Судских еще не взбирался. Сердце предчувствовало необычное – предчувствие легкого сна, после чего все сбывается. Его ангел был рядом, за его спиной умилительно подрагивали крылышки, похожие на стрекозьи в теплом летнем мареве…
– Остановись! – прозвучал твердый голос.
– Ох ти мне! – присел от неожиданности Тишка.
Пред ними возник архангел Михаил в своем греко-римском облачении, и крылья его не в пример Тишкиным выглядели по-военному внушительно и крепко.
– Рановато засуетились, – строго произнес Михаил.
– Извините, – пробормотал Судских. – Мы прогуливались.
– Немножко, – добавил Тишка.
– Ты, малец, ступай в казарму, – обратился к нему Михаил, – ас ним я сам займусь.
– Началось, – с тоской прохмолвил Тишка.
– Что началось? – не понял Судских.
– Ариман нарушил условия, кончилось перемирие.
– Дьявол сошел на землю, – пояснил Тишка. – Битва грядет. Прощевай пока, Игорь свет Петрович. Остерегайся, но я завсегда рядом, если в беду попадешь, хоть и в ратники ухожу.
Судских подивился превращению легкокрылого ангела своего в ратоборцы: с мечом у пояса, на ногах поножи, панцирь на груди светлого металла, как и меч, прочный и даже крылья стали крепче.
– Не рассусоливай! – грубо напутствовал архангел Михаил, и Тишку будто ветром сдуло.
Едва он исчез, Михаил спросил строго:
– Что тебе надо от Всевышнего?
– Решать пора, вернуться или остаться.
– Так решил, в какую сторону?
Судских видел по лицу архангела, что ему явно некогда, а его ответ не готов.
– Я, кажется, чего-то еще не знаю, – ответил он честно.
– Не кажется. Это так. Пойдем. Времени в обрез. Пока Симон и Гавриил готовят ангелов к походу, я уступлю тебе. Пошли.
– Куда? – естественно, спросил Судских.
– Сам должен увидеть, во что Всевышний оценил раздвоение души. Тогда и делай вывод. А на будущее скажу, если без меня возвращаться будешь: ты можешь перенести свою встречу с Господом на следующий раз.
– Я не хочу на следующий раз.
– Помолчи. Не твоего ума дело. Тогда с тобой в этот раз не случится смерти. Что бы ни случилось.
Он говорил на ходу, и Судских вслед за ним спускался ниже и ниже по темнеющим с каждым шагом ярусам.
– Смотри, запоминай и ничего не спрашивай. Только со мной ты можешь пройти все ярусы и не подвергнуться притяжению нечистой силы. Тишка слаб, а ты подавно…
Судских припомнил слова Тишки: «Даже со мной нельзя туда попасть. Зело гадкие места».
Они прошли через галерею, где бывали с Тишкой. На миг он увидел лицо с затаенной усмешечкой и догадался: молчаливый маршал влачит свою судьбу дальше, и не освободиться ему от тяжкого груза. Много знал он, за многое ответчик… В галерее было темновато, лишь багровые блики вырывали из темени отдельные тени. На миг он увидел знакомый лысоватый череп, склоненный над огоньком.
– Владимир Ильич? – невольно воскликнул Судских.
– Я, батенька, – грустно ответил унылый человек в мешковатом костюме. – Сморчки вот подвариваю, лечусь…
Судских разглядел спиртовый примусок и кастрюльку-ма-нерку.
– У меня очень болит голова, а сделать хотелось бы еще много.
– А где ваши экстраврачи?
– Врачи? Меня еще в Швейцарии напичкали гадкими снадобьями, превратили в наркомана, я боялся говорить о главной, надеялся успеть и обмануть время.
– Сифилис?
– Кто придумал эту глупость? – возмутился он. – Я с пятнадцати лет импотент, последствие вульгарного онанизма, это не важно, а страдал я от наследственной нейроцирку-ляторной дистонии, и все об этом знали. Но я был одержим идеей, и всем это нравилось. Я сгорел от чрезмерного труда выглядеть сильным и здоровым. Голова болела всегда и теперь болит.
– А за Россию она у вас болит?
– При чем тут Россия? Я мыслил глобальными масштабами. Россия – испытательный полигон, вожди ей теперь не нужны. Один покой…
– Не задерживайся! – грубо поторопил архангел Михаил. – Этот плут даже здесь придуривается, врет, боится попасть ярусом ниже, а объясняет свое плутовство на обычный манер: хотелось, как лучше, извините, не получилось. Всевышний распорядился держать всех плутов вместе. Нет от них проку ни там, ни здесь…
Пока он говорил, увлекая Судских по наклонной галерее, промелькнули в каморках, словно в купе ночного экспресса, Бухарин, Троцкий, Менжинский, Свердлов, еще кто-то с намасленными плешами и столь же масляными улыбками учтивости. Здесь они улыбались, там обрекали на смерть и голод людей. Каждый что-то варил на примуске или спиртовке, помешивал что-то в кастрюльке или мензурке. И что-то пога-ненькое было во всем этом действе. Бывшие вожди прихватили с собой заботу о чреве, никак не речи и манифесты, их естество осталось земным – пожрать. Ради жратвы они готовы были маскироваться под кого угодно и даже под порядочных людей.
«Здесь только наши?» – подумал Судских, и архангел Михаил ответил, будто читал его мысли:
– Здесь те, кого ты хотел увидеть, кому не доверяешь.
Ярусом ниже багровые блики исчезли, гниловато-зеленое свечение заменяло свет. Тени здесь не передвигались, а текли медленно из стороны в сторону.
– Боже! – приглушенно воскликнул Судских, и архангел Михаил оборвал его резко:
– Молчи! Молчи и наблюдай.
Мимо проплыла тень, размазанная в плоскости. На следующей Судских сосредоточил внимание, отчего тень подобралась, поджалась, стала узнаваемой, как и его деяния познались после его смерти.
«Никита! – догадался Судских. – Вечный Иуда, недоучка, дилетант, возомнивший себя пупком земли. Так тебе и надо!» – не стеснялся Судских.
Размазанной медузой проплыл Борька-алкаш, к нему в ноги пристроилась некая рыжая личность, за ними скользил ужом Мишка Меченый. Они даже не скомпоновались при звуке твердых шагов архангела Михаила. Слабые там, здесь им вовсе не хватало усилий.
– Последний нижний ярус, – напомнил архангел.
Они двигались в кромешной темноте. Судских ощущал, что сверху каплет, снизу подсасывает и мерзкое зловоние превращает низ и верх в единую неживую субстанцию. Он не различал лиц, хотя тени роились вокруг плотно, буквально наталкивались на них в торопливой поспешности высказать немую просьбу или пожаловаться на кого-то.
«В самом нижнем ярусе те, кто способствовал подлым», – вспомнил Судских Тишку-ангела. Он не различал их, не знал прежде, может, некоторых. В жизни они промелькнули и забылись живущими, хотя от них во многом зависела жизнь людская. Они обвешивали мыслящих, подкручивая весы Фемиды, сладко ели и пили, переводя добро в дерьмо, не заботясь о наследии, плодя себе подобных, кичливых от наличия для них созданного болотца. Они были ничем и всем одновременно, скрепленные диффузийными связями, мешая сильным выбираться наверх. Они застолбили себе места на престижных кладбищах, и все равно их не хотели знать живущие.
«Что же такое жизнь? – отвлекал себя от гнетущих картин яруса Судских. – Ради чего она дается, и нужно ли свершать, осиливать бытие, поднимаясь над себе подобными?»
– Таков закон вечности, – услышал он голос, не принадлежащий архангелу Михаилу.
«А если я не хочу жить в болотце, значит, я другое существо из другой среды, где чище и просторней?»
– Вот-вот, – прозвучал тот же голос с усмешкой в лад мыслям.
«Выходит, Всевышний создает нас в болоте и хочет, чтобы мы самостоятельно выбирались из него?»
– Эволюция мироздания, – подытожил прежний голос. – Выживают сильнейшие, осваивая новую среду.
«Выходит, Адам…» – блеснула догадка в голове Судских. Кстати, стало светлеть впереди: архангел Михаил вел его наверх.
– Про Адама не надо, – остановил его тот же голос, но Судских не внял предостережениям, вспомнился старый спор с Гришей Лаптевым по поводу библейского происхождения человека: «Не так все было, читайте Библию внимательней! Сначала Бог создал людей в последний день своего бдения, сказал им: плодитесь и размножайтесь. Потом он лег отдыхать и, выспавшись, взялся творить Адама, а позже Еву. Была попытка создать пару чистых и… не получилось».
– Не твое дело, – пророкотал прежний голос. – Посмотрю, как ты справишься со своим. Считай, доверяю тебе создать чистых.
Усмешка при этих словах была ощутимой и язвительной.
– Пошли отсюда, – буркнул архангел Михаил. – Покажу тебе сильных.
В новом ярусе, наполненном голубоватым свечением, фигуры двигались неторопливо, естественно или сидели в степенных позах, занятые самими собой. Никто ничего не готовил на примусках и спиртовках. Судских уже обратил внимание, что в каждом ярусе фигуры и тени живут отдельными жизнями, даже сталкиваясь или сплетаясь, они двигались куда-то без цели, не замечали преград, в голубоватом ярусе перемещения были наполнены степенством, заранее предупреждались столкновения.
Никого из увиденных Судских не признал. Какой-то плечистый мужик в крестьянской поддеве показался знакомым, но смутно.
– Ты спрашивай, здесь можно, – подбодрил архангел.
– Кто эти люди? – тотчас слетело с языка Судских.
– Видишь как? – без веселости улыбнулся Михаил. – Слона и не приметил… Я специально привел тебя сюда, чтобы вспомнил ты, кому обязан родом. Тот простоватый в поддеве – Минин.
– А Пожарский? – спросил Судских, привыкший сочетать эту пару в целое.
– Здесь чистые души, соль земли. Пожарский – князь, он в другом ярусе, он венчал дело. Это разные вещи. Всевышний распорядился дать ему другую жизнь. Если сможет, очистится.
– А это кто с бородищей?
– По сану борода, – подчеркнул архангел. – Ослябя. Вопреки обету взял меч на Куликовском поле, не убоялся гнева Всевышнего ради Отечества. Всевышний отпустил ему грех.
– Здесь, однако, воители собраны?
– Догадливый, – похвалил архангел. – Только не совсем. Здесь ратиане, кто в неровный час ремесло на меч меняет. А Пифагора здесь нет потому, что он не защитил своего ремесла, хотя Всевышний даровал ему ярус просветленных. Нет и братьев Ползуновых потому, что задумку с паровой машиной воплотили, а грамоте учиться не захотели, уповали на одну милость Всевышнего. Вот российский паровоз позже других и прибыл.
– А чем лучше этот ярус, чем для просветленных?
– Живые они. Только забытые. Вспомнят о них, вернутся снова на землю и пользы принесут много.
– А христоносная душа, почему ее здесь нет?
Архангел Михаил глянул на Судских из-за плеча, усмехнувшись:
– Тебя здесь тоже никогда не будет. Кесари с самой чистой душой сюда не вхожи. Здесь только жившие в простоте помыслов, без лукавства, а восхождение в помыслах – лукавство. Но не грех.
– А я с чего лукавый? – слегка обиделся Судских.
Михаил явственно ухмыльнулся:
– Ты еще никакой. Отмеченный печатью Всевышнего, и только. А что из тебя получится, сам пекарь. Тайну моего ключа и меча знаешь, а умудришься щитом моим прикрыть чистые души, быть тебе моим соратником.
– Вот даже как… – непонятно расстроился Судских. – А мне хотелось прожить спокойную жизнь.
– Всем хотелось. Я в архангелы не с дружеского пира попал.
Голубизна яруса еще больше посветлела, а фигуры стали попадаться реже, и двигались они не навстречу, а поодаль вместе с ними. К престолу Всевышнего своей дорогой. Глухого Бетховена Судских узнал сразу, узнал Мусоргского и Льва Толстого. Многих, обгоняя, не узнавал. Хотелось спросить архангела, но он опередил:
– Здесь расстанемся. Пора. Крикни Тишку, если нужен.
– Он ведь там нужен, – заупрямился Судских.
– Княже, – мягко промолвил архангел Михаил. – Ты нам больше нужен, помни это.
– Тогда…
– Не спеши. Успеешь. Тебе надо встретиться с троими в день последний. Выбери сам. Я все же отошлю к тебе Тишку сразу.
Архангел растворился в свете, и тотчас Судских услышал разгоряченное дыхание своего ангела за спиной.
– Ты бился?
– Нет пока. Мы западни воинству Аримана строили. Чем лучше придумаем их, тем меньше дьявольских сил сойдет на землю.
– Тишка, я могу увидеть свою мать?
– Конечно. Здесь она, неподалеку от престола. Добрая женщина, хоть и грешница.
– Как грешница? – остолбенел Судских.
– Спроси у нее сам, – отвел глаза ангел.
Они чуть спустились в зеленоватый коридор, и Судских сразу увидел бредущую навстречу мать.
– Здравствуй, сынок, – первая приветствовала она и замерла, опустив руки. – Прости меня…
Другого свидания он ожидал. Судских уже разбирался в условностях этого мира – чувствам было здесь место, а встреча с матерью расстроила его.
Отец умер, когда ему исполнился годик, он помнил его сквозь кисею младенческого взгляда. То пропадал в видениях, то появлялся, а мать всегда была рядом. Его не отдали в садик, он тихо дожидался ее возвращения с работы, придумывал тихие игры и тихо радовался ее приходу. И она радо-валась встрече, но не громко, словно за стенами их комнатки в коммуналке радоваться громко запрещено. Она выкладывала все происшедшее за день, когда смеялась, когда сердилась, и всегда будто испрашивала совета Игорька. То про собрание, где постановили отработать субботник в честь первого космонавта, то про Витьку Пахомова, который врет и взятые метчики в кладовую не возвращает, то про стеллаж, который вот-вот оборвется, а мастеру участка дела нет, и еще про подружку, которая обещала йодарить ношеное платье, да все не дарит… Про отца не вспоминала, только, засыпая, слышал он: «Вылитый отец». Он умер от воспаления легких, промучившись месяц в районной больнице, постоянно отхаркиваясь мокротами, и, как догадался Игорек, на слова прощания сил у него не осталось. Мать умерла когда он после третьего курса поехал с однокашниками копать картошку в область. Его вызвали поздно, едва разыскали соседи. Он приехал уже на поминки. Плакал горько первый и последний раз. Хотел бросить университет – кормиться как-то, – выручил доцент с их кафедры, поселившись у него. Весело прокуковали на картошке с крупной солью, на хлебе и чае, в спорах о кибернетике и философских началах, а там Игорю диплом дал свой хлеб, а доценту новая женитьба принесла просторную квартиру и домашние прелести.
В день получения диплома он побывал на могиле матери.
«Вот я и выучился, мама. Что же дальше? Ты так хотела видеть меня сильным и образованным…»
Тогда он и не подозревал, какие силы увлекут его в круговерть событий, какие пути пересекутся с обидчиками матери. Тогда он быстро вышел в люди и был счастлив малому достатку, но спокойной жизни. Женился, как все, завел детей, как все, копил на машину…
– Здравствуй, мама, – ласково ответил он, а приблизиться также не решился.
– Какой ты… Красивый, сильный…
– Я уже старый, мама, какая тут красота!
– Нет, Игорек, ты очень красивый, как отец. Господь велел рассказать о нем. Тогда не смогла, тебя рядом не было.
– Я разве не знаю о нем? Хороший человек, добрый и молчаливый.
– Нет, сынок. Петр Алексеевич на мне с жалости женился, он на «Фрезере» нашем в литейке работал, отчество тебе свое дал и любил тебя очень маленького. Я на третьем месяце была, когда он позвал к себе жить. Честь по чести сразу расписался… А отец твой не из наших был, норвежец, с делегацией на фестиваль молодежи приехал. Красивый такой, как ты, а я тогда в инструментальном техникуме училась заочно, сборщицей на «Фрезере» работала. Молодая была, веселая, а в пятьдесят седьмом фестиваль в Москве был; радостно было, жить хотелось празднично, вот и влюбилась в норвежца. И он хороший был, обещал к себе увезти. Только счастье наше с фестивалем и закончилось. Вызвали меня в Комитет и застращали, грозились в лагеря отправить на десять лет за связь с иностранцем. Я смолоду сдуру испугалась и отказалась от любимого. А он обещание исполнил, вызов прислал и сам приехал, только я отказалась. А ты уже наметился…
Судских выслушал горькую исповедь матери. Горечь испытал не за слова печали, а за изломанную жизнь. Вспомнились остро тихие свои посиделки в запертой комнате.
– Какой же это грех, мама? Ты любила, это не грех.
– Ой, сынок, спасибо тебе, – потянулись к нему руки матери. – Теперь мне легче станет с твоим прощением. Помоги и другой грех с души снять.
– Что-то еще приключилось?
– Расскажу, все одно. Тебе два годика было, Петр Алексеевич с год, как помер, легкими маялся, а меня снова в Комитет вызвали. Следователь опять давай меня мучить, стращать, намекал, чтобы, значит, мне вчистую от следствия уйти, – от него моя судьба зависит, и техникум и завод. Что ж с меня молодой взять можно? Поддалась…
– Прости меня, мама, за эту тайну. Ты не виновна ни перед кем. Я знать того мерзавца не хочу. Бог ему судья.
– Ох, княже, светел ты помыслом без умысла! – услышал Судских за спиной всхлипывающие притоптывания Тишки.
При этих словах мать его засветилась изнутри светом и растворилась в голубоватом эфире.
– Мама, обожди! – протянул к ней руки Судских. Только счастливую улыбку ее поймал в волнах свивающегося марева.
– Не надо, княже, не мешай, – потянул его Тишка. – Она ко Всевышнему отправилась. Он ей новую жизнь дарует. Ты встретишь ее, встретишь! Обязательно… Лукавый не искусил ее, тобой жить будет.
– Тишка, скажи, а отца родного я могу видеть? – взволнованным голосом после свидания с матерью спросил Судских.
– Его здесь нет, княже, он среди живых.
– А кто он, как найти его?
– Это тебе никто не скажет. Только в Книге живых его имя, а ты пока не сподобился заглянуть в нее. Только Всевышний. Не кручинься. Даст Бог, ты его на земле найдешь.
– Да-да, – рассеянно отвечал Судских.
– Кого еще лицезреть хочешь, Игорь свет Петрович?
– Кого? – задумался Судских. Ему в последний день можно увидеть только троих… Многие имена всплывали в памяти, кто-то услужливо листал будто список перед ним. Нет… Судских стер этот список перед собой. – Хочу видеть приемного отца своего, он мать пожалел в трудную минуту…
– Так, княже… – необычно теплым голосом ответил ангел.
Судских первым пошел навстречу Петру Алексеевичу.
– Дружок Минина, – шепнул вдогонку Тишка, – вместе они…
– Здравствуй, сынок…
Усталое лицо Петра Алексеевича сразу понравилось Судских. И сразу встала на место недостающая деталь его портрета, которую он в младенчестве не смог запомнить: удивительно спокойные глаза. В такие заглянуть – и нет своих тревог, там защита и уверенность в тебе самом. Глаза без утайки. Что бы ни случилось…
– Спасибо вам, Петр Алексеевич, за мать.
– Тебе спасибо, сынок. Нужным человеком вырос. Как же я хотел этого… Живи и дальше в чести и правде. Будь счастлив. Тебе пора.
Судских не ожидал столь скорого расставания.
– Не его вина, княже, хоть и недоговорено много. Сын тебя очень видеть хочет, – постарался успокоить Тишка.
– Мой сын Севка здесь? – взволновался Судских, сразу забыв о происшедшем. – Что случилось?