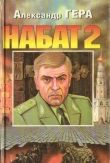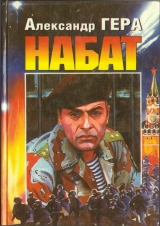
Текст книги "Набат"
Автор книги: Александр Гера
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 42 страниц)
2 – 6
Заново осваиваясь в рамках нынешней ипостаси, напрочь лишенный оперативной работы, Бехтеренко нашел занятие, которое назвал страстишкой: ему понравилось заказывать справки, сводки, графики и по ним, как по кирпичикам, складывать сооружение. Министр так и не сдружился с компьютером, да и времени на дружбу не оставалось. После смерти Гуртового Воливач и Гречаный теребили его часто. Того не подозревая, они превратили МВД в статистическое управление. Сказалась, быть может, тоска Воливача по УСИ.
Поиски тумбочки оставались на совести Бехтеренко и созданной для этого команды. За месяц притирки и составления базы данных Смольников не мог похвастаться результатом. Выяснилось, правда, что прибывающие из-за рубежа ввозят неучтенную валюту. Выяснилось, чаще всего ее везут не новые русские и старые евреи, а командированные и выезжающие на отдых. Среди них преобладали служители культа и бывшие чиновники, выезжающие проведать деток. По таможенным правилам такие суммы конфисковывались государством.
Смольников предложил пометить изъятые ассигнации, а потом, якобы разжалобясь худой жизнью, вернуть их хозяину. Для этой цели выбрали монаха, пенсионера и папу юриста Моисея Ароновича. Уже через день помеченные купюры обнаружились в обменном пункте: валюту монаха и пенсионера принесли их жены-домохозяйки, а Моисей Аронович менял купюры сам.
– А ведь еврейского следа нет, – говорил Смольникову Бехтеренко, прочитав докладную о дальнейшем движении рублей, меченных в обменных пунктах: деньги монаха обнаружились у двух членов партии коммунистов-гитлеристов, пенсионерские тратили в ресторане два папенькиных сынка, а Моисей Аронович вложил свои в покупку цемента для строительной фирмы «Моисей и Финько». Зять то есть.
Решение напросилось само: выверить контингент монашеского люда. Благо монастырей от прежней власти осталось много. В дела церковные по привычке никто не вторгался, советов, как обустроить Россию, не давали, а святые отцы от мирских советчиков держались особняком, хотя особняки их ничем хуже памятников новорусского зодчества не выглядели.
Выверили. Порадовались за крепость монашеского корпуса: четыре пятых его состава – из бывших коммунистов и националов.
– Вот и тумбочка нашлась, – потер руки Бехтеренко через два месяца от начала поиска и отправился на доклад к Воливачу. – Тумбочка со столом и кроватью, скатертью-самобранкой и зеленью.
Воливач выслушал его, просмотрел скрупулезную цифирь, поцокал одобрительно языком. Засмеялся:
– Слушай, Святослав Павлович, да ты прирожденный главбух! Надо ж такой талант скрывать…
Бехтеренко смолчал, чтобы не отвлекать Воливача от чтения документов, а про себя припомнил, что курсантом увлекался восточными единоборствами и времени, стало быть, на прочие науки оставалось в обрез. Тогда он разработал собственную методику обучения, на занятиях не дремал, строчил карандашом, позже переносил записи в тщательно разграфленные тетрадки и отдельно в картотеку. Допустим, на одной стороне: установка «Град». На другой – тактикотехнические данные. Или турбореактивный двигатель, 4300 км дальность полета, 6340 кг боекомплект. Что это? Ясно: тяжелый палубный штурмовик ВМС США А-5А «Виджи-лент». Сгодилась метода!
– А это что за картограмма? – привлек его внимание Воливач: картофель, овощи, мясо…
– Это соотношение выращенного на монастырских огородах, – подсказал Бехтеренко. – Вверху помечено: таблица № 8 сводной карты. Здесь же соотношение производимого и продаваемого, съедаемого и отдаваемого другим монастырям.
– Интересуемого и познаваемого много! – заржал, подначивая его, Воливач. – Ну, не обижайся, какая контора, таков и язык. Выходит, – перешел он на серьезный тон, – монахи содержат себя полностью, несмотря на партийную принадлежность. Еще и на рынки вывозят до 60 процентов…
– Это еще не все, – выложил Бехтеренко другую таблицу. – Вот сведения о гончарном производстве, стекольном, кузнечном…
– Такие таланты в партийцах, сплошь рабочие и крестьянские специальности! А они дурака ломали…
– Раскупаемость полная, – подтвердил Бехтеренко.
– Но делать-то что? – озабоченно сказал Воливач. – Собирались пригласить патриарха, попенять ему, а тут – хвалить надо. И много. Подскажи, бухгалтер, как поступить?
– А чего голову ломать? – прямолинейно отвечал Бехтеренко. – Давайте жить дружно: вы нам овес, мы вам коней.
– Да? – сузил глаза Воливач. – А перекачка средств из церковной кружки в партийные кассы? Этого в твоих таблицах нет, а ФСР предоставило. А то, что в монастырях оружие находят? Это не лимоны да груши, а лимонки да «узи».
Бехтеренко покраснел, обиду получил незаслуженно. Получалось, ему дали неполное задание, а выговаривали за халатность.
– Виктор Вилорович, моя контора пишет, а ФСР карандашами не делится. У них штаты прежние, а у нас на министерство пять автомашин, да списанных из парка ФСР. Справедливо?
Несправедливо. Обиду Воливач уловил, но отреагировал в своей манере:
– Не плачься. И по монастырям тебя шарить не посылают. У тебя ребята Судских работают? Вот и давай мне классику. Овощи раскопал, найди и фрукты. – Тут он смягчил тон. – Распоряжусь, чтобы делились с тобой информацией.
– Проще контору прикрыть, – вставил Бехтеренко.
– Додумался, – сделал кислую мину Воливач. – Нигде больше не ляпни. Казаки – казаками, а милиция – милицией.
«Ясно, – уразухмел Бехтеренко, – чего-то не поделили вожди».
Впрочем, не его это собачье дело.
А размолвка Воливача и Гречаного произошла вот из-за чего: разведданные подтверждали интерес Пентагона к Зоне. Разумеется, США располагали высококлассным оборудованием, открыли ряд новых лабораторий для исследований природы би-кварков, чего Россия не могла себе позволить. Зато обладала самой Зоной. А тут еще исчезновение митрополита Арсения. Наблюдатели видели его выходящим из Зоны, и вдруг он растворился. Шум поднялся неимоверный, опять русских обвинили в притеснениях Церкви, будто Воливач заставил его ходить в Зону… И никто не знал, куда подевались дискеты Лаптева, где Марья? В смерти Лаптева Мастачный сразу признался, а исчезновение Марьи с дискетами осталось загадкой. Сотрудничать Зона отказывалась, попросту не подавая признаков жизни. Еще и расшифровка лаптевских записей ничего не дала. Ко всему прочему Гречаный настаивал поручить расшифровку записей МВД, а Воливач отдал их ФСР. Обнажились ведомственные интересы: Воливач опекал разведку, Гречаный – МВД. Бехтеренко разрывался между обоими, чего не случилось бы при Гуртовом. Случилось. Почувствовав ослабление власти, подняли голову сектанты. От них отпихивались и разведка, и милиция. Гречаный предложил травить заразу дедовским методом, Воливач хотел иметь противовес для Церкви. Кое-как сошлись на регистрации культовых обществ. Ну и что? Зарегистрировались. А слухи о грядущем светопреставлении разрослись до громадного оползня. И было на что сослаться: над Штатами разрастались озоновые дыры. Аналогичные доедали Австралию. Оказались чепухой доводы о происхождении дыр из-за производства фреона. Просто изобретатели аэрозолей с наполнителем вытесняли конкурентов. Но дыры-то были! Как результат человеческой деятельности. Но какой? В прежние времена к озоновым дырам относились снисходительно: дыра и дыра, теперь сытая Америка зашевелилась. Потеря озонового слоя разрасталась в глобальную катастрофу.
Первыми Америку стали покидать преимущественно евреи.
«А эти после долгих скитаний насиженных мест не бросают», – прикидывал Воливач, как расположить к себе обиженного Бехтеренко и подбросить ему задание: хорошо это или плохо для России? «А чего мудрить? – по принципу Бехтеренко решил и Воливач. – Если он с кормами разобрался, пусть о едоках подумает».
– Святослав Павлович, в Штатах миграция набирает силу.
– А я при чем? – хмыкнул Бехтеренко.
– И очень даже, – стал совсем добрым Воливач. – У нас на въезд ограничений нет, а не пора ли планочку поднять? Господь их так долго в одном месте не зря собирал, не дать же им заново расползаться? Ты бы дал команду дебет с кредитом свести? А я тебе десяток новеньких джипов выделю…
«Вот, – опять хмыкнул Бехтеренко, – мир на глазах разваливается, а у нас его по-прежнему лошадиными силами измеряют».
– Чего молчишь?
– Да вот думаю, стоит ли из-за десятка джипов глобальную историю перекраивать?
– Не обижу. Работаешь на меня, статус особый будет.
«Быстро я взлетаю, – подумал Бехтеренко. – От другого берега удаляюсь. Как бы крылышки не обломать…»
И как когда-то Судских, он мог твердо рассчитывать на поддержку Воливача. Не обидеть бы и Гречаного…
– Подумаем, – согласился Бехтеренко.
– Только недолго. Ждать некогда. Евреи – народ шустрый, как тараканы, глазом не моргнешь, уже на березовых дровах мацу готовят.
– Тогда – готово.
– Что готово?
– Лекарство – антимацин. Запрет на въезд. В Штатах-то выявили непонятную болезнь с симптоматикой СПИДа. Только непонятно, как она передается без половых контактов. В основном заболевают дети.
– Да-а-а, – протянул Воливач и тотчас схватился за решение: – Вот под эту марку пусть их санконтроль дробит на въезде.
– И дробить не надо. Никто из Штатов, приезжающий в Россию на постоянное жительство, иммунологический тест не выдерживает. Когда джипы забирать?
– Обожди с джипами, – придержал его Воливач. – Все или только евреи не выдерживают?
– Все. А причину знаете? Нет. Так вот она в чем: наши мэнээсы, то бишь Судских, делали сравнительный анализ экологических продуктов из Штатов и местных и обнаружили, что высокая очистка уничтожает и полезные бактерии. Развивается дисбактериоз. Его излечивают, а после него появляется сама эта болезнь. А мы ломали голову, почему Штаты предлагают нам экологические продукты почти даром… Так когда джипы забирать?
– Прохвост ты, Святослав Павлович! – расхохотался Воливач. И уже серьезно добавил: – А жаль, что ты в другую команду перешел. Но я помню о тебе.
Гречаный вовсе дожидаться запретов не стал: велел перекрыть аэропорты под предлогом карантина. Таможня также находилась в его ведении. Про себя Воливач похвалил его за сметку, а вслух выразил неудовольствие: они, мол, договаривались о коллективных действиях.
– Витя, – отвечал Гречаный, – не дразни гусей. В стране относительный порядок, а ты хочешь взорвать его? Москва едва дышать стала свободно, а эмигранты скупают по три – пять квартир на одну семью. Родичей волокут человек по тридцать. Опять теснота и обида? Нет уж, сразу заслон нужен.
– Охолонь и ты, – разгорячился Воливач. – Трудно было меня в известность поставить?
– Прости, батюшка-царь, очень быстро старались, раде-ючи за державу, не вели казнить.
– Ты это зачем? – нахмурился Воливач.
– Сердишься, значит, понял. Оставь обиды. Мы клялись друг другу не делать худа России. Кого угодно спроси, правильно я поступил или нет? Или ты поступишь иначе?
– Казацкие штучки. Чуть чего – за нагайки, – буркнул Воливач.
– Россия за нас. А чтобы из-за бугра не доставали, скажем: страна готовится к референдуму. Есть такой дурацкий, дорогостоящий, но безотказный прием.
– На это уйма времени уйдет.
– А что в принципе произошло? Создают панику, а нам ее расхлебывать? – воззрился на него Гречаный. – Европа возмущена? Пусть принимает переселенцев. Африка негодует? Пусть растворяет снега Килиманджаро своими слезами, а не нашими. Я жил в Штатах, учился, и все их приколы по поводу веротерпимости мне до одного места. Нам копейки никто не дает в долг без хороших процентов, а платочки из вторсырья для наших слез продают по цене скатертей. Эта земля принадлежит не нам, а нашим детям и внукам, вот от их имени я и велел перекрыть аэропорты. А там посмотрим. Руку – на отсечку, ты бы поступил точно так. И не будем ругаться из-за этих туристов. Там поживут, туда поедут…
– Чертово семя! – ткнул его кулаком в бок Воливач. Глаза не поднял. Совсем вжился в роль главного распорядителя, и было стыдно, что его поставил на место единомышленник.
Референдум объявили и по его результатам сообщили: практически все население сказало нет эмигрантам. Края, области, автономии. Даже приморские малочисленные орочи были против. Только чукча думал. Так и записали: можно обживать районы Крайнего Севера. Мир застыл оледенело от такого референдума, и следом – горячий шквал осуждения, где термин «интернациональная наглость» был не самым громким, но довольно обидным. В шумихе никто не упомянул, из-за чего сыр-бор разгорелся.
Собрали Ассамблею ООН. От России приехал Гречаный, достаточно злой для отповеди. Вышел на трибуну в прекрасно сшитом костюме, а всем почудилось, в папахе, бурке и обязательно с нагайкой. Бочком облокотился и повел речь:
– О чем шум, господа? Когда вы получали беспрепятственную возможность ввозить в Россию радиоактивные отбросы, это считалось хорошо. Когда мы сказали твердо нет, это воспринялось плохо. Мы объявили режим беспрепятственного въезда в Россию, и вы восторгались широтой русской души, мы решили временно приостановить въезд, и нас обозвали «интернациональными наглецами». Но кто удосужился спросить: почему из Америки выезжают люди, причем не коренные жители? Это ли не обычная вульгарная наглость? А причина кроется в следующем: без согласия стран Организации в Штатах более пяти лет проводятся исследования би-кварковых полей, что и породило расширение озоновых дыр. На чашу Организации брошены амбиции.
Огромная чаша заседаний вскипела.
– Вот документы, господа! – повысил голос Гречаный и поднял над головой плотную папку. – Здесь зафиксированы места испытаний, сами эксперименты и тщательный анализ последствий. Ваши независимые эксперты согласились с ними. Мир еще никогда не стоял так близко к своей кончине. Это не интернациональная наглость чванливой сверхдержавы, это – международное преступление. Не зная броду, не суйся в воду.
В этом зале со времен «матери Кузьмы» и батьки Никиты Хрущева не случалось пока подобного эффекта немоты, как упоминание мелководья, которое вроде бы есть и вроде бы нету. Ступор называется. Онемение длилось достаточно долго, чтобы почувствовать холод космической дыры. Громадная чаша зала с рассеянным светом больше всего подходила для сравнения с апокалипсической купелью. Каждый осознал свою ничтожность перед хладом неизвестности. Лишь представитель России, будто похлопывая нагайкой по сапогу, которых вроде бы нет и вроде бы есть. Он был спокоен и зал отогрелся его спокойствием.
– Господа, вернитесь в бытие, – услышали в зале слегка насмешливый голос. – Я ботинком стучать по трибуне не обучен.
После таких слов зал прорвало. Председатель долго успокаивал представителей и отключил наконец все микрофоны. Случай беспрецедентный, как и услышанное потом.
– Я хочу спросить представителя великой державы, – услышали все голос председательствующего, а Гречаный с удовольствием незаметно загнул палец, как отмечают очко выигрыша: давненько Россию не называли великой державой. Зал утих разом. – Может ли Россия помочь миру в решении этой мрачной проблемы?
– Может, – уверенно сказал Гречаный, и зал облегченно выдохнул. – Но не сразу. – Зал вздохнул и напрягся. – Мы сами еще не знаем подлинной причины грядущей катастрофы. – В зале опять дохнуло холодом. – В самом ближайшем будущем она будет решена. – В зале потеплело. – С вашей помощью! – закончил Гречаный весело, и каждый был готов отдать свой бумажник немедленно.
– Какая нужна помощь? – спросил председательствующий.
– Нормальная, – без рисовки ответил Гречаный. – Сначала мы упорядочим режим въезда эмигрантов и обязательно с переводом всех средств в российские банки, – подчеркнул он. – Если народы России сочтут возможным принять ограниченный контингент. – Зал молчаливо согласился. – Международному сообществу следует также пересмотреть кредитную политику по отношению к России. Не стоит мелочиться в преддверии общей опасности. – Зал проглотил и это, хотя попахивало интернациональной наглостью. – И в заключение скажу, что мы надеемся на помощь заинтересованных стран в решении древнейших несоответствий.
В зале никто не рискнул выяснять, что же это за «древнейшие несоответствия».
«Нью-Йорк Таймс», наиболее полно освещавшая ход Ассамблеи, прояснила новый термин вполне доходчиво: «После господина Гречаного слово взял представитель Израиля. Он был необычайно краток: «Мне понятны затруднения России. Мы готовы устранить финансовые несоответствия и от мифов перейти к реальности. Время требует этого». Мы можем строить предположения, что имели в виду оба джентльмена, – сообщала «Нью-Йорк Таймс», – но что оба поняли друг друга – это однозначно. Пожатие их рук скрепляет надежду, что мир не провалится в озоновую дыру Штатов и черную в России».
– Видишь, Леонид Матвеевич, – щелкнул ногтем по статье в газете Гречаный, обращая внимание Смольникова. – Нас теперь принимают и понимают так, как нам того хочется. Спать ложимся вроде пешки, просыпаемся ферзем. Высоцкий пел когда-то.
– Очень мило преподнесли, – согласился Смольников. Он выезжал на Ассамблею в штате Гречаного. За рубежом впервые, ситуация необычная, а он, как всегда, спокоен и даже снисходителен к подарку судьбы. Подумаешь, пятикомнатный люкс в шикарном отеле, еда в номер по желанию, лакеи в маршальских ливреях, в баре, занимающем одну стену гостиной, штук пятьсот бутылок и бутылочек – все это он читал в книжках тысячу раз и увидел почти знакомым.
– По этому поводу не сообразить ли пару коктейлей? – спросил Гречаный, и Смольников взглянул на ручные часы: обычная русская «Слава», он на «ролексы» не разменивался.
– Десять минут в запасе, – ответил он. – Я пока приготовлю на троих, если гость пожелает.
– Это по-нашему, – согласился Гречаный.
Ждали международную знаменитость – профессора Лyцевича. От его визита зависело многое. Есть множество уникальных специальностей, в своей Луцевич был уникумом, единственный в своем роде. Хирург Божьей милостью и знаток эзотерических доктрин. Ни одну он не исповедовал, но биметалл физики и метафизики пригодился для уникальных операций на спинном мозге, где центры души, и на головном, где обретает разум. В разгульные дни братания Христа и Антихриста он выехал прочь: в отечестве, как всегда, не признавали уникумов, и богатенькие буратино предпочитали выезжать на лечение к тем же евреям или туда, куда перебрались господа уникумы.
Звонок посыльного, и на пороге возник именитый профессор. Неизменно обаятельный и веселый, предмет воздыхания студенток и медсестричек. Неизменное приветствие:
– С нами прародитель Орий!
Гречаный и Смольников впервые встречались с Луцевичем не на журнальной обложке. Смольников воспринял гостя с вежливым спокойствием, он ничему не удивлялся, а у Гречаного загорелся глаз: с таким напарником не грех прошерстить кое-что, кое-где и не кое-как. Он сам понимал толк в искусном и не принимал искусственного – ни дружбы, ни презервативов, а с одногодком-профессором хотелось общаться с вожделением, он и руки протянул к нему, как тянутся они к запотевшей от холода бутылочке пива и росинки прохлады на боках желаннее всех драгоценностей мира. Кто не ценит прекрасного в любых радостях, зря жил, кто не просыпался в тягости, не поймет.
– Bот это красавец! – обнял Луцевича Гречаный. – Белокурая бестия, настоящий ариец!
– Малость полинялая, – обезоруживал улыбкой Луцевич.
Перезнакомились по-простому, без экивоков.
– Ленечка, приготовь за встречу. Чего? – вопросительный взгляд на Луцевича.
– «Тайную вечерю», – ответил профессор, оценив внушительный арсенал вдоль стены. Луцевич понаблюдал, как с достоинством взялся Смольников готовить выпивку. Уважительность он заработал отсутствием вопросов. Гречаный же не удержался:
– Леня, друг ситный, что это за смесь?
– Кагор, немного спирта и крекер. Опреснок, так сказать.
– Вот так я попал! – вытянулось лицо Гречаного. – Нет уж, на «тайные вечери» я не ходок, мне водочки или джина, – замотал он отрицательно головой.
– Говорю тебе, прежде нежели пропоет петух трижды, отречешься от меня, – насмешливо процитировал Луцевич.
– От тебя – нет, а от кагора сразу. Олег Викентьевич, выпутай меня из дурацкого положения.
– Без проблем, – ответил Луцевич и прошел за стойку. – Я все же кагорчиком причащусь, а вам «казачка» сделаю. Джин, ложечка лимонного сока и перчик. Леонид Матвеевич, у нас есть перчик?
– Вот, – раздобыл из-под стойки стручок перца Смольников. – Модный нынче коктейль, все приготовлено. Кайенский.
– Мой напиток, – облегченно вздохнул Гречаный. – Горилка бродвейская!
Разговор завязался после первого глотка. Луцевич был готов.
– Случай особый, как и сама личность. Я оперировал его, но тогда нельзя было извлекать пулю из-под черепа. Может быть, поэтому у него не просто коматозное состояние, это состояние самой души больного. Он попал на стремнину российского половодья безгреховным, оттого и неподготовленным. Можете верить мне, у генерала Судских синдром Лазаря или болезнь Ильи Ильича. Лазарь был наиболее любимым Христом, на тайной вечере он возлежал на его груди. Если помните, после воскрешения в Вифании он стал его учеником. Судьба Лазаря глубоко таинственна и несравнима с судьбами прочих апостолов. Он стал провозвестником мистерии Голгофы и возвестил человечеству тайну нового пришествия Христа. Он – крестнесущий. Наиболее близок русским его прообраз, Илья Муромец. Как помните, до тридцати лет он маялся ногами, не ходил из-за паралича, а болезни эти были ниспосланы ему не за грехи родителей, рода или самой Руси, а ради сохранения сил для грядущих битв во славу Руси, освобождения ее от непротивления злу. Народ русский не противился царям, вождям, и сейчас он на пороге истинного обновления, очищения души от скверны. Примерно в таком положении находится и Судских. Как мне кажется, час его пробуждения не наступил, но близок. Вмешательство скальпеля ничего не даст. Не тот случай.
– А как скоро наступит пробуждение? – нетерпеливо спросил Гречаный. – Проснись он, и многие наши проблемы отпадут, как эта самая скверна.
– Семен Артемович, вы зря уповаете на пробуждение Судских. Он может вернуться абсолютно другим человеком. Станет, например, замкнутым, отчужденным, мир привычных ценностей обретет для него иное содержание. Случиться может все. – Он усмехнулся после этих слов. – Я внимательно следил за ходом Ассамблеи, и ваша речь свидетельствует о том, что вы самостоятельно очищаетесь от скверны. Вечная надежда русских на чудо рождает терпение, но не импульс к свершению чуда рождает терпение. Сейчас наконец что-то меняется в их сознании.
– Вашими устами да мед пить, – сказал, прихлебнув из своего стакана, Гречаный. – Бодрящий напиток. – И без перехода: – Так вот, хотелось бы просить вас приехать на Родину, посмотреть, как оно там, а заодно обследовать Игоря Петровича. Он уже подавал признаки пробуждения, однажды заговорил даже, так медсестра-вертихвостка проворонила.
– А, Женечка, – понимающе усмехнулся Луцевич. – Помню…
Гречаный пропустил последнее мимо ушей.
– Как вы относитесь к предложению?
– В общем-то положительно.
– Дорогу, расходы, гонорар оплатим, – поспешил заверить Гречаный. – По высшей ставке.
– Семен Артемович, обижаете, – как ребенок засмущался профессор. – Я нынче как магараджа существую.
Смольников проницательно взглянул на Луцевича и оценил, какое значение он вкладывает в слово «существую».
– Тогда милости просим, – с поклоном сказал Гречаный.
– Где-то в июне-июле. Через месяц то есть. Пожертвую Канарами.
– Спасибо, Олег Викентьевич, – поблагодарил Гречаный, не выторговывая ближних сроков. Он провожал гостя с сожалением.
– Мне такие всегда нравились, – сказал под впечатлением от встречи Смольников. – Незапятнанный он, как Судских.
Гречаный походил по гостиной, молча обдумывая сказанное. Чему-то усмехнулся, хотел даже перевести разговор в иную плоскость. И не случайно он брал с собой в ответственную поездку Смольникова: тому обкатываться надо в верхних слоях, – проверен испытаниями, пора в лидеры. Уклоняться от нужной темы нет нужды.
– Судских, говоришь? Отличный мужик. И схож с Луцевичем. Они, Леонид Матвеевич, оба освоили ремесло, стали мастерами, и знаешь, какая дальше ступень развития?
– Наслышан немного, – учтиво ответил Смольников. – Демиург?
– Верно. Воливач присмотрел Судских давно и пестовал для будущего. Это уже политика, Леонид Матвеевич. Так?
Смольников не привык комментировать то, от чего он далек. Лучше слушать. Поняв тактичность Смольникова, Гречаный закончил:
– Судских нужен Воливачу для проведения своих действий, но мозговой трест он не собирается создавать. Воливач – сам мозг, осознающий, какие перемены требуются для России: прежде экономических требуется разрешить проблемы идеологические, а как это делается, ему осознать сложно и боязно. Он способен только перелицевать прежнюю идею. Воливач поручил Судских досконально разобраться с исследованиями Трифа. Потянули за веревочку и вытащили на свет Божий здоровенного мастодонта в виде зачатков новой религии. Воливачу она не нужна, вообще никому не нужна из бывших. А она неотвратима и нужна.
Смольников слушал монолог несколько отстраненно, будто сквозь вату приходил к нему бархатный баритон с напевным украинским «гэ», некий голос за кадром, озвучивающий гротескные картины, потусторонние пейзажи, отчего видения приобретали реальный вид. Новая религия? Он и без прежней живет не тужит…
– Вернись на землю! – с мягкой усмешкой позвал Гречаный. – Свежо предание, а верится с трудом?
Смольников откашлялся в кулак.
– Я как-то об этом не задумывался, – покраснел он.
– Все мы в основе своей сиюминутчики. Вожди наши, мы за ними. Схватывались с пожитками, словно поезд уходит, выкладывались, догоняя идущйй вагон, вскакивали на ходу и, отдышавшись, понимали: не тот поезд. А казаки, считаешь, случайные гости в нынешней России? – вопрошал он с прежней мягкой улыбкой.
– Нет, – сосредоточенный на своем, отвечал Смольников. – Это сила в нынешней России. Пожалуй, всегда была.
– Вот… Ты сказал. Казаки на пороге третьего тысячелетия оказались тем самым гегемоном, о котором талдычил Маркс и поддакивал Ленин: рабочий класс – гегемон революции. Ну да, – сам себе кивнул Гречаный. – Булыжником в зеркальную витрину – это гегемонично. Пролетариату, кроме своих цепей, терять нечего, а казаку есть чего. Казак свободолюбив, но уклад жизни оберегает ревностно. Как понимаешь, казаки в путче горшки по супермаркетам не били. Выбили нечисть – и по куреням. Новая служба их вполне устраивает, и людям покой. Я прав, Леонид Матвеевич?
– Особых разночтений не вижу, но хотелось бы глубже копнуть.
– Ты прямо мои мысли читаешь. Именно разобраться глубже я хочу тебя просить. Нужен глубокий философский труд. И это будет даже не фундамент, а ложе новой веры. Все архивы станут работать на тебя. Особенно разберись с письмами Свердлова, Троцкого, Бухарина. В их нелюбви к казачеству погребена истина. Казаки ведь не просто служивые люди, не ратники, а ратиане. Наш бог Ратиан, или Орий по славянским древним книгам. Включайся… И повтори-ка мне «казачка». Душевно потребляется.
Смольников направился к бару, и тут заверещал ненавязчиво телефонный аппарат.
– Делай, делай, – махнул ему рукой Гречаный и взял трубку.
Звонили из бюро охраны, к ним хотел подняться некий Тамура.
– Встреча не планировалась, у нас есть не более получаса. Если господина Тамуру это устроит, пусть подымается.
Протягивая коктейль Гречаному, Смольников смотрел на него вопросительно.
– Кто такой Тамура? Это японский Триф, – отвечал Гречаный. – Он в Японии тоже чего-то накопал, за что угодил под надзор психотерапевтов. Триф работал без помпы, а Тамура нашумел изрядно. Начинал нормально, точно определял места землетрясений. Он ведь сейсмолог, – пояснил Гречаный, – и фигура в этой области приметная. А его отец – финансовый магнат. С год назад его самого залихорадило, несколько раз он предсказывал конец света. Твой однополчанин Иван Бурмистров заинтересовался им, и Бехтеренко пригласил его в Россию, но японцы не отпустили. Тогда порешили встретиться с ним здесь. Интересный товарищ…
Бой в красной ливрее впустил гостя и степенно удалился.
Одного взгляда Смольникову было достаточно, чтобы признать в Тамуре душевнобольного. Смольников недоумевал, почему Гречаный согласился встретиться с таким человеком. Педантичный прагматик Смольников не принимал отклонений от нормы.
– Господин Тамура, это господин Смольников, – представил Гречаный своего помощника. Он делал это с большим уважением, будто не замечал нервного возбуждения гостя.
– Очень приятно, – ответил гость неожиданно низким голосом, что не вязалось с его росточком и поспешностью движений.
Г речаный жестом руки предложил всем сесть.
– Тамура-сан что-нибудь выпьет?
– Спиртного не надо. Закажите, пожалуйста, зеленый чай со льдом. Я буквально на полчаса. Мой самолет через два часа.
Голос его, смутивший Смольникова силой, теперь воспринимался прочным. Разница есть. Пришло на ум: «Иерихонская труба».
– Что так? – спросил Гречаный. – Мы собирались обсудить многие вопросы.
– К сожалению, я обязан вернуться. Обязан, – повторил он, и Гречаный не стал выспрашивать гостя. Цель, раз пришел, обскажет.
Принесли зеленый чай в керамической чашке. Тамура опустил над ней голову. «Как же так, – недоумевал Смольников, – времени нет, а он медлит?..». Гречаный уловил эту восточную тонкость и не торопил: японская философия несравнима с любой другой.
– Чайки покинули мыс Суносаки…
– Это начало чьей-то хайку? – спросил Смольников, желая блеснуть эрудицией, но больше, чтобы расшевелить гостя.
– Нет, господин Смольников, это конец.
– Чего конец? – вмешался Гречаный.
– Если быть точным, это – начало конца всего мира.
«Иерихонская труба, – опять подумал Смольников, теряя интерес к гостю окончательно. – Сумасшедший…»