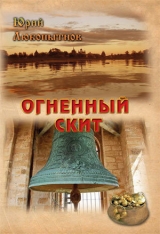
Текст книги "Огненный скит.Том 1"
Автор книги: Юрий Любопытнов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 43 страниц)
– Хозяину скажу, что ты у него цемент воруешь.
– Скажешь? – ощерился Федька и взял длинную жердь, приставленную к пристройке: – Изуродую как Бог черепаху!
В ином случае, Борис бы отпрянул в сторону, а тут придвинулся к Старикову:
– А ну-ка ударь! Ударь!
– Вот дуралей, – осклабился Федька, увидев вскользь, что к их разговору прислушивается хозяин. – Шуток не понимаешь.
Он взял лопату и запел:
Мальчишка беспризорный,
Парнишка удалой.
Весёлый и задорный
С вихрастой головой.
Хозяин снова склонился над кустом смородины, орудуя секатором.
Форсил татуировкою,
Нырял вразрез волны.
И рваною верёвкою
Подвязывал штаны.
Допев песню до конца, он поднял обломок кирпича и с силой швырнул в яму.
– А я не дам тебе четвертной, – сказал Колодину. – Не дам. Ни за что…
– И не давай. Нужны мне твои деньги.
– Утихни. Гарцуй цемент. Я сам мешок отнесу. Ты ничего не видел. Понял?
– Как же не видел, если видел…
Федька кинул лопату и выпрямился:
– Тогда знаешь: катись на все четыре стороны. Или работаешь, или…
Борис вытер руки о джинсы, подобрал с земли курточку и резко повернулся к Федьке.
– Счастливо оставаться! Приплюсуй и себе мой четвертной.
Он хлопнул калиткой. Федька слышал, как затарахтел мотор мотоцикла.
Поехал Колодин не прямой дорогой, а через речку. На лесной укатанной дороге было прохладно. По бокам росли громадные папоротники, обтянутые паутиной, а кусты бузины с цветущими пупонами источали приторный ни с чем не сравнимый аромат. Он выехал к реке, объехал высокий песчаный обрыв. Под колёса стелилась влажная ложбина. Вода в реке, зеленовато-тяжёлая вблизи от тени кустов и зеркально-ослепительная вдали, казалось, застыла. Веяло прохладой и сладковатым запахом свежескошенной осоки. Осока была разбросана по лужку, беловато-зелёная, и ветер, налетавший нежными тёплыми порывами, небрежно её шевелил.
У глубокой канавы, заложенной старыми осиновыми с облупившейся корой жердями, Борис слез с мотоцикла и стал толкать его вперёд – жерди разъезжались, и колёса пробуксовывали.
Слева затрещали кусты. Борис обернулся. С бугра, прямо на него, с красным обветренным лицом, загребая песок ногами, скатывался Федька. Он нёсся молча, выбрасывая вперёд колени, и его плотный голый торс мощно разрезал воздух. Колодин от неожиданности этого зрелища остановился, и молча смотрел на приближавшегося «бугра».
– Ну что, помощничек, – рявкнул Федька, подлетая к нему.
Сильный удар снизу потряс Бориса. Он выпустил руль мотоцикла и повалился в траву. Удар был неожиданным, и Борис не был готов к нему.
Когда он поднялся, Федька прохрипел:
– Будешь знать, как шабашку разорять!
И снова ударил уже под дых. От боли Борис согнулся и в этот момент тяжелый удар в челюсть потряс его.
«Как бьёт!» – успел подумать он, валясь на траву.
Он не хотел вставать: в голове шумело, и разноцветные блики играли в глазах, но стал подниматься – сначала на колени, а потом выпрямился во весь рост. Когда поднялся, увидел налитые кровью глаза Старикова. «А ведь они зелёно-серые», – почему-то отметил он.
Ему хотелось ответить на этот налёт, тоже ударить по наглой и сытой роже, но сил не было. Он стоял, покачиваясь, когда Федька вплотную приблизился к нему. Борис, не в силах, пошевелить ни рукой, ни ногой, плюнул ему в лицо. Федька ударил его в живот. Борис опять выпрямился и опять плюнул. Следующего удара он не ощутил. Сладкая слюна заполнила рот, и небо качнулось вместе с облаками.
Пришёл он в себя от какой-то мелодии. Открыл глаза, а это, оказывается, птичка сидела на ветке над ним и жалобно выводила: «фьюить, фьюить». Борис качнул головой. Птичка перелетела на другой куст и снова засвистела. Когда она взмахнула крылышкми, он увидел, что изнутри они бледно-розового цвета. Она опять пропела: «фьюить»…
Он приподнялся. Болел живот, саднила скула и губа, хотелось пить. Прихрамывая и ощущая тошноту во рту, подошёл к реке. На её середине кверху колёсами торчал его мотоцикл.
Колодин посмотрел на часы. Стекло было разбито, и стрелок не было, поэтому определить, сколько времени он провалялся без сознания, было трудно. Он спустился с берега, зачерпнул в горсть воды, омочил лицо, отчего больно защипало кожу, сделал два глотка и, через силу, цепляясь за траву, выбрался обратно. Присел на берег, потрогал прокушенные губы и тихо заплакал, размазывая слёзы по лицу. А может, это были не слезы, а речная вода.
1985 г.
Родионыч
Городишко здешний с первого разу мне не понравился: невелик, разбросан. Везде стройка – траншеи, кучи песка, щебня, горы глины. К новым многоэтажным зданиям сиротливо жмутся маленькие деревянные домишки.
Из числа молодых специалистов я прибыл на завод последним, и места в общежитии все были заняты.
– Пока устроитесь в частном секторе, – сказал главный инженер, – поживёте несколько месяцев, а там переведём в новое общежитие.
И я пошёл искать себе комнату. Так очутился на улице Ореховой перед домом одной старушки. Однако оказалось, что путь мой был напрасным. Провожая меня, женщина со вздохом повторяла:
– И рада была бы, да нету. У меня всё сдадено. Шестерых квартирантов держу.
Я уже было взялся за ручку калитки, когда она остановила меня:
– Постой-ка! Вот что я тебе, голубь, присоветую: зайди-ка ты через дом, вон туда – видишь крышу, – она указала рукой поверх забора. – Может, Филипп Родионыч сдаст тебе комнатёнку. Чай, одинок?
– Холостой, бабушка.
– Тогда иди! – напутствовала старушка. – Может, и сдаст. Чудно-ой он мужик, – протянула она. – С характером. Но ты не бойся – иди! Может, и пофартит.
Через минуту я стоял перед высоким забором из не строганного горбыля. За ним зеленел сад и возвышался облупленный фасад большого дома.
Калитка была заперта. Я позвякал щеколдой. Послышались шаги, проскрежетал засов, и дверка приоткрылась, но лишь настолько, чтобы можно было просунуть голову. Сначала я увидел глаза, настороженно уставившиеся на меня, затем лицо старого человека, в складках дряблой кожи, такое же шершавое, как тесины забора.
– Чего надо? – спросил недовольный голос.
– Мне бы хозяина, – оторопел я от неприветливых слов.
– Я хозяин. Чего надо? – снова повторил он.
– У вас не сдаётся комната?
Дверца приоткрылась пошире и передо мной появился мужчина высокого роста, одетый в какую-то смесь пижамы с халатом, в стоптанных грязных башмаках. В руке, перепачканной землёй, он держал тяпку.
– Комнат не сдаю, – ответил хозяин и, ощупав меня пристальным взглядом, как бы оценивая, спросил: – Командировочный
– Нет. Я направлен на завод после института…
– Один? С женой?
– Один, – ответил я.
Неприветливость хозяина не пришлась мне по душе и, избегая дальнейших вопросов, я повернулся, чтобы уйти.
– Погодь! – Хозяин внимательно оглядел меня, словно проверяя, правду ли я говорю.
Я задержался. Старик вскинул косматые брови, глаза блеснули, лицо оживилось.
– Значит, один. Это меняет дело. Есть у меня комната… Не хотел сдавать, ну да ладно. – Видя, что я молчу, спросил: – Иль раздумал? – и кольнул меня взглядом.
– Почему же раздумал… А сколько берёте? – задал я встречный вопрос.
– Пятнадцать рублей в месяц. – Старик произнёс эту фразу таким тоном, что я подумал – делает мне одолжение, назначая такую малую сумму.
Пока я прикидывал, стоит ли соглашаться, хозяин выжидательно молчал, не закрывая калитку, но и не распахивая.
Поразмыслив, я согласился.
– Деньги будешь платить вперёд, – поставил он условие. Я почувствовал, что старик недоверчив.
– Завод будет платить деньги, – сказал я ему.
– Завод – это фирма. Ладно, заходи, столкуемся. Посмотришь комнату.
Калитка за мной захлопнулась с таким же звоном, с каким запирались старинные сундуки, набитые добром.
Походка у Родионыча была своеобразная. В молодости он был, вероятно, высоченного роста, но годы согнули спину. Руки, длинные и жилистые, были непомерно велики, как у обезьяны, и ходил он, колеблясь всем телом, при этом голова наклонялась то вперёд, то назад, как у лошади, везущей тяжёлый груз. Лицо было поразительно: запавшие, блестевшие глаза, колючие, как ежи, брови и морщины, глубокие борозды морщин на всём лице.
Узким коридорчиком мы прошли в небольшую комнатку с единственным окном. В кои-то веки она была оклеена обоями, но теперь они выцвели, выгорели, сохранив в первозданной свежести лишь масляные пятна – следы прежних жильцов. На окне в вазе с отбитым краем, торчал пучок засохших прошлогодних цветов. Мебели не было, за исключением фанерной тумбочки и узкой солдатской кровати.
– Вот тут и живи. Что надо завод доставит. – Он имел в виду недостающую мебель.
Я не заметил, как в комнату вошла женщина, очевидно, жена хозяина с обветренным, тёмным ещё не старым лицом. Поверх ситцевого платья был надет жёсткий клеёнчатый фартук. В руке был обрывок бечёвки.
– Что, Родионыч, новый постоялец? – спросила она. Голос был тихий и глухой.
Хозяин взглянул поверх неё, ничего не ответил, а спросил:
– Чего тебе надо?
Женщина замялась, потом, кинув взгляд на меня, нерешительно проговорила:
– Надо новую верёвку – корову водить. Старая-то узел на узле, да и перепрела вся.
Родионыч сдвинул брови, искоса взглянул на веревку:
– Что-то быстро она у тебя перепрела. Не следишь. И года не прошло, как её купил…
Женщина всплеснула руками:
– И-и-и. Стыда у тебя нет. Вспомни лучше. Ты забыл, когда и покупал-то её. Не следишь! – возмущённо продолжала она. – Что верёвка стальная что ли?! Уж век ей.
Родионыч проворчал недовольно себе под нос, что именно было непонятно, и вышел из комнаты. Через минуту вернулся, держа в руках кусок бечёвки.
– Вот держи! Свяжешь – прослужит ещё не один год.
Хозяйка растерянно взяла верёвку. Родионыч же объяснил – ни ей ни мне, а больше, вероятно, себе:
– Не буду же я из-за двух метров покупать целый моток. Это денег стоит. Иди, – махнул он рукой в сторону жены и отвернулся, давая понять, что разговор закончен.
Женщина вышла также неслышно, как и вошла, с послушанием автомата.
Я остался жить у Филиппа Родионовича. Остался, хотя безотчётным чувством понимал, что житьё комфорта не сулило. Здесь всё требовало подчинения, всё носило лицо хозяина.
Родионыч, действительно, был чудак. Но, прожив у него достаточное время, я понял, что судил о нём поверхностно и стал присматриваться к нему, стараясь разобраться в его образе жизни, привычках и характере.
Родионыч жил так же, как и многие здесь на заводском посёлке. У него был свой дом, приусадебный участок соток в двадцать, фруктовый сад. Была корова, два поросёнка. К животным он никакого отношения не имел, взвалив тяжесть ухода за скотиной на жену – Софью. Он получал пенсию, которую заслужил честным трудом, работая кассиром на почте. У него были благодарности и грамоты. Это была внешняя сторона его жизни, похожая на жизнь соседей, но у него была и другая сторона. За что бы он ни брался, что бы он ни делал, он делал ради накопления капитала.
Если бы живописец написал его портрет, можно было удивиться изображённому на полотне лицу. С первого взгляда обнаруживалась одна черта, являвшая собой всепоглощавшую страсть, которая жгла его изнутри, и отсветы этого пламени отражались на лице.
Если бы эта страсть была направлена на другое – Родионыч сдвинул бы горы. А он душу отдал накопительству. Эта черта приобрела у него гигантскую силу и размах. Для кого он всё это делал? Что это ему приносило? Лишние рублёвки. Они лежали у него под замком. Они не приносили ему ничего, кроме личного удовлетворения в их приобретении, кроме радости в созерцании бумажного разноцветного богатства. Родионыч был счастлив, заработавши лишний рубль, и радовался замусоленной приобретённой трёшке, как радуется ребёнок новой игрушке.
Имея деньги, он не хотел даже облегчить свой труд. В жаркие дни, когда цветы сохли без дождя, он успевал наряду с другими делами, выкачивать из колодца по 40–60 вёдер воды. Воду сливал в бочки, чтобы она прогрелась, и на следующий день поливал ею.
Я как-то заметил:
– Вы бы, Филипп Родионович, колодец артезианский сделали, мотор поставили – и качай на здоровье!
Он внимательно посмотрел на меня, отёр рукавом выгоревшей рубахи пот с тёмно-кирпичного лба.
– Расходы велики. Не одна сотня улетит только пробурить. Ничего, я и ведёрочком натаскаю водицы, много ли цветам надо…
Таким был Родионыч.
Это был великий труженик. Вставал по обыкновению рано, на заре, и принимался за работу. Если это был понедельник, брался за тачку и, согнувшись, вез её по извилистой тропинке вниз по пологой горке на речку.
Он шёл в места, облюбованные жителями городка и приезжими для воскресного отдыха. Здесь река делала широкую петлю по лугу, берега были низкие и воды то гладили длинные косы плакучих ив, то гранили кристаллики белого песка. Это было живописное место, облюбованное отдыхающими. И оно со временем могло превратиться в свалку стекла, если бы не Родионыч – собиратель стеклотары.
Он знал все закоулки. Как сыщик, обследовал кусты, на месте проверял, пойдёт ли стекло на сдачу. Бракованные бутылки складывал отдельно. Часам к десяти утра вояжи его заканчивались, он успевал съездить три-четыре раза. В общем эти походы давали ему еженедельно от 100 до 150 бутылок.
Для этого добра в сарае было отведено особое место – моечный цех и склад готовой продукции. Здесь Родионыч, обставив себя тазами с водой при помощи тряпок, проводил технологический цикл мойки. Затем бутылки складывал на стеллажи, подготовив, таким образом, продукцию к реализации. После обеда направлялся с мешком в палатку к приёмщице тетке Фросе.
Хозяин редко разговаривал и приучил к этому жену. Они жили больше по привычке, нежели по привязанности, занимаясь каждый своим делом.
Но как-то Софья Константиновна разговорилась со мной. Это случилось после того, как Родионыч, при мне, дав ей три рубля, сказал:
– Купи кусок мыла, надо постирать рубашку.
– Куска не хватит, Родионыч.
– Хватит с избытком, – оборвал он её. – Потрёшь обшлага да воротник, а тратить мыло на всю – велика нужда.
Когда старик удалился, Софья Константиновна проворчала:
– Кому копит деньги, аспид. Ведь в могилу не унесёт ничего…
– Что ж он так вам и даёт по рублю или три на расходы?
– Когда как. Но всегда учитывает. Записывает в свою книгу, есть у него такая, там приход и расход и много другой мудрости.
Жена Родионыча, прожившая с ним не один десяток лет, знала его, конечно, досконально, до кончиков ногтей. Когда он ещё не был на пенсии, подолгу не отдавал ей получку. А сейчас забирал у неё всё, что она выручала от продажи молока и всегда твердил: «Ты не работаешь, я всё делаю, твоего ничего здесь нет». Покупать ни себе, ни ей новой одежды не разрешал – красоваться не перед кем. Любил заплаты. Латал себе одежду сам, любил ходить заштопанный. Высшая мера хозяйствования для него была, когда он сам, вооружась иголкой и двухметровой ниткой, зашивал порванные штаны.
Как-то я здорово подорвался с деньгами, и не нашёл ничего лучшего, как попросить в долг несколько рублей у Родионыча. С этим я зашёл в его каморку, в его святая святых. Это была небольшая комнатёнка, отгороженная от кухни дощатой переборкой за белёной печью, с единственным подслеповатым окном. В каморке стоял стол, была лежанка, служившая Родионычу постелью, два табурета, сундук с горбатой крышкой. В углу примостился ящик с землёй для выращивания рассады. Рассада уже отцвела в огороде, а ящик всё стоял в каморке.
Я увидел хозяина, восседающего на табурете за столом. Он делал записи в амбарной книге. Но носу – очки, в руке – ручка. Рядом на столе – аккуратные горки мелочи. По правую руку – счёты.
Он оторвался от записей, поверх очков уставился на меня. От его настороженного взгляда я смутился и нерешительно проговорил:
– Не одолжите ли, Филипп Родионович, денег до получки?
Хозяин снял очки, потёр переносицу, отложил ручку в сторону и с издёвкой проговорил:
– Что поиздержался? А откуда у меня, мил человек, деньги? Думаешь, с неба валятся? Люди, люди, не умеете жить. Думаете, манна небесная на голову вам будет сыпаться! Живёте в безделии и праздности. Отработал часы и – гуляй! У меня такие же родственники захребетники.
Я не ожидал от Родионыча такого длинного монолога. Пройдясь по всем лентяям и лежебокам, он закончил:
– Одолжу тебе денег, не пропойца ты, и человек думающий. Сколько тебе?
– Рубле десять.
– И только?
– Больше мне не требуется.
– Правильно мыслишь, не влезай по уши в долги – завязнешь… пиши расписку, вот бумага, ручка. – Видя мою нерешительность, сказал: – Писать не можешь, не умеешь. Не деловой, – и продиктовал: – Сим подтверждаю, что я, пиши фамилию, взял в долг у Филиппа Родионовича десять рублей, прописью десять, кои обязуюсь отдать не позже… Когда у тебя получка?
– Шестого.
– Не позже седьмого дня августа месяца. Ставь число и подпись. Процентов, как видишь, с тебя не беру. А мог бы.
Он пробежал глазами расписку, расправил уголок и прошёл к сундуку. Откинув массивную крышку, убрал расписку в ящичек и достал пачку рублёвок, перевязанную шпагатом. Не торопясь развязал, стал отсчитывать купюры. Делал это не торопясь, как жрец, отправляющий религиозный культ. Каждую бумажку послюнит, помусолит, потрёт между пальцами, не дай Бог лишнюю передать…
– Денежка, брат, счёт любит. Копейка к копейке расположение имеет. Деньга деньгу рожает, – сказал он мне, отдавая десять однорублёвок.
С нехорошим чувством брал я эти десять замусоленных рублей. И уже не рад был, что попросил у Родионыча взаймы. Видеть, как у него дрожали руки, когда пересчитывал их, как любовно складывал… Его деньги жгли мне карман. Мне казалось, что я взял не деньги, а часть души Филиппа Родионовича.
1971 г.
Ёка-морока
На конце села, что выходит к лесу, в маленьком домишке с завалинкой живёт бабка Дарья – Ёка-морока. Так её прозвали за присказку. Бывало, мальчишки заберутся в её садочек и давай трясти яблоньку. Бабка увидит их в оконце, выйдет на крыльцо, замахнётся клюкой:
– Вот я вас, пострелята, ёка-морока! – И смотрит, как, мелькая грязными пятками, улепётывает детвора через огороды на речку. – Всё равно узнала я вас, – кричит им вдогонку Дарья. – Подождите, ужо скажу отцам…
Её домишко огорожен осиновым тычинником, переплетённым через три слеги. Домишко стоит в мочевине – низине, – и весной и осенью вокруг него топко и грязно. Но зато летом густая трава растёт выше ограды, закрывая облупившиеся жерди. За двором начинается лес. Сначала ольховник, плотный, со злой крапивой, за ним – чёрные ели, дремучие и неприветливые, затёкшие золотистой смолой. Осенью тут страшно, темно и сыро. Но бабкин домишко, как маячок. Путники, идя по дождю, по слякоти на станцию, проклиная непогоду, темень и непролазную грязь, выходя из лесу, видят огонёк в дарьином оконце и облегчённо вздыхают:
– Вот и жильё! Выбрались наконец!
Дарья – маленькая и сухая. Лицо по-старушечьи круглое, глаза добрые и не старые, с живинкой и тёплым огоньком, не угасшие. Руки с коричневой кожей, с выпуклыми венами. Ходит с ореховой палкой, полусогнутая, но ещё бодрая. Живёт на пенсию, получаемую за мужа, инвалида войны, кавалера трёх орденов Славы, умершего в одночасье от инсульта. Любит разные лакомства, особенно баранки и сушки. Всегда беззлобно ругается, для порядка, на продавщицу Тоньку Дутову, если сушек нет в продаже.
– Опять ты, Тонька, не завезла баранок! – Ёка-морока стучит палкой по полу. – Это ты так заботишься о покупателях?
– Да что ты, бабка Дарья! – оправдывается Тонька.
– На базе не было. Вот те крест, – делает вид, что хочет побожиться, но руку выше плеча не поднимает.
– Как это не было! Неужели не напекли? – искренне удивляется Ёка-морока и смотрит в глаза продавщицы.
Прохожим людям, кто по какой нужде забредал в её домишко и расспрашивал о жизни, охотно рассказывала:
– Бабка-то моя ещё барина нашего помнила… того – князя или графа: девчонкой полы во дворец ходила мыть. Её у меня ведуньей кликали. Заговоры она разные знала. Зубы, рожи, грыжи заговаривала… А веселуха и певунья была! Бывалыча, как барыня на лето приедет сюда, то соберёт девок и вот они в её опочивальне поют, а бабка запевает. Барыня потом их всех одаривает – кого чем. Бабке завсегда рублевичок дарила. Она любила бабку – крепостная у неё до вольности была моя бабка… Мать тоже пела, любила жалостливые песни. Рано только умерла, я несмышлённой тогда была…
Дарья смотрела в окно на лес, и грусть застывала в глазах.
– Устала, бабушка, наверное, жить? – сочувствовала какая-либо сердобольная гостья.
Ёка-морока, стряхнув минутное забытьё, качала головой:
– Чего не скажу, того не скажу. Девятый десяток живу, лет пятнадцать без мужа, а не устала. Как можно устать от жизни?! – Дарья недоумённо смотрит на присутствующих. – Бывает, утром и встать не могу – такая чёрная немочь найдёт… А думаю – надо подниматься: топить печку, по воду идти, козе корму задать. Встану, расхожусь, и закрутится день колесом… Это раньше бедко жили, а теперь жизнь стала не в пример прежней…
– Всё равно тяжело одной…
– Да разве я одна? Смотри, сколько здесь народу – целое село!
Ёка-морока держала козу и двух кошек. Днями копалась в огороде и, невзирая на старость, ходила в лес по грибы и по ягоды. Вставала чуть свет, припирала дверь палкой, брала лукошко, клюку, и её полусогнутая фигура скрывалась в перелеске. К обеду возвращалась усталая, но довольная. Если приносила грибы, перебирала их, отваривала и солила в небольшой кадушке, стоявшей в углу клети, где было прохладно и сумеречно, а если ягоды – то сушила или варила варенье.
Ёка-морока глянула в окно. Так и есть! Женька и с ним двое мальчишек сновали у тына. Женька, семилетний Варьки Парамоновой сынок, в коротких штанишках, в футболке с рисунком на груди, с вихрастой льняной головой, приложил палец к губам и стал тихонько красться вдоль забора. За ним, озираясь, втянув голову в плечи, шли два брата Румянцевы.
«Пришли яблоньку обтрясти, – подумала Дарья. – А яблоки ещё кислые, до яблочного Спаса почти три недели. Вот фулюганы!»
Но ребятишек манила не яблонька. Рядом с тыном, обкрутив усами воткнутые в грядку тонкие прутики, рос горох. Пузастые зелёные стручки грелись на солнышке, видом своим как бы говоря: «Сорви меня!» За ними и нацелились ребятишки.
Дарья вышла на крыльцо.
– Женька, заводила! – крикнула она.
Мальчишки остановились, готовые в случае опасности броситься наутёк.
– Да вы не бойтесь, пострелята! – крикнула опять Ёка-морока, видя, что ребятишки вот-вот сиганут в проулок. – Лучше признавайтесь, горох удумали поворовать или яблоньку обтрясти?
– Мы не хотели, баб Дарь, – ответил замерший у тычинника Женька. – Мы смотрели, какие подсолнухи красивые растут.
– Так я вам и поверила, – улыбается Дарья. Зубы у неё не вставленные, а свои. – Чего крадучись подходить? Чего робеть, если без зла идёте!..
– Мы не хотели, – повторяют вместе Женька и братья Румянцевы и подходят к Ёке-мороке.
– Не хотели! По глазам вижу, что хотели. Пойдём в избу, – зовёт она сорванцов. – Чаю с баранками хотите?
Ребятишки молчат.
– Раз молчите, значит хотите.
Ребятишки знают, что Ёка-морока вовсе не злая, отходчивая, а если кого и пожурит, то это так, для проформы. Поэтому они смело идут за ней.
В избе у неё прохладно и темновато. В углу над божницей теплится огонёк лампадки, подсвечивая красным закопчённый суровый лик Николая угодника. На тумбочке маленький телевизор, накрытый вышитой треугольной салфеткой. Два сундука с горбатыми крышками, окованные тиснённой жестью, кровать с вышитыми подзорами и задинкой, на бревенчатых стенах фотографии в рамках под стеклом и просто обтянутые плёнкой, чтобы не засиживали мухи. Часы с гирями, которые бьют каждые полчаса. На подоконниках цветы – герани, ванька-мокрый – дерьбеник-плакун, столетник… Стены не оклеены обоями, а сохраняют первородный вид. Они с тускло-медным отблеском, с длинными щелями и большими тёмными сучками. Потолок из широких досок, без щелей, но тоже с чёрными сучками.
Ребятишки забираются, елозя, на высокую лавку и сидят, болтая ногами, а Дарья ставит на стол самовар, краснопузый, с выбитыми над краном медалями с мелкими надписями, которые невооружённым глазом прочитать невозможно. Он поблёскивает в поддувале малиновыми весёлыми огоньками и радостно шумит. На конфорку сверху трубы водружает фарфоровый заварной чайник с весёлыми цветочками на боках.
– Ну садитесь, – усаживает ребят бабка за стол, – пейте чай с вареньем, угощайтесь баранками.
Каждому она наливает в чашку душистого чаю.
Ребятишки грызут баранки, прихлёбывают чай, пыхтят довольные и глазеют по сторонам.
– Вчерась в кинотеатре кино интересное шло, – говорят братья Румянцевы, перебивая друг друга, – а мамуля нас не пустила.
– Одним в город ехать. Далеко же.
– Прямо далеко. Всего-то две остановки.
– Отчего же не пустила? Проказничали, наверно?
– Да играли в погребе, а дверь не закрыли, Мурка наша сметану всю и слизала.
– Поделом вам, – сказала Ёка-морока, наливая чай в блюдце. – Нашли место для забав – погреб. Свалились бы в яму…
– Не свалились бы…
– Баб Дарь, – а у Приваловых сварьба, – говорит Женька. Говорит он «сварьба», как мать. Он не умеет ещё читать и произносит слова, как слышит.
– Неужто Валерка женится? – удивляется Дарья. Валерку она знает хорошо.
– Валерка…
– Чтой-то рано, – вслух размышляет Ёка-морока, больше с собой, чем с ребятишками. – По осени бы надо… Счас пора-то такая жаркая… страдная.
– А невеста брюхатая уже, – засовывая новую баранку в рот, шепелявит Женька.
– Ишь, ты, пострел, – сердито смотрит на него бабка. – Кто тебе это сказал?
– Никто. Слышал, мамка говорила.
– Бестолочь твоя мамка, – замечает Дарья.
Женька не обращает на эти слова никакого внимания.
– Уже и гляденье было, – продолжает он в раздумье. – А ты придёшь к ним петь? – неожиданно спрашивает Ёку-мороку.
Спрашивает он так потому, что знает, если в селе свадьба, то зовут Ёку-мороку спеть. Как она, никто в округе не поёт.
– Спою, – отвечает Дарья. – Отчего не спеть… Как быстро время-то летит, – вздыхает она каким-то своим мыслям и задумывается.
Наевшись и напившись чаю, ребятишки совсем освоились: стали толкаться, дёргать друг друга за волосы, щипаться.
– Баб Дарь, – осмелев, спрашивет Женька и, нагнув голову, вприщур смотрит на старуху: – За что тебя Ёкой-морокой прозвали?
Дарья ответила не сразу. Она прикрыла створку окна, чтобы ветром не задувало за подоконник занавеску, вернулась к столу, отхлебнула из блюдечка чаю. Ребятишки ждали.
– Бабку мою, царство ей небесное, ещё так прозвали. А за что верно и не знаю. Сказка такая была… Рассказывали, жила старуха болотная Ёка-морока. Заморачивала она головы путникам. Так заморочит, что заплутаются они в лесу или на болоте и никак оттудова не выберутся. Ёка-морока за то, что забрался человек в её потаённые места напускает на него кикимор разных, упырей и хмырей болотных и те давай куражиться: то огни по болотам пойдут и трясина начнёт чавкать беззубым ртом и вздыхать жалобно и стонать и птицы невидимые шуметь крыльями и кликать кого-то кто-то начнёт, и огни то спотухают, то снова возгораются… Да что я вам такое страшное рассказываю, – спохватилась Дарья. – Ночью спать не будете.
– А мы ничего не боимся, – сказал Женька. Нас нарочно пугают, чтобы мы дома сидели и никуда не ходили.
– Умные вы мои, – гладит ребят по голове Дарья. – Не такими растёте забитыми, как мы росли.
– А ты много сказок знаешь, баушка? – спрашивает младший из Румянцевых.
– Не считала никогда. Знала много, а теперь позабывать стала.
– Может, вспомнишь какую? – просит Женька.
– В другой раз. А сейчас пойдёмте в огород, я вам гороху нарву, а то скоро перезреет…
Они выходят через двор в огород, бабка отставляет в сторону калитку – она у неё без петель – и рвёт в фартук горох. Ребятишки рассовывают его по карманам и довольные бегут по улице.
Дарья кормила в хлевушке козу, когда услышала, как звякнула дверная щеколда – кто-то шёл. Слух у неё был отменный. Бросив козе пучок свежей травы, она поднялась в сени и прошла на крыльцо. На приступке увидела рослого светловолосого парня с высокой девчушкой в малиновом просторном сарафане.
– Валерка-а, – узнала бабка совхозного тракториста Привалова. – Никак с невестой? – она воззрилась на девчушку, и глаза её засветились. – Чего тут стоите, проходите… Вот какие гости к нам зашли, – суетилась она, провожая молодых в дом. – Садитесь, садитесь! – усаживала она их не на лавку у стены, а на принесённые из передней стулья, предназначаемые для дорогих гостей. – Сейчас чайку поставлю.
– Спасибо, баба Дарья, – ответил жених. – В другой раз. Мы по делу пришли…
– А чай уже и не дело? – Дарья улыбнулась, и лицо стало ещё круглее.
Валерку она знала хорошо. Сколько раз в детстве яблони у неё обтрясывал – бедовый был. Она редко ругала – если только под горячую руку – деревенских ребятишек, залезающих в её сад. «Кисленького хочется ребятишкам. Пусть рвут. Мне одной и надо-то всего пяток яблок. Только бы яблоню не обломали?» Сад у неё был неплохой, посаженный покойным мужем. Сорта старые, русские. Она за ним не ухаживала, но яблони и так плодоносили, осенью низли под тяжестью плодов, возбуждая аппетиты мальчишек.
Как-то Валерку она поймала в саду с поличным – кучей яблок за пазухой. Привела в дом, напоила чаем, дала яблок и проводила с крыльца, напутствуя:
– Зачем через тын лезть? Если бы попросил, неужто я бы тебе яблочек не поднесла?
Когда Валерка подрос, стал приходить к Ёке-мороке, помогал по хозяйству.
Однажды пришёл и говорит:
– Ты старая, баба Дарья. Руки у тебя старые, ноги старые, глаза плохо видят, зубы не жуют. Тяжело тебе. Давай я тебе дров наколю?
– Спасибо, родимый! Наколи, наколи!
Валерка наколол и приложил поленья к стене сарая под навес.
– Кто же тебя этому научил – помогать старым?
– В школе. Тимуровец я.
Ёка-морока угостила его чаем с вареньем. Сидела напротив, подперев голову руками, и смотрела как он ел и пил.
Валерка вылез из-за стола, прошёл по комнате, рассматривая фотографии на стене. Их было много – и в больших рамках, по несколько штук сразу, и в маленьких, поблёскивающих полированным деревом и стеклом. Они заинтересовали мальчишку.
– Кто это? – спросил бабку Валерка, показывая на рыжеусого плотного человека в будённовке с красной звездой, с саблей, сфотографированного во весь рост. Глаза у красноармейца были весёлые, с прищуром.
– Это Фёдор мой, – ответила бабка и смахнула полотенцем приставшую к стеклу соринку. – Вояка был… Он и в первую германскую, и в гражданскую, и в эту, последнюю, с немцами воевал. Весь изрешеченный пулями пришёл. Но пришёл… А вот… сынок…
– Это он? – спросил Валерка, подойдя к небольшой фотографии, с которой смотрел круглолицый, наголо остриженный, толстогубый солдат в шинели с широкими квадратными петлицами.





