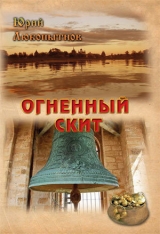
Текст книги "Огненный скит.Том 1"
Автор книги: Юрий Любопытнов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 43 страниц)
– Какое же пустячное, – ответил Леонтий, поглаживая ладонью тулово мясорубки. – Душа просит. – Он глубоко вздохнул.
– Причем здесь душа. Эк хватил! Польза должна быть. А без пользы, хотя и с душой, – трата времени.
Леонтий не успел возразить. Стукнула калитка. Он и Жорка оглянулись. За кустами сирени показалась Матрёна.
– Твоя идёт, – сказал Жорка.
– Идёт, – повторил Леонтий. – Счас задания станет раздавать. – Он сгрёб инструменты в кучу.
Подошла Матрёна, высокая, с обветренным скуластым лицом. Поставила сумку на землю, вытерла лицо концом платка. Леонтий сразу определил – жена чем-то недовольна: брови сведены, взгляд насупленный.
– У кого лук покупала? – спросил её Жорка, продолжая виснуть на заборе, оглядывая дерматиновую сумку.
– У Дарьи. Она мне даром отдавала, но я заплатила.
– А что – своего нету у вас? – Жорка удивлённо вытаращил глаза.
– Был да весь вышел. Леонтий, видать, подкормил его сильно – весь посох. Без своего луку теперь сидим.
Жорка посмеялся в ладонь, будто покашлял и, казалось, оживился.
– Зато это, – он покрутил пальцами, – мясо будете из…кхе-кхе… новой мясорубки кушать.
– Хоть бы ты, Егор, сказал моему, чего ради он волынится, – не поняла Жоркиной иронии Матрёна и вздохнула: – Меня он не слышит… Люди проходу не дают, смеются над нами… На днях донце у ведра потекло, вывалилось. Взялся он новое вставить. Я говорю, не канителься – в магазине легче купить. Куда там! Ему хочется талан свой показать. Говорит, сам донья вставлю…
– И вставил? – усмехнулся Жорка.
– Как бы не так! Только железо перепортил. Вот ужо я ему…
– Погоняй, погоняй его, Мотя! Не дело взрослому мужику пустяками заниматься.
– Не говори! Только время тратит на свои никчёмные безделушки. Афоня-археолог да он – двое непутёвых в нашем околотке. Мой с хомутами да с тарантасами, а тот с проектами носится – плотину и церковь починить. Церковь-то надо, а то до чего храм довели…
– А Кирилка Завалишин, Разевайрот? Тоже из ихней компании, – засмеялся Жорка. – Тот пули лить мастак, да ещё какой…
Он спрыгнул с ящика, ногой откинул его в сторону:
– Ну что ж, покеда! Удачи, так сказать, в вашем начинании. Кхе-кхе…
– Прохлаждаешься, – сказала Матрёна мужу, когда Жорка удалился и опять взялся за тачку. – Соседи работают, что-то делают, а ты… Хоть кол на голове теши – нет у тебя другой забавы, чем безделушки делать. До чего дожил: люди смеяться начинают, проходу не дают. Раскрыл бы парник! Вон как парит – пусть огурцы подышат, а то задохнутся.
– Счас раскрою, – ответил Леонтий и стал убирать с верстака инструменты.
Убрав в сарай стамески, долота и свёрла, недоделанную чурку, он направился в огород. Раскрыв парник, сунулся к грядкам земляники. Она уже отцвела, и под листьями висели крепкие с точечками семян-чешуек маленькие бело-зелёные ягодки. Леонтий перебирал гроздья, и рука чувствовала ещё не тяжелый, но уже ощутимый их вес.
Матрёна в последнее время стала меньше понимать его, а может, и вообще никогда не понимала. И свояк Толик Евстратов, и зять Валерка, и Жорка – все они тоже не понимают. Жорка тот вроде в глаза сочувствует, а в душе думает: «Чудак сосед! Кочевряжется со своими безделушками, баклуши бьёт. Вишь, сегодня заявил: «Погоняй его, Мотя! Погоняй!» И Толик говорит, найди дело по душе, если у тебя время много свободного. Возьми хоть телка, выпои, выкорми – польза тебе. А так! Кому нужны твои сани, хомуты, дуги? Кому нужны? Ему нужны, Леонтию. Что он не может сделать для себя? Для души?
Может, он и живёт сейчас для души, а не для каких-то суетных дел. Для того живёт, чтобы окунуться в прошедшее время, теперь такое далёкое. Мысленно пройти теми дорогами, какими ходил когда-то, вспомнить полузабытое и тех, кого уже нет, но память о ком жива, и тех, кто уйдёт вместе с ним, и понять – правильно ли жил, не растерял ли чего, чему был привержен, окинуть это взором с высоких теперешних времен…
Леонтию в последнее время хотелось в детство. Думы эти он открыл неожиданно для себя, а потом понял, что они были у него в голове и раньше, но не находили отклика в душе. А теперь прорвало. С какой-то недавней поры он стал приближать время, когда можно было лечь в постель и закрыть глаза. В доме в такую пору было тихо: шаги, скрипы, шорохи замирали. Леонтий с закрытыми глазами блаженно вытягивался под одеялом и на него обрушивались мысли.
Как-то очень гнетуще на него навалилась тоска, такая тяжелая – хоть умирай живым. Пробрала она его так, что несколько дней он ходил словно неприкаянный, не зная, куда преклонить голову и чем заняться. Стало жаль ему утерянного, пролетевшего времени, своих юношеских дум об особой прекрасной жизни, которой не было.
Вспомнилась родная деревенька, какой она была полста лет назад, дедова изба с коричневыми, подзакопченными строганными стенами, с пустыми пазами, из которых вывалился пересохший мох, отец – высокий, жилистый, рассудительный и спокойный, их коняга, жеребчик Умный… Мальцом Леонтий подходил к стойлу, спрятав в кармане кусок хлеба, который давал ему отец, находил в темноте тёплые губы Умного и совал ему ломоть. Жеребчик толкался в плечо, тёрся мордой о грудь, бил неподкованным копытом в настил двора.
Память, как прожектор, высвечивала темноту прошлого, выхватывая разрозненные куски. Леонтий гнал от себя не прошенные мысли, но они возвращались вновь.
Однажды поехали с отцом за сеном. Отец разбудил Леонтия рано, чуть свет. Леонтий вышел во двор, когда отец затягивал супонь у хомута, упираясь ногой в деревянную клешню. Леонтий ощутил сыромятный дух гужей, запах дегтя… Эта картина часто всплывала в памяти, и он так мучительно вспоминал её, что руки сами запросили работы, ему захотелось материализовать свои воспоминания пусть бы в небольшой части, и он сделал хомут, хотя он был и не нужен, и повесил в сарай. Каждый день он ходил туда, вдыхал запах кожи и войлока, дёгтя, баночку которого он достал по большому случаю, мял в руках жёлтые гужи и так осязаемо вспоминал далёкое время, голубое небо, запах свежеиспеченного хлеба, сверстников, что у него кружилась голова. Он прислонял голову к хомуту и закрывал глаза.
Вспоминался дружок Серёжка, живший на другой стороне улицы, чуть постарше его, с тёмной челкой и жизнерадостными карими глазами. Как они босиком носились по пыльной деревенской улице, растолчённой колёсами телег, таща за собой тарахтящий самодельный тарантасик! Серёжка в конце войны был призван в армию, воевал и сложил голову в Восточной Пруссии… И сделал Леонтий такой же тарантасик из тонких осиновых тесинок – наподобие кузова автомашины, колёса выпилил из крепкого березового кругляша. Сидел на пороге, глядел на тележку и думал: «Эх, Серёжка, Серёга! Чем тебя я могу ещё вспомнить? Добрым словом да вот этим самокатом. Где ты зарыт? И зарыт ли? Может, тебя разметало взрывом? Может, тебя завалило в окопе или в блиндаже? Кто ходит к тебе на могилу? А может, её и нет, и никто к тебе не ходит, и никто не знает, где ты похоронен, защитник Отечества, да и тебя теперь никто не знает, кроме меня, твоего дружка. Не оставил ты никого после себя…
А на днях пришла другая нечаянная мысль – смастерить мясорубку. Когда-то очень давно видел он деревянную мясорубку у богатого соседа Андрона Маркелыча Подшивалова. Это было чудо! Как ловко она разделывала мясо! Босомыги жили бедно, ели картошку впроголодь да мать нечасто варила жидкую похлебку из свекольной ботвы или кашичку на воде, потому что картошки не хватало.
В престольный праздник или на Пасху дом Подшиваловых был как всегда в такие дни духовит особым сытным запахом. Варили студень, и сладкий дым тёк из трубы. Запахи разделанного, провёрнутого мяса проникали, казалось, в душу полуголодному Леонтию, рот наполнялся слюной и перехватывало дыхание. Потом он видел эту большую деревянную мясорубку, висевшую на колышке тына для просушки, и она всегда олицетворялась у него с сытной и обильной пищей…
– Ну что – раскрыл парник? – голос Матрёны вывел Леонтия из задумчивости.
– Раскрыл, раскрыл, – ответил он машинально, покачал головой и стал обрывать траву у забора.
Вечером Леонтий смотрел телевизор. Матрёна присела тоже на краешек стула и, видя, что муж целиком ушел в созерцание кинопрограммы и не замечает её, тихонько встала, чтобы не скрипнул стул, и вышла в сарай. Запинаясь, о пустые бидоны, плашки и ящики, пробралась к задней стенке, сдернула с гвоздя дырявый мешок. На верстаке нашла инструменты, ссыпала их в мешок и, озираясь по сторонам, потащила его к пруду.
Уже смеркалось. Было то время, когда всё вокруг призрачно, серо, всё виднеется странно, расплывчато и таинственно. Накатанная дорога терялась в конце улицы, и стоял над ней пыльный запах.
Матрёна подобрала у дороги и наложила в мешок камней, битых кирпичей, завязала бечёвкой свободный конец, прошла на мостки, с которых черпали воду, и кинула, насколько хватило сил, мешок в воду. Он утонул не сразу. Она видела, как он надулся пузырем, и испугалась, что он проплавает до утра и хотела бежать за длинной жердью, что стояла у сарая, чтобы утопить мешок, но он сам ушёл под воду, глухо булькнув, и несколько секунд всплывали, лопаясь, пузыри воздуха, а потом перестали. Когда вода успокоилась, и на ровной слабо отсвечивающей от неба поверхности отразились звёздочки, она ушла с мостков.
Когда Матрёна вернулась домой, Леонтий всё также смотрел телевизор, воззрившись на экран, и улыбался своим мыслям, теребя пуговицу на линялой рубашке.
1987 г.
Вертопрах
Кирилл Андреевич Завалихин по привычке, свойственной деревенскому жителю, встал рано. Позевав, вышел на крыльцо, спустился со ступенек и, набрав в горсть воды из висевшего на столбушке рукомойника, ополоснул лицо. Вспомнив, что полотенце оставил дома, не пошёл за ним, а вытерся подолом рубахи и, подставляя плечи, грудь, лицо тёплому солнышку, блаженно улыбался тому, что не надо спешить на работу, составлять репертуар клуба, ехать за фильмом или готовить смотр художественной самодеятельности. Это теперь позади. Вчера Хватов с треском уволил его, сказав:
– Все, Кирилка, хватит! Ищи себе другое место, только не у меня. Никаких теперь ходатаев за тебя не приму. Ты знаешь, где у меня? Вот, – директор похлопал себя по шее. – Намаялись с тобой!…
Он сначала хотел уволить Кирилку по статье, как не справившегося со служебными обязанностями, но главный агроном – дальний родственник Завалихина по жене – упросил директора уволить Кирилку по собственному желанию: зачем парню биографию портить. Хватов смилостивился, подумал: «Жена, дети у Завалихина, и вроде свой – деревенский. Правда, балласт, но свой». Он подписал его заявление, и в отделе кадров свободному человеку выдали трудовую книжку – иди на все четыре стороны.
– Ничего, бубновый туз, – рассуждал Кирилка сам с собой, топая по дороге к себе домой из отдела кадров и думая про директора, – обойдёмся и без твоей работы. Не много я зарабатывал в твоём клубе…
Он с женой Фросей держал корову, бычка, двух тёлок, несколько овец, кур. Сзади дома был пруд. Там купались, щипали траву по бережку и гоготали его краснолапые гуси. Тем и жили.
Фрося много раз ему говорила, что устала она одна шастать по хозяйству, ей его девяносто рублей ни к чему, лучше бы за скотиной ходил или работу какую-либо себе прибыльную нашёл, лучше, чем в своём клубе. Поэтому Завалихин не печалился, что лишился работы. Обойдётся. Поначалу он поможет Фросе по хозяйству, а там видно будет. До пенсии ещё далеко. Ещё с гаком двадцать.
Такой Завалихин родился – свободный от себя и ото всех. Он даже гордился, что один такой в деревне, которому всё нипочем: и директор совхоза, и парторг, и председатель сельсовета, которого вправду Завалихин и видал-то всего один раз.
Горб Кирилка сызмальства не привык гнуть, старался место себе найти потеплее, такое, где б работать больше языком. Спервоначалу налаживался в руководители, помня слова отца: «В начальстве легче прожить». Вот и хотел Кирилка хоть небольшим начальником, а быть. Языкастого, смелого в разговорах, берущего, где надо, на горло, Завалихина поставили бригадиром-полеводом. Но он долго не протянул – не сработался с бригадой. Надо работать, а он распекает людей, даёт ЦУ – ценные указания:
– Кто же так полет! Ты порыхли сначала землю, сорняк сам вылезет. Тяпку-то держи покруче, всем лезвием опускай, а не углом. Ну кто же так делает!
Накрутит всякого, разругается донельзя, смотается, пропадёт. Час-другой прошляется, придёт, руки в карманы засунет – скажет, почему мало сделали, разнос устроит, а потом отойдёт и опять понесло-поехало – станет анекдоты травить. Таких словоохотливых в деревнях называют зубочёсами. А за Кирилкой закрепилось конкретное прозвище «Разевайрот».
Недаром говорят: «Язык мой – враг мой». Мудрость этого выражения не раз испытывал Завалихин на своей шкуре. По причине скоропалительности слов, ловкости языка, он нигде долго не задерживался. Взяли на ферму – коровам забывал раздавать корма, устроили в автомастерскую – машины слесари не стали в срок ремонтировать – заслушивались байками товарища. Соберутся в кружок, и Кирилка давай пули лить. Устроился потом в цех ширпотреба – рукавицы шить, но и там долго не наскрипел – за разговорами, притчами своими таких рукавиц накуролесит – диву даются: где по четыре пальца, а где аж по шесть. Поставили его сторожем – и здесь не справился. Скучно ему одному сидеть в дежурке, так он в поседки отправится, чтобы скоротать время…
Сердобольные друзья Кирилкины упросили директора взять его завклубом – работа такая, доказывали Хватову, который воспротивился такому назначению, где язык нужен: лекции нашему населению будет закатывать. Директор скрепя сердце согласился. Поначалу будто бы взялся Завалихин за дело – вместо киномеханика мотался за фильмами, ремонт затеял, а потом народ зароптал – не только лекции не стали слышать, кино стали глядеть шиворот-навыворот. Вот Хватов и поставил точку в совхозной биографии Кирилки Завалихина.
Завалихин в меру высок, в меру толст. Голову имел круглую с короткими вьющимися волосами. Бросался в глаза большой выпуклый лоб, как бок у чугунка, гладкий, без единой морщинки. На щеки с висков съезжали пушистые «пушкинские» баки. Ходил он смешно, выпятив живот, выбрасывая ноги вперёд-вбок, поводя плечами, отчего казалось, что он идёт, озираясь по сторонам. Рот почти не закрывал, и по бокам, в уголках губ, поблескивали два зуба из нержавеющего металла.
Поев картофельной драчёны и выпив два стакана сладкого чаю, он потянулся и спросил у жены:
– А что, Фрося, дела какие есть?
– А ты будто не знаешь, – ответила она, убирая со стола. – Корову надо пасти.
Корова у них три дня назад захромала и вчера пришлось позвать ветврача. Врач посмотрел и сказал, что ничего страшного нет, но в стадо пока не надо гонять, пусть побудет дома.
Кирилка встал со стула и, наморщив лоб, сказал в раздумье:
– А что, Фрося, её пасти? Я вот вобью колышек на лужку за домом, привяжу – пусть пасётся.
– Ты это что, Разевайрот, – строго посмотрела на него Фрося. – Какая трава на лугу! Вся выгоревшая. Веди на речку!
– Ты думаешь – на речку? – медлил Кирилка.
– Ну куда же ещё! Там травища во какая! – Фрося провела рукой по груди.
– На речку, так на речку, – нехотя согласился Кирилка и, вздохнув тяжко, стал собираться.
Он сломал ивовый прут, вывел корову со двора и погнал к реке на луг.
День был погожий. Пахло ромашкой и подсыхающим сеном, разбросанным в проулке у Юрлова. Высоко в небе, раскинув широкие крылья, кружились два ястреба, высматривая добычу. В пруду среди балаболок – кубышек – турчали лягушки, высунув из воды зелёные морды.
«Солнце жарит как в Ташкенте», – отметил Кирилка, хотя в Ташкенте ни разу не был и видел город только по телевизору.
В рыхлой дорожной пыли купались воробьи и, глядя на них, Кирилка радостно вздохнул и подумал: «А хорошо быть свободным человеком. Ничто тебя не тяготит, не давит. Кроме как перед женой, отчитываться не перед кем».
Корова брела медленно, прихрамывая на заднюю ногу, останавливалась, тянулась губами к траве.
Навстречу Кирилке шёл Борис Веселов, слесарь из гаража, неся в руке блестевшую на солнце железяку.
– Сколько лет, сколько зим, – заулыбался, увидев его, Кирилка и спросил, пожимая руку: – Как там в ваших палестинах, гаражах и овинах?
– А ничего. Живём, хлеб жуём, зарплату получаем, пьём кофий с чаем. Чего ещё хочем, о том и хлопочем, – в тон ему ответил Веселов, глядя на расплывшуюся в улыбке физиономию свободного человека, и кивнул на корову: – А ты никак домашним пастухом заделался!
– Да вот корова охромела, гоню пастись, бубновый туз…
– И пенсию домашнюю, верно, будешь получать? – с ехидцей продолжал Веселов, намекая на уход с работы.
– Там посмотрим, – ответил Кирилка, почувствовав издёвку в словах Веселова и, между прочим как бы, спросил:
– Ты не слыхал о ЧеПе на центральной усадьбе?
– Нет, – округлил глаза Веселов. – А что случилось?
– Мужиков убило.
– Каких мужиков? – Веселов от неожиданности выпустил железку из рук.
– Каких, каких! Приезжих.
– Это тех командированных что ли?
– Тех самых.
– Током? – Веселов похлопал по карманам, ища курево.
– Да нет. Предмет с крыши упал.
– Предмет?
– Он самый.
– Кирпич что ли?
– Хуже.
– Чего же? – Веселов прямо-таки вцепился взглядом в Кирилку.
– Валенок. Мужиков и пришибло. – Кирилка довольно рассмеялся от радости, что ему удалось провести Веселова.
Веселов плюнул с досады, натянул Кирилке кепку на голову по самые уши – ну и Разевайрот, человек по своим делам спешит, а тому только присказки сказывать – и, подобрав железяку, пошёл своей дорогой.
А Завалихин, поправив кепку, стегнул корову прутиком и погнал проулком к реке.
Перейдя речку вброд, он пустил бурёнку пастись на широкую кочковатую луговину, а сам прилёг на бугорке под сосной таким образом, чтобы корова всегда оставалась в поле зрения. Надвинув кепку на глаза, чтобы не слепило солнце, предался размышлениям – разговору про себя.
«Вот ведь, – рассуждал он, – выгнал меня директор, можно сказать, выгнал. А чего добился? Будет клуб на замке всё лето, а может, и зиму. Когда это теперь найдут нового заведующего – не много храбрецов идти на девяносто рублей зарплаты. Поспешил, Хват, поспешил! А я работать, как работал раньше, не буду. И вообще, кто придумал эту работу, подневольную, каторжную? Вот раньше, – Кирилка закинул ногу за ногу, с минуту рассматривал резиновые каблуки, словно впервые их видел, – вот раньше, в первобытном обществе не работали. Сейчас, чтобы отдохнуть, набраться бодрости идут на рыбалку, на охоту. Это радость. Это свет в окне. А в первобытно-общинном эта радость была каждый день. И радость себе отмечали, и кусок пропитания добывали. Эта была жизнь! А теперь? Канителишься, канителишься, бубновый туз… мучаешься, мучаешься…»
Незаметно он заснул. И снился ему сон. Он сидит в пещере, завешанной шкурой леопарда. Горит костер, и на нём зажаривается целая туша быка. Хватов крутит кол, на котором висит туша. На угли капает жир, и они трещат, взвивая кверху маленькие звёздочки огня. Вдали, в тени, сидят человек двенадцать неандертальцев и жадными глазами смотрят, как поджаривается мясо. Кирилка в это время читает им лекцию о новом способе охоты на мамонтов. Зачем рыть на тропе яму, вбивать в дно заострённые брёвна, устилать верх прутьями и травой и ждать, когда в неё провалится многотонный зверь, чтобы добить его камнями. Я вам сделаю гранатомёт, – говорил он узколобым людям. – К чёрту грязную работу – дедовским способом заваливать мамонта. Стрельнул – и он готов. А то на мамонтовых тропах мин понаставим. Идёт эта туша: фугас как бабахнет, и сдирай шкуру, пока тёплый.
– Спишь что ли? – впросонках услышал он голос.
Открыв глаза, увидел перед собою соседку Дуську Фомину. Видно, она полоскала бельё на мостике: рукава платья были закатаны по локоть, подол мокрый, из-под платка в горошек выбились волосы и прилипли ко лбу.
– А я кричу ему с того бережку, кричу, – говорила она, заправляя волосы под платок, – а он не слышит, спит, как сурок. Уж сюда прибежала, а тебя не добудишься. Проснись, корова твоя в лес подалась…
Кирилка протёр глаза и сел. Ему ещё мерещилась дымная пещера и туша быка на вертеле.
– Какая корова? Чья? – спросил он, никак не придя в себя.
– Как чья? Твоя, – неуверенно проговорила Дуська. – Ты что – ошалел? Кто корову тут пас?
– Ах, чёрт! – выругался Кирилка. До него дошёл смысл Дуськиных слов. – А ну от винта! А то забодаю, бубновый туз, – крикнул он ошеломлённой бабе, вскочил на ноги и бросился в лес.
– Куда она пошла? – на ходу крикнул он.
– Вон туда по тропке, где берёзка… Ну и барабошка, Разевайрот. Вертопрах! – Дуська прошла под мостик, зачерпнула воды в ладонь и ополоснула лицо. – Ошалелый какой-то…
Кирилка привёл корову на луг и снова улёгся под сосной. Но уже не спал. На реку пришли трое ребятишек и решетом стали ловить рыбу. Кирилка, свесив ноги с бережка, давал им изредка советы, если они не так что-либо делали или что-то не получалось. Но скоро ему надоело это занятие. Он почувствовал, что проголодался и, нахлобучив кепку на лоб, повёл корову домой, по пути опять думая, что хорошо быть свободным человеком.
День клонился к закату. Солнце грело не так сильно, больше и больше сваливаясь к горизонту. Подходя задами к огородам, упиравшимся во дворы, Кирилка услышал удары топоров, треск отрываемых досок, неразборчивый шум людских голосов.
– Что за шум, а драки нету? – навострил уши Кирилка, соображая, что бы это могло быть.
Подойдя ближе к строениям и увидев облако пыли, поднимающееся над улицей и различая иногда знакомые голоса, он вспомнил, что сегодня толока.
– А ведь сегодня толока! – воскликнул он и погнал корову поживее, нахлёстывая её хворостиной.
Толока – старый обычай, умирающий, как и многие другие на селе. Это сбор жителей к одному хозяину для помощи на один день. Приходит какой-либо сельчанин к мужикам и спрашивает, что, дескать, не могли бы вы мне помочь. Дело сурьёзное, одному мне не справиться, а вот если миром… И собирается деревня или часть её, кто может, кто свободен, кто не гнушается потратить своё свободное время для помощи соседу. Идут на толоку в назначенное время. Привлекательна толока ещё и тем, что после работы хозяин угощает принимавших участие в ней выпивкой и закуской.
Кирилка прогнал корову дальним проулком, чтобы его не видели мужики. Он постоял между заборов, глядя, как трещит дом, разбираемый по брёвнышку и про себя вздыхал, что не позвал его Ванька на толоку. Не позвал!
Придя домой и загнав корову в хлев, он попросил у Фроси пообедать.
– Какой обед! – ответила жена. – Ужин скоро… Хорошо ты сегодня корову попас.
Мужики раскатывали старую избу Ваньки Севостьянова. Ванька только командовал – куда что сложить. Рядом с ним бегала его жена – рыжеватая плотная баба в растоптанных туфлях на босую ногу с бидончиком кваса и эмалированной кружкой. Голос у неё был резкий и раздавался далеко.
– А ну налетай! – Её рыхлое лицо в красных пятнах лоснилось от пота. – Бери квасок, а то прокиснет!
К ней подходили, по очереди пили, крякали, стирали с губ пену:
– Хороший квасок, хозяйка, холодный, задиристый.
– Прямо с ледника. – Ванькина жена одёргивала прилипающий к ногам сарафан: – Для вас старалась.
Попив квасу, мужики опять устремлялись к избе. Пыль стояла столбом: от старого трухлявого мха, от земли, наброшенной на подволок для тепла, от гнилых, иссушенных временем бревён.
– Наддай, мужики! – кричал Юрлов, выворачивая доску пола. – Не прохлаждайся – день долог да за работой не увидишь!
Мужики и не отлынивали. Придя с работы, наскоро перекусив, они побежали к Севостьянову помочь разобрать дом. Конечно, может, все и не побежали бы – нашлись бы дела, заботы, другие причины, – но Юрлов, мудрый и опытный, сказал, что не гоже отказывать своему брату рабочему в помощи: разбросать дом это тебе не часы разобрать – одному не под силу, и близкие приятели Ванькины согласились для общего дела поработать дотемна.
Тут же невдалеке, в уголке огорода на сколоченном из узких тесинок столике нехитрая закуска и бутылка недопитой водки, всё накрытое, чтобы не пылилось, полиэтиленовой плёнкой – это расщедрилась Ванькина половина, чтобы, значит, веселее работалось. Мужики недавно пропустили по соточке и дело спорее пошло, с шутками, смехом, прибаутками…
– Кто-то чапает в проулке, – сказал вдруг Николай Юрлов, отбрасывая тесину в кучу и всматриваясь из-под руки в прогон между соседними домами.
В прогоне виднелась фигура в белой рубашке с короткими рукавами.
– А не Кирилка ли, братцы идёт?
– Он, – подтвердил Роман Фёдоров, самый зоркий из всех. – Его походка разнобойная – взад-вбок.
– Тады, мужики, – хохотнул Севостьянов, – прощай толока. Делов не будет – раскрывай рты, распрямляй уши.
– Не боись, – сказал Веселов, – мы его сейчас запряжём.
– Такого запряжёшь, – вставила слово Ванькина половина. – Ему бы только лясы точить. Барма ярыжка!
Подошёл Кирилка. Глаза весело сверкали из-под козырька фуражки, и вид был довольный.
– Бог в помощь! – крикнул он, останавливаясь невдалеке от лип, посаженных вдоль улицы, и глядя на работавших односельчан.
– А и хто это к нам пришёл? – сюсюкая, словно обращался к ребенку, спросил-сказал слащаво Ванька Севостьянов. – Сам Кирилл Андреич. Вас нам только и не хватало!
Все засмеялись, ни на секунду не прерывая работу.
– Гогочете ровно гуси: гы-гы-гы! – миролюбиво произнёс Кирилка и поискал глазами, куда бы приткнуться, и присел на брёвнышко. – Я думал тут вся деревня, – скривив рот, продолжал он, – а тут – раз два и обчёлся. Какая это толока!
– Какая бы ни была, а толока. А ты бы лясы не точил, а валил бы отсюда, – обиделся на Кирилкины слова Веселов.
Кирилка пропустил его слова мимо ушей и спросил у Севостьянова, глядя на разваленную избу:
– Строиться надумал?
– Надумал, – ответил Ванька, складывая в штабель доски. – Новый дом буду строить, с масандрой.
– Мансардой, – поправил его Кирилка.
– Не один шут так или иначе.
– Помог бы, – сказал с ехидцей Кирилке Юрлов. – Зря что ли припёрся…
– Не могу, – скривил лицо Кирилка. – Поясница болит. Со вчерашнего дня вступило… Сил моих нет.
Он встал, еле распрямился, потрогал поясницу.
– Раз спина болит – иди домой, – сказал Юрлов. – Завари можжевельничку да попарь. Может, полегчает.
– А то бутылочку возьми, – добавил Борис Веселов. – Содержимое выпей, а самой поясничку раскатай. Помогает.
– Топай, топай, Кирилл Андреич, – неожиданно резко сказал Роман Фёдоров. – Недосуг нам с тобой калякать. На вечеринке, за столом, Кирилка, ты хорош, а при работе никуда не годишься. Ты зубов не покрываешь – смеёшься, а нам надо рукава засучивать да вкалывать.
– Отойди, зашибём ненароком, – прокричал ему Севостьянов и развернулся с доской на плече, концом чуть не задев Кирилку.
Завалихин отошёл в сторону, но не уходил. Он встал поодаль, под липу, прислонившись плечом к стволу и перекрестив ноги, и наблюдал, как работают односельчане. Однако молчать долго не мог. Скоро и он включился в работу.
– Кто же так отрывает! – кричал он Фёдорову, видя, что тот долго мучается с доской – никак не может её оторвать от перевода. – Возьми топор, подсунь под доску и отрывай. Зачем тебе гвоздодёр? Топор, топор бери!.. Вот! Теперь от себя, от себя!.. Толкни, толкни брус, – кричал он уже Севостьянову. – Теперь наподдень его топором. Вот так! Учить вас надо… Сами без руководителя небось и не справитесь…
Отойдя в сторонку, в прохладу, мужики перекуривали, стряхивая с плеч, с головы мелкие щепки и мусор. Кирилка крутился возле, приглядываясь к транзистору, который тихонько верещал, прислоненный к корневищу липы.
– Чей приёмник? – спросил Кирилка.
– Японский, – ответил с насмешкой Роман Фёдоров. – А тебе что?
– Да так… Хороший приёмник. – Кирилка запнулся. – С приёмником у меня история была, бубновый туз…
Кирилка оглядел разгорячённые лица собеседников – видать клюнуло: мужики навострили уши, закрыли рты.
Ободрённый этим, Кирилка продолжал:
– Года три назад пошёл я как-то за сморчками, тогда что-то хорошая весна была, и сморчков уродилось видимо-невидимо. Да вы, наверно, помните тот год: по пьянке тогда Коська Супрунов зимой замёрз в поле… Взял я тогда с собой приёмник. Хороший приёмник. С тремя каналами. На ремешке. Я его рублей за сорок в нашем культмаге купил. Иду, режу грибы, а приёмник мой играет-наигрывает. Весело мне с ним. Вольготно. Душа радуется. Все новости знаю, и воздухом чистым дышу. Вскорости повезло мне – набрёл на целое стадо сморчков. На поляне их… – Кирилка почесал за ухом, показывая этим, что он затрудняется назвать точное их число. – Повесил это я, бубновый туз, приёмник на сучок и давай работать. Такой меня азарт взял! А их, как на зло… Только один сморчок срежешь, глядь, рядом ещё торчит. На коленях я за ними, наверно, с полверсты прополз. А сморчки бегут от меня, зовут, тащат под ёлки, под берёзки, на новые полянки… И так я это за ними разохотился, что потерял приёмник. Когда хватился, что далеко от приёмника ушёл, было поздно. Искал, не нашёл. Где там! Ушёл ни с чем – потерял.
– Обездолился, – усмехнулся Фёдоров.
– А другой весной, – продолжал Кирилка, словно не слышал реплики, – пошёл опять за грибами. И очутился где-то в том же месте. И что же – слышу что-то вроде музыки, словно мой приёмник играет. Я – на звук. И что вы думаете, бубновый туз? Висит мой приёмник там, где я его оставил – на сучке, и играет. Во какие у нас приёмники делают… А ты говоришь, японский, – обернулся он к Роману Фёдорову.
Посмеявшись, мужики разошлись продолжать работу, но Кирилку больше не прогоняли.
Ближе к потёмкам они сложили бревна в одно место, обрешёточные слеги – в другое, доски и тёс в третье, и запылённые, перемазанные, пошли купаться. На месте бывшего дома возвышалась не разобранная печь с несуразно высокой, как шея у жирафа, трубой.
Догорала над лесом и меркла розоватая полоска зари, густели сумерки. От затихшей реки веяло прохладой и запахами ольховой коры и тины.
Первым скинул штаны Роман Фёдоров. Его мускулистая фигура в длинных трусах метнулась по берегу и бухнулась в воду. Полетели брызги. Заводь была большая и глубокая. Роман сначала плыл на спине, потом на боку, взмахивая головой, и его нарочито громкое дыхание разносилось над водой.
Потом нырнул Николай Юрлов, а за ним посыпались в воду остальные, и заводь заплескалась и заходила, и гомон и хохот оглашали окрестности, и эхо вторило им.
– Эх раз-доль-ольице моё-ё, – пел Юрлов, плывя сажёнками и бахвалился, делая ладонями шлепки по воде. – Раз-дольице-е…





