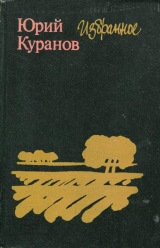
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юрий Куранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 44 страниц)
– Надолго? – спросил Енька, стараясь глядеть Митьке в глаза, а сам весь уменьшаясь.
– Посмотрю. – Митька поправил пилотку. – Посмотрю, как дела пойдут. Делишки тут у меня есть кое-какие.
Митька полез в карман и вынул пачку папирос из своих военных галифе.
– Ку́рите? – он подставил всем пачку.
– Я не курю, – сказал Олег.
А Енька вытащил папироску и принялся разминать ее и усиленно на нее смотреть. Митька сунул папироску в рот, спрятал пачку и вынул из кармана револьвер. Он навел револьвер на Еньку и сказал:
– Ну…
– Ты чего? Я ничего, – попятился Енька. – Чего я тебе? – И Енька еще попятился.
Митька нажал курок, из револьвера ударило пламя. Пламя ударило и осталось гореть, как свечка. Митька поднес дуло к Енькиной папироске:
– Прикуривай.
Наташа захохотала.
Олег улыбнулся.
Енька прикурил.
Митька тоже прикурил. Он повертел револьвер в руке и протянул его Еньке:
– Надо? Отличная зажигалка.
Енька смотрел на револьвер и облегченно улыбался.
– Бери, – сказал Митька и вложил револьвер Еньке в ладонь.
– Спасибо, – сказал Енька.
И хотя папироска у Митьки дымилась, он снова полез в карман и вытащил другую зажигалку, плоскую. Митька еще раз прикурил, с усмешкой посмотрел на всех.
– Ну ладно, увидимся, – сказал он и пошел к дому.
Каждый взял на Санькином огороде по три ряда, и пошли прямо от сарая лицом к полю, поблескивая тяпками. Наташа и Олег переговаривались. Енька молчал. Он работал какой-то маленький, словно у него не то что-то отобрали, не то поймали где-то да так и не ударили.
Полуднело. Люди шли на обед. Впереди семенила старуха Епифаньева. За ней бежала кошка. За кошкой двигалась Калина и следом Санька.
Митька стоял на крыльце. Он заложил руки в карманы и смотрел на идущих. Калина увидела его, вся вскинулась, вспыхнула лицом и крикнула:
– Митя-а!
Она подняла руки, закинула голову и с ликующими глазами, ликующим ртом хватая на бегу воздух, бросилась к дому. Она грудью отшвырнула калитку, взбежала на крыльцо и раскинула руки. Митька молча ударил ее кулаком в лицо. Калина спиной упала на землю. Она съежилась на земле и вскочила. И снова кинулась к Митьке.
– Шкура! – сказал Митька и второй раз ударил ее кулаком в лицо.
Калина опять упала. И опять вскочила. И снова бросилась к Митьке.
Митька ударил еще.
– Шлюха! – сказал он и плюнул.
Калина рухнула лицом вперед и некоторое время лежала.
Старуха Епифаньева, подобрав подол, спешила к своему дому и мелко крестилась. Санька вскрикнула, вбежала в ограду и выскочила на огород. Она увидела на огороде людей и опять вскрикнула, скрылась в избу. Мария стояла на крыльце, смотрела, заложив руки за шею. Енька продолжал окучивать. Олег стоял и сжимал рукоятку тяпки. А Наташа присела, будто ее били по ногам, прижала к лицу руки и кусала пальцы.
– Шлюха! – сказал Митька и спустился с крыльца. – Стерва!
Калина подняла мокрое багровое лицо и тихо сказала:
– Митя…
Митька одной рукой взял ее за волосы, поднял с земли, посмотрел на нее, плюнул в лицо ей и ударил.
– Митя! – закричала Калина. – Я ведь баба! Баба я! За что ты меня? Бей, Митя! Ой, больно! Бей, Митя. Баба ведь я. Больно мне, прости меня, стерву проклятую.
Митька выше поднял ее за волосы и, растягивая губы, глядя в глаза ей, говорил:
– Я много вас таких видел. Шкур. Шлюха барабанная. Думаешь, я жить с тобой буду? Я с тобой, как со всякой шлюхой, три дня пересплю. Ух, гадина…
И Митьку затрясло.
– Митенька, Митя, – говорила Калина. – Стерва я. Пожалей меня, Митя! – завопила она. – Баба ведь я несчастная, ты же знаешь. Ох, Митя…
Она хотела обнять Митьку.
Но Митька выше поднял ее за волосы, как бы поставил, чтобы она стояла. И потом он ударил ее сапогом.
Калина раскинулась и полетела на колодец. И Олегу показалось, что у нее отлетели руки и ноги. Калина лежала спиной на колодезном срубе, смотрела в небо и улыбалась, будто Митька стоял рядом и не бил ее только что по голове.
А Митька повернулся и ушел в избу.
И потом Калина пошла в избу. Под вечер она вышла с коромыслом, отправилась на Санькин колодец за водой. И слышно было, как она в ограде говорила Саньке:
– Митька приехал. Митя приехал.
Набрала воды. Поставила ведра на землю. Вышла на огород. Она посмотрела на всех улыбающимся багровым лицом.
– Митька приехал, – сказала она и поклонилась всем.
10
Митька уехал через три дня. Он вышел за ограду с медалью, с мешком и в пилотке. И Калина пошла провожать его.
– Ладно. Не надо, – сказал Митька, – сам дойду.
– Митя, провожу я тебя, – попросила Калина.
– Сам дойду, – утвердил Митька. – И не жди меня больше. Убьют не убьют – не вернусь. Живи.
– Митя… – сказала Калина.
– Иди в избу.
Калина повернулась и пошла в избу.
Из окошка выглянула старуха Епифаньева.
– Опять, что ли, Митя, на войну пошел? – спросила она.
– Пошел, – сказал Митька.
– Увидишь там Ивана, скажи, чтобы скорей домой ворочался. Костюм я ему хороший выменяла. Да и сама ждать затосковалась. Жить, скажи, уж тяжко мне. А пока не придет, умирать не буду.
Из села по деревне шествовал Бедняга. Он тащил подмышкой большую фанеру, прибитую к длинному колу. Бедняга издали увидел Митьку и хотел свернуть на огороды.
– А ну, Бедняга, иди-ка, покурим – сперва мои, потом твои! – крикнул Митька.
Бедняга подошел и поклонился Митьке:
– Со счастливым, как говорится, возвращением. – Бедняга потрогал пальцем на груди Митькиной медаль и пропел: – Ишь ты, как горит, любезная, чистое солнце.
– Что это у тебя? – сказал Митька и взял из рук Бедняги фанеру, на одной стороне которой было что-то написано красными буквами.
– Это я, Митя, в милиции теперь работаю. Начальник Па́риков взял меня за слабость здоровья и за усердие. Вроде бы как я в конюхах да в пожарниках теперь. По совместительству. А бабы, ведь они что, стервы. Государственную значению им в голове не просветить. Берут воду из озера, и все. Кто огород польет, кто постирает: вода, она, вишь, мягкая здесь в озере. А воде убыток. Вдруг пожар, и залить нечем. Вон в прошлом годе бабы, можно сказать, весь скотный двор в колхозе спалили. Спасибо, я, миленький, в набат постучал. Да человека того, поджигателя, поймал тут же. Все тушат, а я ловить побежал. Спит он, гляжу, под кустом неподалеку. Я и хвать его.
Митька повернул к себе фанеру исписанной стороной.
– «Воду в етом озере брать дли всяких нужд строго воспрещается», – прочитал Митька. – Ну и сволочь же ты, Бедняга! – сказал Митька. – Фрицев на тебя нет, а руки марать неохота.
– Я ведь, Митя, для колхозного дела стараюсь. Можно сказать, строй государственный поддерживаю, – сказал Бедняга ласково.
– Спасибо за письмишки, – сказал Митька.
– Ну, что ты, Митя… Я ведь тебе всегда одно лишь услужество. А бабы, они ведь без строгого глазу – ой какие голопупы, Митя. – Бедняга не удержался и добавил: – Митя, муж красивой бабы…
Митька ударил Беднягу в ухо и пошел из деревни. Потом оглянулся и помахал Бедняге рукой:
– Поминай пока. Помни, когда придется.
– Придется, придется, – сказал Бедняга, подбирая свое фанерное приказание.
Он прошел к озеру и вбил приказание в землю на самом берегу, буквами к деревне.
Енька в полдень вышел на озеро. Он прочитал приказание и выкупался. Он вылез на берег, оделся, выдернул кол вместе с фанерой и закинул в озеро. Фанера поплыла по воде. На фанеру села пташка, пробежалась и полетела дальше.
Енька потянулся после купанья, хотел уже направиться в поле, как увидел, что позади Наташиного огорода ходят кони. Кони ходили по ту сторону изгороди. А по эту сторону цвели маки. Один соловый молодой лошак поднял передние ноги над изгородью, прыгнул и пошел по макам. Выбежала со двора Наташа. Она закричала на лошака. Но лошак даже не оглянулся из-под гривы. Грива, как цыганский платок, свисала с лошака.
Наташа тогда пошла медленно, крадучись. Она подходила к лошаку, с каждым шагом приседая. Ветер широко раздувал маки, гнал их, словно воду, и Наташа кралась по пояс в этой воде. Она приблизилась, прыгнула на лошака и вцепилась в гриву. Лошак рванул и перепрыгнул изгородь. Лошак, разматывая бег, понес в поле.
Енька выбежал за огород. Лошак уносил Наташу, а она подпрыгивала и старалась удержаться. Но сползала. Енька побежал следом. Конь рванул сильней, и Наташа, скорчившись, боком покатилась на землю. Увидев Еньку, она вскочила и, прихрамывая, побежала в лесок. Она исчезла в лесу, а Енька кричал и спешил за ней.
Наташа стояла под березой, прижавшись к ней спиной и обхватив ствол руками. Она широкими немигающими глазами смотрела, как Енька приближается. Енька подошел и остановился. Он чувствовал, что у него у самого широко смотрят глаза, веки напрягаются до боли. Он чувствовал, что у него тает дыхание. Он шагнул еще и опять остановился.
Не глядите на меня,
глазки поломаете.
Я Купалова Наталья,
разве вы не знаете, —
сказала Наташа прерывающимся голосом и попыталась улыбнуться.
– Ударь меня, – сказал Енька.
– Ень, я ведь люблю тебя, – сказала Наташа.
– Ударь.
– Я ведь люблю тебя.
– Ударь! – крикнул Енька. – Или я ударю.
Наташа сильно ударила его ладонью по лицу, прижала руку к губам и закусила ее, испугавшись.
– Ну вот, пойдем теперь, – сказал Енька.
Он взял Наташу за руку, и они пошли из лесу. Они пошли в поле, где косили рожь.
Деревня уже давно работала. Не было в поле только Калины. Старуха Епифаньева косила вместе со всеми. Позади нее сидела кошка и следила, как вьется над жнивой бабочка. Старуха Епифаньева внезапно положила косу и пошла к лесу, где лежали обеденные узелки косарей. Кошка побежала следом. Старуха развязала свой узелок и села под березу, прислонившись к ней спиной.
Старуха достала из узелка бутылочку, ототкнула ее и стала вытрясать на ладонь таблетки. Она вытрясла штуки три, посмотрела на них, откинула голову к березе и положила руки на колени. Кошка глянула на старуху и отпрыгнула в сторону.
– Подкрепляешься? – сказала Наташа, подходя и наклоняясь над своей литовкой.
Старуха не ответила.
– Подкрепляешься? – сказал Енька и заглянул старухе в лицо.
Лицо старухи Епифаньевой вытягивалось и мертвело.
– Мама! – закричал Енька.
Мария оглянулась. Зина тоже оглянулась, бросила косу и бегом кинулась к Еньке.
11
– Теперь уж война скоро кончится, – сказал твердо Енька.
– Конечно. Чего уж там осталось, – сказал Олег и посмотрел, откинувшись, на бурый небольшой березовый выворотень.
Из выворотня уже проступало лицо.
– Кто это будет? – спросил Енька.
– Не знаю. Кто-нибудь получится.
Олег снова принялся сапожным Енькиным ножом резать выворотень. А выворотень сам по себе походил на человеческую фигуру с чуть согнутыми ногами, наклоненной вперед спиной, дозорно вытянутой шеей и вскинутой над головою рукой.
– У, язви тя в душу! Волчье мясо! – крикнул Енька на черную комолую корову, которая заворачивала на озимь.
Корова послушалась окрика и вернулась на траву.
Под лезвием ножа человек обозначался быстро и отчетливо, лицо его смотрело вдаль пристальными веками, а рука прикрывала взгляд от ветра.
– Кончится война, вот тогда заживем, – сказал Енька уверенно.
– А чего ты тогда делать будешь? – спросил Олег, поблескивая молочным широким лезвием.
– Я пахать буду.
– Ты и так пашешь.
– Чего я сейчас пашу? – обиженно протянул Енька. – На этих клячах? На коровах еще пахать недоставало. – Он поглядел на стадо и на всякий случай крикнул комолой корове: – У ты, сатана!
– А знаешь, – сказал Олег, снова издали разглядывая выворотень, – в тропических странах дерево хлебное есть. Хлеб растет на нем буханками. Лес бы такой насадить. Да?
Енька поднялся, взял бич и, стреляя бичом в воздухе, обошел стадо. Комолая корова сразу отбежала далеко в сторону и опустила голову, косясь одним глазом.
– Да и лес не то, – сказал Енька, вернувшись. – В лесу темно, зверье всякое. Вот поле засеять. Как ветер по нему пойдет, аж все заполыхает. И конца полю нет. А потом его дождем польет. Поднимется оно. Убирай только.
Енька говорил и смотрел за Иртыш. За Иртышом собиралась туча. Она покачивалась, вздувалась и готовилась двинуться.
– Только бы не на этих клячах убирать, – вздохнул Енька. – А комбайн стоит. Отца нет. Митьки нет. Мать велит зимой на курсы идти, технику эту всю изучать.
– Пойдешь?
– Пойду. Что делать? Неохота, правда: голову сломаешь на этих шестеренках. Да надо. Никого во всем селе-то мужиков не осталось. Мать говорит, с той весны на коровах пахать придется.
– Война уж к тому времени кончится, – сказал Олег.
– Война-то кончится, это ясно. Отец вернется. Трактор в МТС возьмет, и пошла деревня пахать да убирать.
Олег поставил на землю выворотень, который уже превратился теперь в человека, смотрящего из-под руки вдаль с удивлением и заботой, чуть подогнувшего колени, чтобы удержаться на встречном ветру. На ногах надеты валенки с калошами. Волосы человека развевались, и развевался за спиной пиджак, тоже вздутый ветром. Человек был не стар и не молод, он казался вырезанным из кости, хотя пахло от него свежей прохладной древесиной березы.
– Этакий Ветерко, – сказал Енька.
– Ага, Ветерко, – согласился Олег.
– А тебе бы художником стать, – сказал Енька.
– Я бы стал, – кивнул Олег, разглядывая Ветерка и немного удивляясь тому, что получилось. – Я бы с охотой… скульптором стал.
– Кончится война, ты и становись художником. Потом нарисуешь меня, как я хлеб собирать в поле буду.
– Ладно. Я уже и так думаю: кончу школу и – в училище художественное. Или прямо на будущий год пойду. Из восьмого класса без экзаменов примут. – А знаешь, как художники живут? – встрепенулся Олег. – Рисуют, и все. И денег у них много. Веселые все. Хохочут. И все их уважают.
– Чего им не хохотать, – сказал Енька. – Ковры вон, знаешь, на базаре – триста рублей. Две буханки хлеба зараз купить можно. Один художник в селе, из эвакуированных, он хоть с атласа географического, хоть с открытки срисует.
– Знаешь, у отца там книжка есть, – сказал Олег. – Я читал недавно. В Венеции он давно, правда, жил…
– Я слышал про Венецию, – сказал Енька. – На островах стоит она. В Италии, кажется.
– Ну да, – сказал Олег, поглядывая, как на них, низко склонив голову, идет комолая корова. – Сто шестьдесят каналов там. И по улицам на лодках ездят. Лодки все такие сверху бархатные.
– Как же они, бархатные, не тонут? – удивился Енька с недоверием.
– Обшиты они бархатом. И каждую ночь там огни жгут, пляшут и в масках бегают. Хохочут все.
– Сейчас не больно похохочут, – сказал Енька, – сейчас немцы там.
Корова опять остановилась рядом и стала смотреть на Ветерку.
– Ну? – спросил Енька.
Корова помотала безрогой головой.
– Молоко у нее хорошее, – сказал Енька. – У комолых коров молоко всегда хорошее, только мало. А ну, пошла!
– Ну вот, – продолжал Олег. – Там во дворце Дож жил. Перед его дворцом лев стоял каменный. Туда обычно доносы, в пасть ко льву, клали. Тогда только и доносили друг на друга. И два художника заспорили: они оба любили одну девушку. Джулия ее, кажется, звали. И ночью решили на шпагах драться. И девушка ночью побежала и бросила записку в пасть льву. А всех, на кого донос, тогда обычно пытали. Художников этих ночью же вызывают на суд. Ну, думают, раз сюда попали – пытать будут. Стоят. Их спрашивает Дож: «Нам стало известно, что вы намерены этой ночью убить друг друга. Правда это?» – «Правда», – говорят, а сами трясутся. «Ваш талант принадлежит Венецианской республике, – говорит Дож, – и вы обвиняетесь оба в том, что посягнули на ее собственность». И присудили им сражаться не на шпагах, а кто лучше картину нарисует. Тот, кого эта Джулия любила, и победил. Тициано звали его.
– Забавно, – усмехнулся Енька. – Я бы тоже, пожалуй, стал художником. – Он посмотрел в сторону деревни и еще сказал, укладываясь поудобнее: – Вон Зина идет.
Зина шла торопливо. Потом побежала. Она подбежала, посмотрела на Олега удивленными глазами и сказала:
– Я письмо тебе принесла.
– Какое письмо?
– Не знаю какое. От отца.
В стороне прокатился гром. Прокатился резко, как на бричке.
Олег разорвал конверт. Зина смотрела, как у него трясутся руки, а Олег старался успокоить их.
– Отец ранен, – сказал Олег и закрыл глаза.
– Как ранен? – сказал Енька и приподнялся на локте.
– На фронте был, и ранили его.
– Какая радость! – сказала Зина и села рядом с Олегом.
– Вот здорово! – сказал Енька и встал. – Это здорово! Олег, ты представляешь!
– Он пишет, что целый год искал нас и никак не мог узнать, где мы: то воевал, то в госпитале. А теперь новое назначение он получает и часть новую ему дадут. Был в Куйбышеве, туда все переведено, там и напал на след. Говорит, что скоро всем документы выхлопочет.
– Олег, это так здорово! – сказала Зина.
– Я пойду письмо писать. – Олег встал.
– Подожди ты, – сказал Енька.
– Письмо напиши и телеграмму дай, – сказала Зина.
– Денег у меня нет на телеграмму, – задумался Олег.
Енька полез в карман и выгреб горсть монет. Пересчитал.
– Вот, – сказал он, – рубль пятьдесят. В чику вчера выиграл.
– Да у меня два рубля есть, – сказала Зина. – Мамка на хлеб давала.
Олег тоже порылся в карманах и вынул два пятака.
– Вот и еще десять копеек, – сказала Зина.
– А сколько нужно на телеграмму? – спросил Олег.
Никто не знал.
– Я пойду. – Олег спрятал деньги в карман и побежал в деревню.
– И я тоже, – сказала Зина. – А это что? – Она посмотрела на Ветерку.
– Это Олег вырезал, пока пасли, – сказал Енька.
– Забыл от радости-то, – улыбнулась Зина.
Она взяла Ветерку и пошла за Олегом, неся Ветерку на локте и покачивая, вроде баюкая.
Туча перевалила через Иртыш, но шла стороной. Верхним краем она закрыла солнце и сияла, плавилась этим верхним краем. Гром прокатывался в туче из одного конца в другой. И после каждого удара дальний отзвук еще долго отдавался над полями. Под тучей лежали луга. Трава на них, давно уже скошенная, взрастала вновь. Дождь ровной сверкающей стеной одевал травы вдоль Ключа. За Ключом тоже бродило стадо. Дождь приближался и прятал стадо в густой пропаренный дым.
Енька лег на землю. Ему стало тоскливо. Он хотел окликнуть и позвать Зину, но Зина уже скрылась в деревне. Енька попытался думать о художниках, о хлебных деревьях – не думалось. Тогда Енька стал смотреть на тучу, которая весело шла над полями. Из-под тучи сильно пахло мокрыми лугами, сладким воздухом грозы и чистой свежестью дождя. Туча клубилась и сверкала всем своим верхним краем. И Еньке почудилось, что там, на верхнем крае тучи, сидит Гера. Сидит в своем синем пальто с блестящими пуговицами. Гера держит в руках бескозырку, как чашку, а рядом прыгает синица, что-то склевывает и весело болтает.
12
Мария вошла в избу и обессиленно села на лавку.
– Ну и натопила, – сказала она, отдуваясь, – весь дух захватывает. Угорела я, что ли?
– Угарно там разве? – спросил Олег.
– Да не угарно вроде. А дышать до сих пор нечем. Только голову вымыла, и начало́. Так самую душу и давит.
Мария после бани не разрумянилась, как обычно, а побледнела. И лицо даже тронулось какой-то синевой, точно при тяжелой болезни.
– Ты, Олег, не жди Еньку, – сказала она, отдуваясь. – Опять, поди, с Натальей в кино учухали. Иди да мойся, чего ждать… Может, до утра не придет…
Мария прошла за печку, открыла сундук и вынесла Олегу чистое белье.
И вдруг Мария вскинулась, будто ее ударили под сердце. Она прижала белье к лицу и завсхлипывала. Олег подвел ее к кровати. Мария села, потом легла, продолжая всхлипывать.
– Вы что? Что с вами, тетя Маруся? – испугался Олег.
– Не знаю. Плачется, и все, – пожала плечами Мария. – Ты иди. Мне ничего не будет. Это так. Иди, Олег, мойся.
А несколько минут назад Петр был выведен из сарая. Вел Петра огромный русский солдат с повязкой на рукаве. Вдоль повязки стояла надпись «РОА». Только что, после допроса, немец взглянул на солдата и махнул рукой. Он показал рукой на дверь и раздавил сигарету об стол.
И солдат вывел Петра из хаты.
…Огородом шел Олег в темноте к бане. Картошки уже давно отцвели, и пахло от них теперь табаком. В холодном воздухе шелестела над баней береза. Она походила на человека. Человек склонился над баней, уперся руками в крышу и силился подняться. «Зажечь, что ли, фонарь, – подумал Олег, – вдруг зайду, а на полке сидит…» Олег усмехнулся. Он живо представил себе, как отворяет дверь и видит в темной бане на полке сидящую фигуру. Он шарит за спиной руками, ищет дверь, чтобы уйти, а двери нет. «А вот возьму и специально не буду зажигать, – решил Олег, – маленький, что ли. Или Бедняга какой».
В бане от потолка до пола ходила теплая пахучая волна. Олег поднял руки, слушая, как сверху по всему телу опускается жар, а щеки тяжелеют, тяжелеют руки, как от работы. Потом Олег забрался на полок и лег там. Он лежал на животе, положив лицо на руки, различая, как в углу потрескивает каменка, а над крышей шелестит ветер. И стало ему казаться, что на много лесов и морей вокруг нет ни городов, ни деревень, а только теплая вода ходит под черным небом. И над баней кто-то стоит, он с тихим шелестом набрасывает на себя после купанья одежды.
Олег засветил фонарь, набрал воды и намылил голову. И услышал шаги. Дверь отворилась, по ногам пошел холод. Олег со скрипом смыл с головы пену и открыл глаза. На пороге сидела Калина.
– Бог помочь, – сказала она.
– Бог помочь, – сказал Олег и сел к ней спиной.
– Не устрашился? – спросила Калина. – Чего мне страшиться…
– А девки по ночам на полках посиживают.
– Девки на полках, а бабы на порогах.
– А я к тебе пришла. Мария говорит: в бане он, пойди подсоби.
– Рад видеть.
– Видеть рад, а сидишь спиной, – засмеялась Калина, и по тому, как она засмеялась, Олег понял, что Калина пьяна. – Голову, что ли, подсобить помыть?
– Я уже вымыл.
– Ну спину.
– И спину вымыл.
– А чего не вымыл?
– Все вымыл.
– Торопливый ты. Мал еще, видно.
Олег намылил руки.
– А я в селе была, – сказала Калина.
Олег намылил плечи.
– Дело к тебе есть, – сказала Калина.
– Говори. А то холодно. Баню выстудишь. Еньке еще мыться.
– А я ведь могу войти да прикрыть.
– А чего тебе здесь делать?
– Ладно. Шутки шутками. Телеграмму я тебе принесла.
– Спасибо, – сказал Олег. – Положи там, в предбаннике.
– А ты сам возьми, – зевнула Калина.
– Сам и возьму.
– Нет, сам возьми.
– А кто же, кроме меня, ее возьмет?
– Дурной ты, – сказала Калина. – Ладно, положу там, в предбаннике. Ну, пока. Не поминай лихом.
Калина прикрыла дверь, и слышно было, как она пошла огородом от бани. Она шла и напевала какую-то песенку, кажется «Катюшу».
Олег выскочил в предбанник, схватил телеграмму и при красном свете фонаря прочитал, прислонившись к росистой кадке с холодной водой:
«Немедленно выезжай Куйбышев деньги перевел пойдешь суворовское училище выезд телеграфируй тчк
Отец».
Олег не мог уснуть всю ночь. Он слышал, как вернулся Енька, как он сходил в баню и прошел спать в избу. Олег лежал на сеновале и думал. Он очнулся от размышлений, когда на краю деревни заухал громкий стук. Уже светало. Кто-то громко бил в бревна. Видно, ему надоело стучать в дверь, и теперь он ломился сквозь стену. Олег выглянул сквозь прореху в крыше, проточенную дождем и временем.
Возле своего дома ходила с топором Калина и досками заколачивала окна. Заколотила. Вошла в избу и вышла с небольшим цветастым сундучком. Она поставила сундучок на крыльцо и наискось заколотила дверь доской, а потом еще навесила замок. Взяла сундучок и вышла на улицу.
Она пошла из деревни не оглядываясь. Сундучок был тяжел. Калина вскоре взвалила его на плечо. Она все-таки потом оглянулась из-под сундучка на деревню, покачала головой и зашагала жесткими нелегкими шагами.
13
Олег вышел из почты и остановился на крыльце, потому что уходить из села ему не хотелось. Полдень голубел в окнах сельских домов, посвистывал в проводах. Через село тянулись машины, они увозили пшеницу, прикрытую от ветра и птиц брезентом. На машинах горели красные лозунги: «Все для фронта!» Машины тянулись через центр мимо Дома пионеров, и каждый высовывался из кабины, поглядывал на второй этаж этого деревянного двухэтажного здания, похожего на голубятню. Там во втором этаже кто-то играл на пианино.
На черном поцарапанном пианино, сидя в большой пустой комнате с раскрытыми окнами, играла Александра Владимировна. Она легко и предупредительно касалась клавишей, словно собирала с них росу.
– Здравствуйте, Александра Владимировна, – сказал Олег.
– А, это вы, молодой человек, посетили наш старинный терем, – со смехом обернулась Александра Владимировна, не переставая играть.
Она была уже совсем не та, что весной. Она загорела, ноги в узких красных тапочках весело перебирали то одну, то другую педаль. Она сидела в белом платье с открытыми руками и казалась необыкновенно молодой.
За окнами пролетели две ласточки.
– Они смотрят, что я делаю, – кивнула Александра Владимировна в сторону ласточек. – Они уже который раз заглядывают в окна, и я вам хочу пожаловаться, что они мне мешают играть.
– Я уезжаю, – сказал Олег.
– Это прелестно, – сказала Александра Владимировна, не оставляя пианино в покое. – Это прелестно, молодой человек. Я вам завидую. И как далеко, разрешите вас спросить, вы едете? В Австралию? На остров Кергелен? Или в гости к очаровательной принцессе Кашмира?
– Я еду к отцу.
– Я бы тоже поехала к отцу, но у меня его нет. Даже все мои друзья заняты делом. Представьте себе, они до сих пор воюют.
– Я хочу взять у вас те книжки, – сказал Олег.
– Я вам их не отдам, пока вы не дадите мне слово, что вашему отцу от меня передадите привет. Представьте себе, я его вспомнила.
Александра Владимировна смешала клавиши и стала поодиночке выстукивать их издали, желая выяснить, что внутри каждой заключено.
– Тогда мне было лет почти столько же, сколько вам теперь. И это было в Киеве. Мы с мужем пришли на какой-то прием в какой-то военный клуб. Вы знаете, сколько там было военных? У меня даже зарябило в глазах. Ведь я была совсем молода. И после каких-то длинных разговоров начались танцы. – Александра Владимировна размеренно заиграла вальс. – Сверху сияли люстры, а вокруг – ордена. Вы знаете, Олег, это были какие-то чудовищные богатыри. В каждого из них можно было сразу влюбиться. А ваш отец подошел и пригласил меня на вальс. Вы знаете, Олег, вы можете гордиться своим отцом. Он танцевал, как шляхтич. И, если бы я не была замужней женщиной, я бы его обязательно поцеловала. Кстати, а куда вы едете к нему?
Александра Владимировна обернулась и перестала играть.
Олег сказал.
– Суворовское училище! – Александра Владимировна важно подняла брови. – Вам, милый мой, везет. Их только в этом году учредили. Вы знаете, кем вы будете? Вы будете блестящим офицером. И вам позавидует даже ваш отец. А ну-ка встаньте. Руки по швам!
Олег улыбнулся и встал – руки по швам.
– Не так уж плохо, – сказала Александра Владимировна серьезно. – Только не надо сутулиться. И запомните мой совет: когда вы станете офицером, лучше не женитесь. Вам будет жить гораздо легче.
– Александра Владимировна, дайте мне книги, а то я забуду!
– Одну минуточку. – Александра Владимировна легко поднялась и прошла к высокому шкафу с двумя створками. Она подала книги.
– Александра Владимировна, – Олег немного смутился, – а где теперь ваш муж? Где он воюет?
– Он, милый Олег, свое уже отвоевал. Он был очень смелый и решительный человек. Он погиб в Испании.
Александра Владимировна села за пианино. Она некоторое время о чем-то вспоминала, потом обернулась.
– Прежде, чем вы уйдете, – предупредила она, – я вам подарю импровизацию «Воспоминание о весне». Только с условием: когда придет весна, вы должны вспомнить об этой музыке.
Она заиграла беспечно и стремительно, все ниже и ниже наклоняя голову, и заговорила, как бы обращаясь в большой зал:
– Вот видите, Олег, и самое страшное позади. Теперь легко на сердце, и будет становиться все легче. Скоро все будут счастливы. Я тоже скоро поеду на Украину, где цветут вишни и вечерами избы вишневые от низкого солнца. Полмесяца назад освободили Харьков. Я бывала в Харькове. Это огромный, чудесный и немного страшный город. Теперь он, верно, весь разбит. Но скоро он опять станет большим и прекрасным. А потом возьмут Киев, Одессу, Львов… Какие это города! А потом мы где-нибудь случайно встретимся на улице одного из этих городов, и я уже буду старушка. Но вы меня узнаете и скажете: «А помните, как вы в Сибири в голубятне играли про весну?» Я засмеюсь, и окажется, что это не Львов, а Ленинград. Тем лучше.
Она замолчала, но продолжала играть.
За окном опять пронеслись ласточки.
Игра далеко разносилась по селу. На той стороне площади люди шли и оглядывались.
И тут вдали площади Олег увидел небольшую толпу людей, которые шли, на музыку не оглядываясь, а куда-то торопились. Одеты они были в длинные фуфайки, головы женщин обмотаны платками. Люди тащили на себе узлы. И даже дети что-то несли в руках. Люди настороженно посматривали по сторонам. «Цыгане», – подумал Олег, и сердце его стало биться медленно, как захлестнутое.
– Мне надо идти, – сказал Олег Александре Владимировне.
Александра Владимировна оборвала игру и встала.
– Ну ладно, Олег. Спасибо вам. И мне спасибо. Друг друга мы порадовали, а теперь за дела. В самом деле, передавайте отцу привет и скажите, что я его вспомнила.
– Наверное, и вам уж скоро будет можно ехать в Ленинград, – сказал Олег.
– Я думаю, что скоро. Я думаю, что это время не за горами. Будьте счастливы и будьте умницей. А отцу передайте привет: мужчине всегда приятно, если его вспомнила женщина.
Олег попрощался и пошел улицей, куда свернули цыгане. Так он вышел за село и увидел их вдалеке, на проселке. Проселок вел к роще. Облака пошли ниже и сплошнее. А роща раскачивалась там за полем от ветра. Люди шагали среди этого пустынного ветра уже неторопливо. Вскоре цыгане скрылись в роще. А роща продолжала раскачиваться, делая вид, что тоже собирается в дорогу.
Олег в рощу вошел и остановился. По роще здесь и там сердито стояли зеленые мухоморы. Было похоже, что они вылиты из процвелой воды, а на шляпы их сел мелкий снег. Мухоморы не скрывали, что ждут первых морозов, чтобы обледенеть и засверкать.
Олег свернул с дороги, пошел кустами, сквозь мелкий березняк. Неожиданно он вышел на поляну и увидел цыган. Они сидели на земле, сложив узлы в кучу. Они смотрели в землю, о чем-то думали. А двое пожилых мужчин разводили костер. Один из них подсовывал под маленькую кучку валежника спичку, и огонек метался там, хотел вырваться и убежать.
Олег замер. Эти двое почувствовали чужого, подняли головы. Нет, это были не те цыгане. Это были другие.
И, ни слова не говоря, Олег повернулся и зашагал из рощи в деревню.
Он вошел в избу и увидел, что Енька и Мария сидят за столом. Он увидел на столе вареную картошку и тушеную капусту в чашках. А из чашек идет пар. Он увидел кусок хлеба. И еще на столе – бутылка водки.








