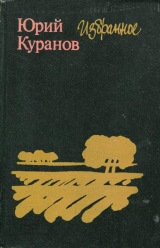
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юрий Куранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 44 страниц)
Гришка высоко занес кол и ударил. Земля чекнула и глубоко впустила в себя кол. Гришка еще раза три ударил в дыру.
– Лей, – сказал он.
Олег плеснул, Гришка глубоко всадил кол, покачал его, еще раз всадил, уже окончательно, и полез в карман за табаком. Он свернул цигарку и стал прикуривать.
На дороге появился дядя Саша. Его белая рубашка поплескивала на ветру и туго обтягивала локти закатанными рукавами. На ходу дядя Саша достал из кармана пачку папирос, щелчком выбил из нее папироску, поймал ее в воздухе и заложил в рот.
– Трудимся? – спросил он.
– Трудимся, – сказал Гришка. – Помогай, Санька самогончику нам отвалит.
– Не пожалеет? – улыбнулся дядя Саша и стал прикуривать от Гришкиной цигарки.
– Сань, не пожалеешь самогона хорошему человеку? – крикнул Гришка.
Санька показалась на крыльце, поздоровалась с дядей Сашей, посмотрела на него, чуть наклонив голову, как бы из-под руки, и проговорила:
– Хорош будет, не пожалею.
Гришка хлопнул дядю Сашу по плечу, сказал одобрительно:
– За плугом не хваливали, за обедом не хуливали.
– Ешь до поту, работай до изморози, – засмеялась румяная Санька и, опять наклонив голову, зарумянилась пуще, ушла в избу.
Дядя Саша поднял с земли кол, отмерил от Гришки четыре широких шага, расставил ноги, уперся ими покрепче в землю и напряг руки. На руках надулись длинные узловатые тяжи, а дядя Саша ударил колом в лужайку, шумно выдохнув. Вышла Санька с пустым ведром. Пошла к колодцу, на ходу улыбчиво сказала:
– Порабатывай, порабатывай, брагой-то, поди, не обидим.
Олег подошел к дяде Саше и подал ему поясок.
– Возьми, – сказал он, – дядя Саша, передать Калина просила.
Дядя Саша взял поясок, спрятал его в карман и нахмурился.
Олег подобрал свой самолет и пошел.
– Олег, давай заводи его! – крикнула с крыши Наташа. – Него там?
Олег завел пропеллер, поднял самолет над головой и пустил его в небо. Самолет поднялся, выправил корпус и полетел над деревней в сторону мельницы. Он шел ровно, чуть снижаясь и слегка покачивая крыльями. Наташа стояла на крыше и следила за ним, придерживаясь рукой за трубу.
– Ой, в озеро сел! – крикнула она и прямо на животе съехала с крыши.
Наташа спрыгнула на землю, выскочила за ворота и кинулась к озеру. Она подбежала к воде, сбросила платье, широкими шагами вбежала в озеро, легла на него грудью и поплыла. Енька положил хомут возле ворот и тоже пошел на берег.
Самолет лежал среди озера, как белый маленький остров. Волны колыхали его и гнали к тому берегу. Наташа плыла среди синей воды за самолетом, высоко над головой вскидывала руки и оглядывалась. Она подхватила самолет рукой, подняла его над озером и поплыла назад. Она плыла, лежа на боку и шумно работая ногами. Ноги взбивали глубокую сверкающую пену, и за Наташей тянулся искрящийся снежный след. Наташа подплыла к берегу, встала по пояс в воде и сказала:
– А теперь отвернитесь, я оденусь.
Олег и Енька отвернулись и тихонько пошли прочь.
– Куда же вы? – крикнула Наташа. – Вы только не смотрите, а я оденусь.
– Одевайся, одевайся, – сказал Енька.
Наташа одевалась и громко говорила:
– Ужас какой, вот это самолет! Летает, и все. Олег, ты скоро летчиком будешь. Олег, когда ты будешь летчиком, прокатишь меня на самолете?
– А если немцы собьют? – сказал, не оборачиваясь, Енька.
– Тогда немцев уже не будет. Вот и все, я оделась.
Наташа стояла, широко расставив ноги, по ногам еще стекала вода. Наташа держала перед собой самолет и ликующими глазами смотрела на него.
– Олег, отдай мне самолет, – говорила Наташа.
– Зачем он тебе? – говорил Олег.
– А это будет мне от тебя подарок. Я буду на нем летать и вспоминать тебя, – говорила Наташа.
– Далеко ты на нем улетишь, – говорил Енька.
– Не твое дело. Улечу, – говорила Наташа. – Улечу, и не догонишь, Енька, ты лучше скажи ему, чтобы он отдал мне самолет.
– Вот я его чуть подправлю, – говорил Олег, – элероны другие сделаю и отдам. А себе другой соберу. Ну давай, я отнесу его.
– Не отдам, – сказала Наташа.
– Отдай.
Наташа отбежала в сторону, подняла самолет над головой и начала заводить пропеллер.
– Нельзя, – сказал Олег. – Он не полетит. Он ведь мокрый.
– Какой же он самолет, если не полетит? – нахмурилась Наташа. – Настоящий самолет и мокрый летает.
Наташа отбежала еще, остановилась, расставив ноги, и толкнула самолет в небо.
Планер слегка взмыл, прошел над берегом, задрал нос и хвостовым оперением звонко врезался в землю.
Все подбежали к самолету. Он лежал в траве, и по всем крыльям папиросная мокрая бумага на нем лопнула. Олег поднял планер, подержал его в руке и протянул Наташе.
– На, бери, – сказал он.
– Зачем он мне такой? – сказала Наташа. – А так-то давай, все равно интересно.
Она пошла с планером в деревню, обдирая с крыльев мокрую рваную бумагу.
– Скелетик этакий, – сказала она, посмотрев на него без внимания.
– А я все-таки хомут сегодня зашил, – сказал Енька. – Бедняга бился, бился – не мог. А там, оказывается, все просто. Только посидеть надо.
– Да ты полдня и сидел, – сказал Олег. – Как сапожник настоящий. Покажи, как сделал.
– Пойдем, – сказал Енька, – покажу.
– Вы идите смотрите, а я домой, – сказала Наташа. – Чего мне ваш хомут. Все-таки красивый самолет. Молодчик ты, Олег. Делай другой – пускать будем.
Над улицей промчались ласточки, поглядывая на самолет, который несла домой Наташа.
7
Мария подняла стакан над головой, встала с травы, стакан засверкал под солнцем, будто в него упала молния.
– Пьем, бабы, – сказала она. – И мужики, тоже пьем.
Пока Мария держала стакан над головой, он поматовел, покрылся по́том. Мария стакан опустила и, не глядя в него, а глядя в небо, одним духом выпила.
– Ить и пьет баба, смотреть и то аж кости ломит, – сказал Бедняга и тоже выпил.
– Чертов старик, – сказала Калина, – пьет как лошадь, куда только лезет…
– Ребенки, – сказала Мария, закусивши. – Нуте-ка в поле, цветов таскать да венков сплетать, по реке плыть им потом.
– Тебе уж боле нечего ворожить, – сказал Бедняга. – Вон Калине – другое дело. Ей венков десять по реке пускать надо, по Ключу.
– Молчал бы, – сказала Мария.
– Я тебя, старый воз, языка лишу, – сказала Калина.
– Сам лишусь, толь допусти, – сказал Бедняга и засмеялся.
– Языка ли, черный черт, лишишься, – сказала Калина. – Язык тебе ничем не перемелешь, как жилу.
– А ты бы поперемалывала, – сказал Бедняга.
– Пей лучше, дурень, – сказал дед, – мужичье дело нынче – пить.
– Ноне мужичье дело другое, – сказал Бедняга. – Вон Сашка-то, поди, знает, какое ныне мужичье дело.
Санька лежала на траве, глядя в небо и раскинув руки. Вдруг высоким, мгновенно надсадившимся голосом она дико запела:
Как на троицу ходила ли я во поле,
как на троицу я, ласкова, купалася,
как цветами теми синими медовыми,
как цветочками я, мила, умывалася.
Мария легла на живот и, глядя в землю, заподпевала. Не то подпевала, не то стонала, глядя в землю. Санька продолжала, закрыв глаза:
Как я речкою, вдоль реченьки, выхаживала,
как венки свои цветами разукрашивала,
как я речку, быстру реченьку, выспрашивала,
как я речку возле омута вышептывала…
Калина подтянулась по траве к Саньке, положила голову ей на ноги и стала глядеть в небо и шевелить губами.
Как я много ли того у ней выспрашивала,
как узнаю – не узнаю, не загадывала,
как глядела в темну речку, прихорашивалась,
как венками с темной реченькой обменивалась.
Откуда-то прилетел воробей, сел Калине на живот, проскакал, вспрыгнул, схватил с травы крошку хлеба и улетел прочь.
– Воробьина полюбовница, – сказал Бедняга и налил себе в стакан из длинной бутылки.
– Молчал бы ты, – сказала Мария.
– Ты, Сашка, хучь бы на фронт пошел, – сказал Бедняга. – Мужику-то здоровому теперь на деревне ходу нет.
– Давай закурим, – сказал дядя Саша, – сперва мои, потом твои.
– Давай, – согласился Бедняга.
– Так-то оно лучше будет, хоть рот заткнет, – сказала Калина.
– Мне, матушка, рот заткнуть что печь протопить, – ощерился Бедняга, прикуривая. – Вон видишь – мужик-то похаживает, ты ему рот заткни.
Полем за деревней медленно ехал под солнцем всадник.
– Язык же у тебя, Бедняга, паскудный, – сказала Мария. – Как только за тебя, воробья, Анна хоть пошла тогда.
– Вот мы со Володимиром Зосимовичем выпьем за мужицкую честь, и враз расскажу, – сказал Бедняга и налил два стакана. Он поглядел на дядю Сашу. – Тебе, что ли, хлестнуть в стакан. Да здоров ты больно, жир с вина прохватит, на войну не пустят.
Дед взял у Бедняги бутыль и налил дяде Саше.
– За троицу выпьем, – сказал Бедняга и поднял свой стакан. – Триединое богатство животу. Трижды выпить придется, да так, чтобы поперек горла не легло, а то до другой троицы не доживем, голодом задавит.
– Ноне всех голодом задавит, – сказал Гришка Останин. – Ноне хоть жни, хоть паши – хлеба не видать. Все на войну пойдет.
– Ну уж этот год еще проживется, – сказала бабушка. – Не такое бывало. До конца войны доживем.
– Ты, Бедняга, про жену расскажи. Самогон зря нечего дуть, – сказала Калина.
– Это мне зараз, – пожевывая губы, сказал Бедняга. – Был я тогда парень. И годов было немного, и заядлый был я такой. Да и злой.
– Зла из тебя и нынче не выхлебаешь, – сказала Мария.
– Суббота стояла, – продолжал Бедняга, – вся деревня перемылась по баням. У соседа я сидел, водку пить собирались. Затемнело уже. Заспорили мы, парни: не сходить, мол, никому в баню и веника не принесть. Ставь, говорю парням, четверть, а я веник одним духом принесу. Иду в баню. Темно. А мне и страху нет. Не думаю ни о чем – ни сном, ни духом.
– За водку-то ты в печку полезешь на уголья, – засмеялась Мария.
– Ты слушай. Открываю дверь. Захожу. Ничего не видно. Пошарил за кадкой. Нет веника. Я к полку. Кто-то, чую, на полке есть. Пригляделся – девка голая сидит. Ноги поджала под коленки, такими светлыми глазами на меня выставилась. Фу-ты, язви тя в душу, думаю, тут люди моются, а я лезу. Спиной, спиной – и к двери. Шарю позади себя руками – нет двери. Стена одна, бревнушки. А девка сидит и так это на меня поглядывает.
– Губа-то у тебя не дура была, – ухмыльнулся дед. – Знал, в какую баню пойти.
– Куда там, – тихим голосом продолжал Бедняга и свирепо выкатил глаза. – Шарю – нет двери.
– А ты бы не искал ее, дверь, от девки, – сказала Калина.
– Парень ведь я был. Ищу. А девка мне так ласково и говорит: «Не ищи ты, мил человек, не найдешь двери, да и веник тут». Гляжу, а она, милая, на венике сидит. «Возьмешь, – говорит, – веник и дверь найдешь, коли дашь мне твердое слово в жены взять». Молчу я, стою, а сам дверь нашариваю.
Калина усмехнулась и посмотрела на дядю Сашу. Дядя Саша поддел со сковороды ложку выжарков и стал жевать их, словно жвачку.
– Мы нарвали цветов! Стог целый! – закричала издали Наташа.
– Нет все равно двери, – говорил Бедняга, уже торопясь и как-то оглядываясь по сторонам. – Ну, думаю, ветренна тя подхвати, напоролся. Почуял уж, в каку беду попал.
– Невелика беда, – улыбнулась Мария.
– У нас такое тоже бывало в деревне, – сказала бабушка.
– Ну да, – торопился Бедняга. – Стою. Сам не свой. «Не выйдешь, парень, – говорит она. – Дай слово или век со мной будешь в бане сидеть». Постоял я, постоял и пообещался. Протягивает она мне веник. «Иди, – говорит, – да помни. Несчастного человека словом не покинь». Взял я веник, дверь сама собой нашлась, и прямо по огородам домой. Пришел сам не свой. Ни сна, ни еды – на дух не надо. Не спал целую неделю. Исхудал весь, как скотина. Мать спрашивает: «Кто тебе по сердцу, сынок, прошелся?» Молчу, голова, мол, болит. На другую субботу под вечер, гляжу, под окном стоит она, эта девка. Одну голову видно, в избу смотрит. Глаза такие невеселые. «Помнишь ли, – спрашивает, – свое обещание? Так вот, принеси мне нынче в баню одежду всю да жди домой». Мать-то ее увидела. Поняла все. «В баню, – говорит, – ходил?» – «Да», – отвечаю. «Неси одежду, делать нечего». Оттащил я туда все, что надобно.
– Выпить бы, что ли, с горя, – сказал дед, берясь за бутыль. – Век такого горя не видал, аж сердце заболело.
– Было ведь и у нас, отец, такое. Не помнишь разве, за Лопуховкой девушки в лесной избушке сидели, пряли да все песни распевали тихие, – сказала бабушка.
– Было, да не про меня, – сказал дед, наливая в стакан.
– Ты слушай, – сказал Бедняга нетерпеливо. – Потом напьешься. Аж теперь в животе все сохнет, как вспомню. Приходит она к ночи одетая, за стол садится. Мать ужин ставит. Я не ем, есть не могу. И она не ест. Рано ей еще было…
Где-то высоко в небе ударил гром, словно кто выстрелил из пушки и охнул после выстрела. Все посмотрели туда, в сторону выстрела. Большое облако, яростно сияя верхним краем, оседало и мглилось. В нем слышался гул, там раскатывали тяжелый сруб.
– Троице без дождя не быть, – сказала Саня, глядя на облако из-под руки.
– За Иртыш свалит, – сказал Бедняга. – Ты слушай, коли слушаешь.
– Мы венки плетем! – крикнула издали Зина.
– Плевать на вас, – сказал Бедняга и продолжал: – Спать легла со мной, в одну постель. Лежу я, милые, отодвинулся, глаза ни закрыть, ни открыть не могу. Страшно. Смерть, думаю, моя пришла. А она такая смирная лежит. «Не бойся, – говорит, – меня, мил человек, несчастная я всю жизнь жила. Только счастье от тебя и видеть мне».
– Нашла где счастья поискать, – засмеялась Калина.
– Типун тебе на язык, прохвостина, – огрызнулся Бедняга. – Ну да. «А утром, – говорит, – пойдем к моим родителям». Лесами пешком и отправились мы туда, в Крайчиково. Идет она, то к цветку наклонится, то с травинкой посударит. И все улыбается. Вот, думаю, сатана какая. Приходим к дому в Крайчикове. Ишо на улице слышно, как ребенок в доме кричит, весь слезами заливается. Входим. «Здравствуйте», – говорит Анна. «Здравствуйте, – отвечают ей пожилые люди. – Кто вы? Куда идете? Поди, израсходовались в дороге, отобедайте». – «Обедать мы, – говорит Анна, – не будем, а что это за ребенок в люльке у вас плачет?» – «Да вот, – отвечают ей, – уж семнадцать годов плачет-кричит. Есть не ест и в рост не растет». Подходит Анна к люльке и полено оттудова вытаскивает. Тут весь плач и кончился.
– Праздниками развлекаетесь, добрые товарищи? Святую Троицу потчуете? – раздался голос.
На коне сидел тот самый всадник в милицейской одежде, что ехал полем под тучей. Он пощелкивал прутиком по сверкающему голенищу сапога.
– Вроде как воскресенье отмечаем, товарищ начальник гражданин Па́риков, – сказал Бедняга и встал.
– К столу присаживайтесь, на траву на нашу, – сказала Мария.
– Да я уж так. На коне прогуляться вдоль Ключа решил. Спасибо, – сказал всадник. – Наверное, самогончиком балуете?
– Чем бог послал, – сказала Мария.
– Поди, Калина здесь у вас всем заворачивает, – усмехнулся всадник.
– Она, товарищ Париков гражданин начальник, все одним духом завернет. По большей части водочку, – сказал Бедняга.
– Ладно, ладно, я ничего, – сказал всадник. – Я ведь просто на коне вдоль Ключа прогуляться решил.
Под тучей отдаленно заворчало, и пахнуло ветром.
– Ну гуляйте да веселитесь, а то сенокос поджимает. Не до пьянки будет, – улыбнулся всадник.
Он тронул коня и медленно поехал под тучу в сторону Ключа, который бежал сквозь все поле в Иртыш.
– Ишь, начальничек, – сказал Бедняга, когда всадник отъехал. – Нашелся еще какой. Ты бы на фронте попрогуливался, я бы на тебя посмотрел.
– Не берут его, – сказала Калина. – Того-то, второго, военкома, взяли. А его не берут.
– Это с которым вместе по шоссе поскакивали? – спросила Мария.
– Ну да.
– Сам тот на фронт ушел, – сказала Санька. – Стыдно, мол, говорит, в тылу сидеть.
– А этого не берут. Здесь, говорят, нужней он, – сказала Калина.
– Нужный он в нужник, – прищурился Бедняга. – Килатый он. Ты-то, поди, знаешь? А килатых на фронт не пущают. Вдруг кишка лопнет, тонка ведь она.
Калина молча посмотрела на Беднягу.
– Мы на Ключ пошли венки пускать! – крикнула Наташа.
– Беги, беги, поугадывай, – сказал Бедняга, – пока мужики-то не перевелись.
– Так ты на той девушке и женился? – спросила бабушка.
– И женился, и жил почти всю жисть. Лучше жисти у меня никогда, поди-кось, не было.
– А чего же она от тебя удула? – спросила Санька.
– Не удула, а умерла вроде как.
– Сбегла она, – сказала Калина, – а уж потом померла. Глыби в тебе мало, видно, было.
– Во мне глыби сколь хошь есть, как озлюсь, – побагровел Бедняга, – хучь на кого хватит. Тебя уж, таку стерву, и то могу до голенища проучить.
– Охальник ты, глаза бы на тебя не глядели, – зевнула Калина и встала.
Она прошлась вокруг сидящих людей. Прошлась второй раз. И направилась к дому.
– А ничего она, жена, про себя не рассказывала? – спросила бабушка.
– Так, мало чего. «Ты, – говорит, – меня не спрашивай. И тебе и мне оттого хуже будет. Только много, – говорит, – я по свету хаживала и людей много видела. Все больше хороших».
– Вот и нарвалась на тебя, на Иуду, – сказала издали Калина.
– Иди, иди! – крикнул Бедняга и махнул рукой. – Он-то ведь вдоль Ключа попрогуливаться порешил…
– Говоришь, больше все хорошие люди ей попадали? – сказала бабушка.
– Не я, а она так сказывала. Врала – ясное дело. Вроде все везде одни хорошие люди и хвиристят? – усмехнулся Бедняга.
– Злой ты мужик, – сказала Мария, – креста на тебе нет. Чего бабу травишь, и так лихо ей…
– Нынче на всех креста нет, – сказал Бедняга и выпил. – Нынче всем лихо, а ей и горя мало. Развалюха избяная она. А ты молчи, не твое дело.
– И не твое, – сказала Санька.
– Ух и душа у меня занимается, – засуетился Бедняга. – Так бы каждому гвоздь в язык и всадил.
Он встал, прошелся и вдруг пнул дядю Сашу. Дядя Саша поднялся и завернул Бедняге руку за спину.
Бедняга извернулся и укусил дядю Сашу в подбородок.
Дядя Саша отпустил Беднягу и ударил. Бедняга сел в траву, зло посмотрел на всех и заплакал.
– Чистый фашист, – сказала Санька.
– Давайте лучше петь, – сказала Мария, – бог с ним, очухается. Пьян ведь он.
Мария зычно затянула «Ермака». Все подхватили. Бедняга вытер слезы и тоже начал подпевать.
– Нинка идет, – сказала шепотом Саня.
И все смолкли.
Нинка шла в маковом платье, и солнце переливалось по нему, Нинка шла из-под тучи. Она шла вся загорелая, и видно было, что она совсем еще молода и даже красива. Но сквозь красоту лица просматривалось постоянное смущение, которым она встречала людей по деревням.
– Садись, Нина, – сказала Мария.
– Присяду, – сказала Нинка и осталась стоять, сверху пристально всех рассматривая.
– Нет нам весточки? – спросила бабушка.
– Налейте мне, бабы, самогону в стакан, – сказала Нинка.
Мария из бутыли налила ей стакан доверху.
– Ну, кого с чем, – сказала Нинка и выпила самогон. – Ух, – сказала она, – какую ворвань нынче бабы пьют.
Нинка постояла не закусывая, поглядела на дорогу, которой сюда пришла, и спросила:
– Калина где же?
– Домой пошла, – сказала настороженно Санька. – Дома она.
– Туда иди, – сказал Гришка Останин. – За хорошую весть озолотит в честь Троицы.
– Нет ее дома. По полю, поди, похаживает вдоль Ключа, – сказал Бедняга. – Ну-ко в такой день така баба дома одна будет сидеть.
Нинка достала из сумки треугольное письмо и отдала Гришке, как соседу.
– А тебе, Мария, весть есть, – сказала Нинка и посмотрела на Марию прямым взглядом.
Мария встала с земли и тоже посмотрела на Нинку, вытянулась перед ней, как перед начальником. Нинка подала Марии длинную и тонкую бумажку. Мария взяла бумажку, повернулась и, подняв плечи, пошла в избу.
Енька видел издали, от Ключа, как Нинка прошла в деревню. Наташа в это время стояла у самой воды и опускала на речку венок. Он тихо закачался на воде и поплыл по теченью. Потом опустила на воду свой венок Зина, и тот тоже поплыл. Наташин венок вышел на середину и заторопился. Все бежали за венками и видели, что другим берегом далеко от реки шла Калина. Потом Енька с высокого берега заметил, как переходит конем вброд на ту сторону всадник в синей гимнастерке. Конь высоко поднимал над водой голову, и раскачивал ею, и смотрел большими вздутыми глазами. Венок Наташин плыл прямо на коня. Всадник наклонился, вытянул руку и прутиком поддел венок из воды.
Енька же оглянулся и хотел окликнуть Наташу, но увидел, как на краю деревни встала с земли мать, как она подняла плечи и зашагала в избу и как Нинка из деревни пошла назад в село.
8
Луг был цел. Он стоял стеной. Над лугом плавился низкий зной солнца, но травы были холодны, травы были молоды, и цветы неистовыми запахами дышали в лицо. У Еньки в руках росилась большая ликующая литовка, и Енька, широко замахнувшись ею, шагнул навстречу лугу.
Правее шла Санька, дальше – Гришка Останин. А с другой руки шагали старуха Епифаньева, Калина, Бедняга и мать. И так далеко было до леса, до конца луга, что казалось, нет травам предела и даже самого леса не видно, а потонул он в тумане.
Енька прошел несколько шагов и почувствовал, что плечи раздались, наполнились ветром жгучим, руки стали длиннее, а ноги выше. Он посмотрел на Саньку: и верно, ее он уже перерос. Перерос на полголовы. А ведь всего лишь прошлым летом ходил Саньки поменьше.
Санька шла в туче травяной сверкающей пыли, жмурила на пыль пронзительные ласковые глаза и сама себе улыбалась. Литовку она держала ровно и только слегка водила из стороны в сторону обтянутую майкой спину. Впереди Саньки стояла и горела на весь луг царская свеча. Цветок стоял вытянут, полыхающ, и тверд среди трав. Санька шла и смотрела на эту свечу.
Уже издали побежал по густой траве к цветку шелест, листья заходили вокруг, обступая его. Они ложились под литовкой, вскидываясь и беззвучно охая. И шагах в трех от Саньки цветок сам затрепетал. Он только теперь почувствовал страх, понял, что должно случиться, и хотел кинуться к лесу. Но не смог и только метнулся на месте. А Санька вдруг оробела. Она зачастила и вроде решила уйти вправо. Но там был Гришка. Слева шел Енька, оглядывался на нее весело и снисходительно. И Санька пошла прямо на царскую свечу. Санька широко занесла литовку; там, в стороне, наполнила ее яростным блеском солнца и, боясь расплескать этот блеск, ровно пустила косу по кругу. Свеча замерла, слыша приближающийся посвист стали, потом чуть наклонилась вперед, торопясь заглянуть Саньке в лицо, но не успела. Она всем золотым длинным своим огнем колыхнулась, вспыхнула как молния, постояла в воздухе и стоймя опустилась на землю. А потом легла Саньке под ноги.
– Енька! – крикнул из лесу Олег. – Енька! Эге-гей! Малина!
Енька шел и не откликался, а работал плечами.
– Стервец-то какой, аж глаза ломит, – сказала старуха Епифаньева хрипло, не глядя на цветок, но явно о нем. – Чистое золото!
– Ничего, – сказал Енька. – На то оно и золото.
Старуха дышала шумно, что-то посвистывало у нее в груди. От Еньки она отставала, но недалеко. За старухой покосивом шла кошка, пестрая, облитая ржавыми и белыми пятнами. Кошка иногда взмахивала лапой и била воздух вслед осе или катилась по земле за бабочкой.
– Енька! – крикнул из лесу Олег. – Енька! У-у! Лебеди!
Енька шагал и уже знал, что лес приближается. Дыхание погорячело, жар тек вдоль плеч по груди, идти тяжело, но Енька чувствовал, что до лесу дойти можно.
– Ух и звери! Как мельницы молотят! – крикнула Калина.
Она стояла впереди всех, обернувшись. Она подвязывала белую косынку над красным от солнца и дыхания лицом.
– Сатана какая! Вот баба! – просвистела старуха Епифаньева. – Черт ее не берет!
По лицу старухи катился пот, она не утиралась, а шла по лугу, как сквозь дождь. От нее сильно несло запахом крепкого кислого кваса. Иногда ближе подходила Санька, от нее тоже пахло. Пахло свежим теплым хлебом, не ржаным, а пшеничным. Саня все щурилась и улыбалась чему-то. Луг уже кончался. Идти стало легко, и жаль было, что лес близко.
Из лесу шел Олег и тащил полную кепку малины. Он шел и раскачивал головой: видно, пел. Вдруг Енька почувствовал, что литовка пошла по чему-то мягкому. Енька чуть вскинул ее и увидел перед собой в ямке зайчонка. Зайчонок, уже большой, пепельный, лежал на земле. Он припал к земле и закрыл глаза. Самые кончики длинных вздрагивающих ушей сбрила сталь, и мелкими капельками быстро выступала кровь. Енька присел, взял зайчонка на руки. Зайчонок прижался к нему и мелко дрожал.
– Олег! – позвал Енька.
Олег уже бежал.
– Поглядим и отпустим, – сказал Енька.
Возвращались на обед жаркой пыльной дорогой, пели какие-то песни. За старухой Епифаньевой бежала по дороге кошка, иногда останавливалась, била по воздуху лапой или высоко подпрыгивала за бабочкой. Гришка вышагивал впереди, карман его погромыхивал коробком спичек, а из штанины временами вылетала на дорогу папироса. Бедняга наклонялся и поднимал папиросу из пыли. Потом Бедняга свернул и пошел домой огородом. И теперь, когда из гришкиной штанины выпала папироса, Енька поотстал и подобрал ее.
В деревню Олег и Енька вошли далеко позади других.
В прогоне возле колхозного коровника Енька остановился. Достал спички, достал папиросу и прижег ее. Он потянул, заслезившимися глазами посмотрел на Олега и сказал:
– Здо́рово!
– Ишь ты, – сказал Олег.
Енька подымил среди дороги и подал папиросу Олегу:
– На. Здо́рово.
Олег потянул и закашлялся. Потянул еще и закашлялся опять. Он бросил папиросу и отдышался.
– Эх ты, – сказал Енька, – кишка тонка.
И они пошли.
Потом Енька вернулся и плюнул на окурок.
Навстречу им шел из деревни высокий пожилой мужчина с рыжей кудрявой бородой и голубыми внимательными глазами. Пожилой мужчина поравнялся с Олегом и вежливо поздоровался с ним.
– Здравствуйте, – ответил Олег и пошел дальше.
– Кто это? – спросил Енька.
– Не знаю, – сказал Олег.
А Енька все думал, где он слышал этот голос.
– Иди-ка, Енька, принеси мне воды, – крикнула из окошка старуха Епифаньева, – спина что-то захрясла.
Старуха вынесла на крыльцо ведра и коромысло. Енька пошел через улицу к Санькиному колодцу, побрякивая ведрами и раскачивая коромысло. За ним побежала пятнистая старухина кошка, вытянув спину и высоко подняв хвост. Кошка села на колодезный сруб и стала смотреть, как Енька набирает воду. Енька подцепил ведра на коромысло и пошел. Кошка обиженно замяукала, продолжая сидеть на срубе. И пока Енька не вошел в ограду, кошка все жаловалась.
– Ты чего же Полынку оставил? – сказала Епифаньева, снимая с коромысла ведра.
– А куда же ее? Не тащить же на себе.
– Тащить и надо было, – засмеялась Епифаньева. – Она же у меня, милая, все со мной по воду прохаживается. Наберу ведра, подниму с земли да к ней подхожу, она и прыг мне на спину. Так и едет до крыльца.
– Приучила, – сказал Енька.
– Такая уж она, Полынка. Да приучила ее не я, Ваня еще до армии приучил ее. Она у него и по двору на задних лапах похаживала. Теперь уж раззабыла, поди. Вот с войны-то Ваня вернется, опять всему ее выучит.
– Наверное, – сказал Енька. – Ну, я пойду.
– Иди, милый, спасибо на добром деле. Браги-то наварю, приходи отведать. Напою, так вся душа запропашится.
Енька пришел домой и налившимся горячим телом лег на холодный крашеный пол, как на лед. Лег лицом вниз, раскинул руки и заснул, некоторое время сквозь сон еще слышал, как мать доит в ограде, а молоко громко бьет в ведро.
Ему снился полдень густой и жаркий, запах трав. Из-за этого запаха трудно было дышать и кружило голову. Енька шагал через луг, широко взмахивая руками, но литовки в руках не было. Далеко впереди, засунув руки в карманы военных брюк, нагорбив спину, уходил от него отец. Енька спешил за отцом, но никак не нагонял. А отец был маленький ростом. Енька спешил догнать отца, схватить на руки и унести домой. Как вдруг откуда-то выскочил давешний заяц. И оказалось, что он медный. Заяц, ослепительно сверкая на солнце, высокими скачками мчался через поле. И на каждом прыжке в зайце раздавался удар, как в колоколе. Удары низко и тревожно покачивались над лугом. И сквозь удары Енька услышал голос матери.
Енька открыл глаза и услышал, что мать громко зовет его с улицы. Енька побежал к окну и увидел за прогоном черный столб дыма. Мать уже бежала туда, под этот столб, огромными шагами, раскинув руки, словно торопилась обхватить весь дым. Енька через окно выскочил на дорогу и по глубокой горячей пыли помчался к коровнику, в прогон.
Коровник, длинный, со стенами из толстых бревен, с соломенной крышей, весь шипел и задыхался от дыма. Зеленая ядовитая туча густо проламывала крышу, корчила солому, дыбила ее и вздымала в небо. Огня из-под крыши еще не пробивало. Но огонь гудел там, внутри, и трещал каким-то диким горлом, словно ему мешали дышать.
А на гумне с другой стороны деревни кто-то бил в плужный лемех.
Калина огородами прямо по картошке мчалась лошадиными скачками и громко кричала:
– Стервец ведь там! Панко – гадский потрох! Из поля видела, как убег.
Ворота коровника кто-то прикрыл и подпер снаружи колом. Калина отшвырнула кол и распахнула ворота. Из глубины зеленого дыма прямо над головой Калины вырвались две летучие мыши и низко понеслись над землей, ослепленные солнцем. Они шарахались над головами сбегающихся людей и с треском бились сухими крыльями в стены сарая, телятника и овчарника.
– Ну! – крикнула Калина, пригнувшись перед раскрытыми воротами и разгребая дым руками. – Ну, стерва! Выходи!
Там в глубине глухо загудело пламя. И тогда Калина схватилась руками за голову и кинулась туда, в глубину, как в воду. Крышу со стороны поля вздувало, кровля поднялась на дыбы, и налетевший ветер завернул ее, как подол, схватил и понес вместе с огнем к деревне. Красное длинное пламя хлестнуло сквозь стропила, дым почернел и клубами покатился ввысь.
«Неужели от папиросы!» – подумал Енька и остановился между коровником и сараем в горьком потемневшем воздухе и часто дышал, чувствуя, как по всему телу выступает пот.
– Черт с ним, с Панко! – оглушительно заорал Гришка. – Черт с ним! Не удержишь коровник-то! На крыши, бабы! Мария, на сарай! Санька! Где Бедняга? С ведрами. Все ведь изойдет.
Енька подбежал к колодцу, опустил журавль, и огромная бадья с гулом пошла вниз. Теперь уже по всей крыше сарая зашевелилась от жара солома. Она побурела. Хвостатые золотые полосы высоко летели по воздуху и садились на сарай. Санька вынырнула откуда-то из дыма с длинной лестницей, приставила ее к сараю и полезла, все оглядываясь на коровник. Мать взбиралась на сарай по углу, обхватив торцы бревен и крепко прижимаясь к ним животом. Она тоже оглядывалась отчаянными глазами и кричала:
– Калина! Калина сгорит!
Из ворот коровника дым уже не валил, в них с шумом тянуло воздух, и там, в глубине, стояло мглистое зарево. Огонь кружился над стропилами, свистел вдоль потолочного настила. Стропила выгибались, как ребра, лопались и летели в разные стороны.
И вдруг из сарая вылетела небольшая красная телка с высокой шапкой пылающей соломы на рогах. Она вылетела и ударила задними ногами, прыгнула в сторону и помчалась в поле боком, прыжками, закидывая голову.








