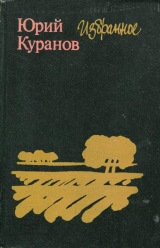
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юрий Куранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 44 страниц)
Лед ноздреват, лед крошится, он распадается и темнеет. Из глубины тяжелых дымчатых озерных льдин теперь слышится какое-то движение, оно походит на длинное прерывистое дыхание. Дыхание томительно и гулко расплывается над озером, особенно в сумерки.
Над сумерками прорезается месяц, осторожный, внимательный. Его таинственный, плотными туманами завешивающий озеро свет вдруг наливает льды тяжелой черной зернью. Однако льды подвижны, они подтаивают и распространяют здесь и там широкие лиловые течения.
Лед превращается в стальное, кованное мелко и узорно кружево, он весь звенит и дышит здесь, под месяцем, сквозь этот звон. Прозрачно и пустынно дышат льды, звенят узоры и расплываются к далеким от луны, замглевшим берегам, чтоб на рассвете уже совсем бесшумно раствориться в солнце и в туманах.
Навсегда исчезнуть.
ТЯГА ДУШИЯ думаю, что в сердце каждого человека с самого робкого и розового детства накапливается тяга к людям, которые любят и умеют работать, знают и чувствуют мастерство, чья сноровка и опыт расцветают, как луч в июльский полдень, при осмысленном и созидательном действии. Душа такого человека – поистине цветок, цветок благоуханный и нерукотворный.
И в самом деле, сколько песен сложено и пропето об умелости, о сноровке, о ловкости и о благодарной приверженности человека к труду.
Ах какими глазами смотрит девочка, когда мать разделывает на столе хлеба, когда она вываливает из квашни это золотое, исполненное веса и сияния, тягучее и звучное тело зерна! Как она мнет это живое и благодатное тесто, как она приговаривает или поет про себя какую-то старую-старую песню, которую, может быть, певала еще мать ее матери. Глаза детей в такие минуты полны моленья и восторга, их лица светятся, они как маленькие ангелы парят своими взглядами над добрыми, над умными, над благодатными руками своей невыразимо прекрасной матери. А когда эти руки вынимают из печи хлеба, эти огромные и огнедышащие солнца добра и красоты! Кого не тянет прикоснуться к ним пальцами, погладить ладонью и, может быть, приложиться щекой или встать на колени, как перед знаменем, и поцеловать их?
А когда взрослые строят дом! Как издали за ними наблюдают дети. Как тянет их вечером после работы бродить и бегать по свежим половицам, по золотым и звучным перекрытиям или просто сидеть в недостроенных, пустынных и таких таинственных комнатах сруба. И смотреть на звезды. Как сами мы любили в детстве строить какие-то клетки, изгороди, домики, города. Как населяли мы эти свои творения приветливыми и добрыми жителями, какие песни слагали мы для них в сердце своем несмышленом, какие увлекательные игры рождались тогда у нас. Так пусть же наши дети и дети наших детей никогда не забудут пленительные дорожки этих кротких и вещих игр, и пусть сердца их будут вечно отзывчивы и трудолюбивы!
А кто в деревне не играл в шофера и тракториста, как ранее играли в пастуха и стадо. Как замирает сердце мальчика, когда он следит глазами за огнями быстрыми ночного самолета! Он там, среди облаков, он дальше – он шагает по планетам, и пусть его отважное юное сердце там, в необъятных и нерукотворных мирах, тоже будет кротким, вещим и отважным.
А меня, меня самого, при всем моем возрасте и уже довольно-таки обширном опыте жизни и дел, до сих пор повергают в восторг и умиление глаза, в которых я вижу движение мысли, напряжение поиска и умение смотреть открыто и честно в глаза собеседнику. Такого человека всегда мне хочется обнять; мне хочется пожать его крепкую руку умелого и делового человека и прикоснуться к ней краешком своего сердца.
Как будто бы из ничего рождается в поле пшеница, из ничего как будто растет трава и дует ветер, из ничего собираются облака и озаряет озера молния, из ничего раздается звук отдаленной песни и вздох восторга и любви, из ничего возникает жемчужный человеческий зародыш… Как будто бы? Нет, разве же из ничего встает солнце? Из ничего ли светит луна? Сверкает, как бриллиант, умом и добротою человеческий взгляд? Вдруг возникает и отдается в сердце поцелуй? Слагается рукопожатие? И разве же из ничего бьют в нашем сердце удары, что озаряют наше тело, ум и нашу совесть биением алой, прекрасной и драгоценной крови?
Там, над оврагом, пролетает ночная тревожная птица; здесь, среди неба, парит осенний сверкающий лист; туда, в даль дорог и столетий, улетает рожденная предками песня, и цветок наших дел, наших чаяний, надежд, свершений будет цвести вечно, когда руки наши чисты, наши помыслы непорочны, наша щедрость бескорыстна и разум наш неутомим, свободен и доступен восторженности.
Я сам еще не знал, что жизнь уже приближает ко мне день, который надолго заляжет мне в память своей чистотой, своей обиходной неповторимостью. А этот день уже стоял у меня на пороге, уже вознес руку, чтобы постучать в мою дверь, он уже поднялся по ступенькам порога, и те не скрипели, не потрескивали, они только еле слышно напевали. Я это пение расслышал.
Я накинул плащ, натянул на затылок кепку, выпил на дорогу стакан воды, улыбнулся и с этой светлой улыбкой растворил свои двери, чтобы с высокого порога моего дома приветливо поклониться будущему.
ВЕСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАДПочки уже готовы, но листвы еще нет.
И с вечера пойдет ровный, легкий апрельский дождь. Он повесит на каждой почке по серебряной прозрачной серьге. Серьги будут покачиваться от ветра и от собственной тяжести, и свет переливаться будет в них полновесно и прозрачно. Так серьги превратятся в звезды.
Ночью при тучном и властном сиянии луны звезды будут капать с моей молоденькой березки в темную, бездонную воду озера. И будут медленно тонуть там во мраке, кружась, вращаясь, но не растрачивая света.
Так под березой к утру светиться будет уже глубокое таинственное облако звезд, такое светящееся и вытянутое конусом.
До рассвета, пока не встанет солнце.
РОДНИКОВОЕ УСТЬЕВ то утро ощущение полета уже зародилось во мне, – вернее, не само ощущение, а предчувствие его. Как это часто бывает, когда человек с волнением ожидает какого-то важного события и внутренне торопит его.
Утро наступило светлое и молодое, солнце раннего лета сияло над всею Великой. Там, в сторону устья, где река разливается широко и величественно, вода лоснилась от серебряного блеска и уходила в озеро широким веером, над которым высоко и низко метались чайки, что-то кричали женскими отчаянными голосами, кого-то призывали, кого-то отпугивали. Так начиналось утро, когда мы с Николаем Алексеевичем, пожилым осанистым шофером, проходили «Волгой» над новым стремительным и таким полетным мостом через реку Великую на полном виду еще более осанистого псковского кремля. В машине был включен и громко работал приемник. Какой-то знакомый голос деловито доносился из приемника, голос этот что-то перечислял, кому-то что-то докладывал. «Какая странная передача», – подумал я. Что-то совсем не актерское было в этом голосе.
– Сейчас Григорий Иванович о нас позаботится, – сказал шофер и кивнул в сторону голоса, – спросит, где мы и что с нами.
И я только теперь догадался, что это совсем не радиопередача, а слышу я голос Гецентова, который по рации перед кем-то отчитывается.
– Это он перед кем? – спросил я шофера.
– Что перед кем? – удивленно посмотрел на меня Николай Алексеевич.
– Перед кем отчитывается? Перед обкомом? – уточнил я свой вопрос.
– Нет, – протяжно и снисходительно ответил шофер.
– Перед райкомом?
– Да нет же, – шофер улыбнулся так же снисходительно.
– Так перед кем отчитывается?
– Это он диспетчеру сведения дает, – добродушно и вежливо пояснил Николай Алексеевич, – сейчас о нас вспомнит. И трех минут не отстукает, как вспомнит. Время уже.
Я внутренне ухмыльнулся и не поверил этому пожилому человеку с мягким крупным лицом и с плавными спокойными движениями. Но трех минут и верно не прошло, а Гецентов спросил:
– Николай Алексеевич, где вы? Как ваши дела?
Шофер деловито и с достоинством объяснил, что гость, то есть я, сел в машину вовремя и мы находимся в таком-то месте такой-то улицы, на выезде из Пскова.
Пусть надо мной смеются циники, пусть безапелляционно и с некоторым раздражением улыбаются директора иных совхозов, председатели райисполкомов и некоторые другие административные работники, но я скажу правду: я чуть не заплакал. Я чуть не заплакал от радости там, на северной окраине Пскова, когда услышал голос Гецентова. Я, можно сказать, ждал такого момента всю жизнь.
Что греха таить, мы так привыкли к тому, что слово и дело в нашем обиходе подобны неумелому ездоку и норовистой лошади, а к своему и чужому времени мы относимся как к чему-то ничтожному и уж во всяком случае достойному этакой запанибратской пренебрежительности. Сколько раз любому из моих и ваших знакомых приходилось обещать и не выполнять обещанного, а сколько нас не то что обманывали, но ставили в такое положение, что и спросить-то неудобно, почему та или другая обговоренная ситуация не состоялась. Да о чем говорить, если на абсолютно официальном уровне совхоз Глубоковский ежегодно подписывает договора с хозяйствами-пайщиками о поставке молодняка и почти никогда не получает скот в обусловленный срок, я уж не говорю о кондициях. Между прочим, принято решение, так мне объяснил Алексеев, на будущий год покупать скот у пайщиков по окончательной цене три рубля семьдесят копеек за килограмм живого веса. Но Алексеева это мало радует: ведь бычков-то ему будут поставлять все такими же полукормленными, потому что кормить будут не для себя, и все равно придется покупать их в любом виде. Так-то.
Но вернемся к нашему устью, к рассвету и к легкому бегу машины по шоссе Псков – Гдов и к тому возвышенному состоянию сердца, в которое мы уже успели в это радостное утро прийти.
Гецентова я застал в кабинете над высоким обрывистым берегом Великой, как раз там, где река уже без всякой осторожности по-богатырски расправляет плечи, а течение принимает величавый покладистый характер и более напоминает уже полет, а не течение.
– Вот, – сказал Григорий Иванович, вставая из-за стола и улыбаясь мне тяжеловатым взглядом цыганских глаз, – казус мне сегодняшний день подкинул: с утра одну нашу работницу, на руководящей должности она, распек я за необязательность. А потом остался один и заглянул в свою книжечку, есть у меня одна такая с датами, у кого из наших рабочих и когда знаменательное в жизни событие. Вот и смотрю – день рождения сегодня у этой женщины. Так мне, Юрий Николаевич, неудобно перед ней сделалось.
А я мгновенно, стоя в этом простом, широком и солнечном кабинете Гецентова, вспомнил нашего глубоковского председателя сельсовета Андрея Александровича Бурунова. Несколько лет назад внезапно и очень серьезно заболела молодая женщина, секретарь сельсовета Федорова. Увезли ее из села на. «скорой помощи». Все вокруг были встревожены. Дня через два повстречал я Бурунова возле почты.
– Как дела у Федоровой? – спрашиваю.
– Ничего, все нормально, – отвечает Бурунов, невозмутимым гренадерским взглядом глядя мне в лицо.
– Она ведь вроде в больнице? – напомнил я.
– Да, в Опочке, – согласился Бурунов спокойно.
– А что с ней?
– А кто ее знает. Увезли, – значит, заболела.
Я долго не мог прийти в себя от этого ответа и, надо признаться, избегаю с тех пор встреч с нашим руководителем сельского Совета.
А здесь!.. Здесь я почувствовал приятное и в общем-то такое необычное в повседневности ощущение полета. Собственно, ощущение это пришло ко мне еще там, на выезде из Пскова.
Теперь мы выехали в поле, мимо высоких многоэтажных жилых корпусов и стройной белой церкви старинной кладки, прозрачно белеющей среди высоких лип и берез погоста над необъятной ширью Великой. Древнее селение Писковичи с центральной усадьбой осталось позади. Ощущение полета усилилось и вошло в наше движение, в наше состояние и в нашу беседу. Впереди открылась длинная и широкая пашня.
– Вот наши так называемые коллективные индивидуальные огороды, – протянул Григорий Иванович короткую быструю руку свою в сторону пашни.
– А что же это такое?
– Это мы совхозными усилиями распахиваем и обрабатываем для наших рабочих землю. Удобряем и все остальное, – объяснил Гецентов, – а потом делим ее на участки, кто какой возьмет. Уход за огородами с помощью совхоза, и уборка – тоже. За эти наши коллективные индивидуальные огороды бригадир отвечает так же, как и за совхозные земли. И облегчение всем большое, и споров меньше.
– Конечно, – с удовольствием согласился я и припомнил, как в иных местах приходит весенняя пора к руководителю хозяйства. Тут возле его кабинета вьются старички, старушки и прочий люд: кто навозу просит, кто лошадь, кто то, кто се… А там, глядишь, тракториста после работы соблазнили огород вспахать за бутылку и он согласился. Согласился здесь, согласился там – и пьет целую неделю. Тут конюх с конюшни навоз за бутылку развозит вечерами одному и другому, тоже целую неделю мужичок не просыхает. – И бесплатно это у вас делается?
– Зачем же, – поводит черными зрачками Григорий Иванович, – официально, по расценкам каждый платит за свой огород. Это и законно, и вполне приемлемо. – Гецентов некоторое время молчит, что-то вроде бы в уме прикидывает, и продолжает: – С коровами хотим тоже тут один замысел предпринять. Чего греха таить, не очень-то охотно нынче народ коров держит, особенно молодые люди, в крестьянской двужильности трудовой не выросшие…
Да, что греха таить… Сейчас и разнарядки спускаются сверху, чтобы сельский люд скотом снабжать, но получается это вовсе не так, как хотелось бы. Поросят покупают, а вот коров держать не отваживаются. За коровой много ухода требуется, вставать нужно затемно, ложиться запоздно, да и внимания у хорошей хозяйки корова забирает не меньше, чем ребенок. А уж о покосах и травах и подумать страшно. По этой причине некоторые сельские Советы не особенно-то рвутся к увеличению поголовья индивидуального молочного скота. Я помню, бывший председатель рабочкома Семен Семенович Семенов только заслышал о том, что увеличивать поголовье личного скота придется, покраснел весь: «Это пусть кто-нибудь другой таким делом занимается, врагов с покосами да выпасами наживешь, век потом не распутаешься».
– Думаем построить коллективную ферму для индивидуальных коров, – продолжал Гецентов, – снабжение кормами, сеном, вывоз навоза и прочий уход совхоз берет на себя, за определенную плату, конечно. Для хозяйки останется только подоить да приласкать корову.
Как радостно слышать такое! И не просто потому, что человек до этого додумался, а главным образом потому, что думал об этом, когда его никто не заставлял, – наоборот, я уверен, что у задумки Гецентова обязательно отыщутся недоброжелатели. И тут впервые с каким-то особым уважением я вспомнил, что Григорий Иванович – Герой Социалистического Труда. «Видно, и впрямь недаром он такое звание получил», – подумал я и поглядел как бы со стороны на директора совхоза «Победа».
Рядом со мной сидел в машине пожилой человек с быстрыми, но спокойными движениями, с точным и внимательным взглядом и с выражением суховатого широкого лица приветливым, но строгим. Я много слышал о нем и до этой встречи. Говорили о нем разное. Работники административного аппарата отзывались о Гецентове с некоторым отчуждением, как о человеке сложном, упрямом, с которым дело иметь трудно; партийные работники рассуждали о Григории Ивановиче как о событии ярчайшем на псковской земле, с уважением и с оттенком восхищения; простые же люди, жители совершенно далеких от Писковичей пределов, обращались к его имени с почтением и некоторой долей удивления. Но те, и другие, и третьи, да и четвертые – все в один голос соглашались, что директор совхоза «Победа» – явление уникальное, чистый талант, редкий самородок. Вот теперь этот самородок сидел со мною рядом, с кем-то переговаривался время от времени по рации, быстро менял в зависимости от характера беседы выражение крепкого, прокаленного солнцем лица и сообщал мне, машине и, видимо, самому себе некое ощущение полета. Словно мы не плыли на старой «Волге» по проселкам среди низких кустарников в сторону устья, а парили над степными увалами, над Великой и над всем южным краем Псковского озера. Я парил над всею этой великой и древней землей, видя ее со стороны в общем и целом и изнутри, от каждого холма, от каждой излучины одновременно.
Так «Волга» наша оказалась вскоре на берегу озера, в широком бору, среди многочисленных новеньких свежевыкрашенных вагончиков для жилья.
– Это наш лагерь труда и отдыха, – сказал Гецентов. – Здесь в несколько смен отдыхают школьники. И одновременно работают. У них прекрасные старательные руки, только мы их на работах полевых занимаем ровно столько, чтобы интерес к труду не отбивала усталость. Очень важно, чтобы с детства у человека не вызывать чрезмерным перенапряжением неприязнь к трудовому усилию, – подчеркнул Гецентов и провел в воздухе энергичную, как бы разграничительную линию коротким тонким пальцем. – А это столовая, – указал он в сторону опрятного и уютного строения.
И я вспомнил, как в иных местах на осенних полевых работах поселяют школьников где попало, кормят небрежно, для отдыха, для развлечений у ребят времени не оставляют. Нередко в таких условиях школьники, особенно девочки, заболевают, и в результате полезное и нужное трудовое мероприятие вырабатывает у детей, и особенно у их родителей, отчуждение.
– А что это, Григорий Иванович, за баллы воспитательные вы ввели в своем хозяйстве? – спросил я, улучив удобную минуту.
– Это дело очень интересное, – оживился Гецентов, – и, надо сказать, находка не нам принадлежит. Лет шесть назад прочел я в газете «Сельская жизнь», что под Ленинградом, в совхозе имени Тельмана, введена новая, пятибалльная, система оценки труда. Вот мы туда и направились, чтобы поинтересоваться этой новинкой. Нам она понравилась, обсудили ее сообща, кое-что усовершенствовали применительно к нашим условиям, и, я вам скажу, так нам она, эта пятибалльная система, теперь помогает. Куда с добром.
Суть системы заключается в следующем. Каждому рабочему и служащему совхоза, исключая директора, заместителя его и секретаря парткома, начисляется на год шестьдесят баллов, то есть пять баллов на месяц. Вот эти шестьдесят баллов и олицетворяют собою всю премию рабочему или служащему в конце года. В каждой бригаде вывешен «экран трудовой дисциплины», на котором против каждой фамилии изначально ставится цифра пять. Но в зависимости от поведения человека не только на работе, но и в быту эта цифра может быть уменьшена. Особенно строго наказываются пьянство и нарушение техники безопасности. Списываются баллы в течение месяца не просто так, а на собрании, с согласия профсоюза. В конце года выводится рабочему или служащему премия и делится на шестьдесят. Таким образом выясняется, сколько рублей для этого человека стоит балл. Подсчитывается тут же общее число потерянных баллов. Удержанные из премии деньги идут на общие культурные нужды совхоза.
– А что же с директором, замом и секретарем парткома? – поинтересовался я.
– Этим лицам баллы тоже списываются, но в зависимости от оценки работы хозяйства вышестоящими инстанциями, – ответствовал Гецентов.
Поднялись песчаным проселком к зданию старой кирпичной фермы.
– Вот здесь думаем свинарник для производства поросят устроить, – сказал Гецентов, коротким тонким пальцем указывая на строение.
– Но у вас же нет плана по продаже свиней, – возразил я.
– Это мы для рабочих, – уточнил Григорий Иванович, – чтобы они у нас по сходной цене всегда могли приобрести поросят для личного хозяйства, чтобы не добывали их где попало любыми путями.
Наконец мы приблизились к диспетчерской – гордости всего хозяйства. В кирпичном домике на один этаж разместилось это знаменательное учреждение Григория Ивановича Гецентова и его сотрудников. Спокойный, ничем не примечательный мужчина встретил нас в этом помещении. Здесь, по словам Гецентова, и находится штаб управления совхозом: главный диспетчер и диспетчер по транспорту. Здесь на огромных, во всю стену, экранах точно обозначено, где какой трактор, какой комбайн, какая машина находится, какие работы где и как ведутся, здесь всегда знают, кто чем занят и кто в чем нуждается; на отдельных участках хозяйства и на машинах установлено тридцать четыре рации. Именно сюда давал Григорий Иванович утром сводку всех своих дел, когда мне почудилось, будто он отчитывается перед какой-то вышестоящей инстанцией. Тут всегда ровная, требовательная ко всем одинаково и ко всем одинаково благожелательная атмосфера. Директор не мыслит себе работы без этого штаба, он сам каждый час и каждую минуту держит в курсе всех дел своих диспетчеров, которые директора и любого другого руководящего работника хозяйства тоже в любое мгновение готовы информировать по любому вопросу. Они к каждому занедужившему трактору могут направить в поле машину с механиком, бензовоз на дороге переадресовать в любой другой уголок и оказать какую угодно помощь всякому, кто в ней нуждается. «Я сам, вы знаете, – с удивлением разводит руки в стороны Гецентов, – иногда во сне с диспетчерами разговариваю. Я уж не говорю, что на любом совещании, хоть в обкоме партии, я выкрою минутку, чтобы связаться с диспетчерской. А если не связался, то тревога, вы знаете, такая на сердце делается и чувство вины подступает – вроде в чем-то виноват».
И я представил себе десятки, сотни руководителей колхозов и совхозов, которых днем с огнем не сыщешь, которые мечутся по огромным своим угодьям, никуда не успевают и сами не знают, где что делается. К такому директору иногда не дозвониться, и сам он никого по-настоящему весь день найти не может. А некоторые, быть может, и довольны, когда с утра до ночи их отыскать никто не в состоянии, они сами прячутся от дела, сказываясь занятыми.
На прощание, совершенно случайно, мы оказались в столовой. Дело в том, что мне захотелось пить.
– Заглянем в столовую, там минеральная вода должна быть, – пригласил Григорий Иванович. – «Боржоми» не гарантирую, но какая-то есть.
В чистой свеженькой столовой оказалось и боржоми. Нам подала холодную бутылку этой шипучей воды ловкая молодая официантка с приветливым, простым, интеллигентным лицом. И я вспомнил, как в иные годы моего пребывания в Глубоком тяжко было мне заходить в совхозную столовую. В лиловом деревянном шкафу, где помещались всякие деловые бумажки, прятала недавняя буфетчица и телефон, прикрыв накрепко створки буфета. И все бы вроде ничего. Но стоило телефону зазвонить, и буфетчица распахивала створки, тучей вырывались из шкафа растревоженные мухи и начинали метаться по помещению.
Тут надо заметить, что столовая в какой-то степени являет собою внутреннее лицо хозяйства. По облику ее вы можете определить, интеллигентно ли руководство, уважительно ли здесь относятся к рабочим и вообще ко всякому человеку, есть ли в здешней местности люди с навыком рукодельности, опрятны ли местные жители, благополучно ли тут с молодежью. И многие другие важные выводы может сделать внимательный человек, заглянув в сельскую столовую. Почти уж восемь лет назад мы с Васильевым вели разговоры о том, что для такого крупного хозяйства, как Глубокое, надобно и гораздо более обширное помещение для столовой. Но все осталось как было. Именно по этой причине позапрошлой зимой дирекции совхоза, секретарю райкома, заместителю председателя облисполкома и всем другим гостям пришлось справлять вручение Глубокому переходящего знамени в здании детского сада. А через месяц в бревенчатом доме старенькой столовой рухнул потолок. Не раз я видел, как в летние месяцы на двери столовой вешают замок, чтобы не кормить приезжих, а сами руководители и рабочие в пыльной одежде, в грязных сапогах топают черным ходом через кухню.
Так вот, нам подали боржоми, и я спросил Григория Ивановича так, между прочим:
– И часто ли в столовой вашей появляется минеральная вода?
– По возможности всегда, – ответил Гецентов, – ведь у нас налажено диетическое питание.
– Как это?
– А так. Заболел рабочий или служащий, ну, скажем, почки у него больные или печень либо желудок, врач прописывает ему определенный «стол», то есть номер «стола» указывает. Больной с этой бумажкой приходит сюда, платит деньги и получает диетическое питание.
Если бы у меня была шляпа, я обязательно снял бы ее с головы и поклонился бы Гецентову, и заведующей столовой, и поварам, и официантам. Я представил себе, что же должны испытывать этот больной и его семья по отношению к совхозу и все другие рабочие и служащие, которым предоставляются диетическое питание, обработанные огороды, поросята, стойла и корм для коров, которые, короче говоря, приходят в совхозную контору не только получать зарплату или наряд на работу. Насколько же легче Гецентову и его сотрудникам найти общий разумный язык с молодым или старым человеком в своем хозяйстве, чем любым другим их менее заботливым и изобретательным коллегам.
В тот день над древним устьем древней реки великого и древнего народа я задумался над жизнью и над личностью этого удивительного человека. Вернее сказать, я впервые задумался над смыслом понятия – герой труда. Да, это совсем не просто – каждую минуту думать о ком-то другом, о каких-то многочисленных деталях одной или нескольких сложных проблем, все сопоставлять, все соизмерять, все высчитывать. Сколько раз любому и каждому приходилось встречать руководителей, которые день и ночь жалуются на занятость, на загруженность, на нехватку времени. Они вечно взвинчены и озабочены, а то и подавлены. Эти люди тонут в потоке бумаг и дел, им все мешают, они не видят света белого и всегда раздражены. Кто эти люди? Уже с первого взгляда можно ответить: нет, дорогие друзья, эти люди не герои труда; более того, эти люди несчастны, они находятся не на своем месте. От таких людей любое управление и руководство должно избавляться как можно скорее и решительнее. Эти люди только и делают, что всем мешают, запутывают ход дел, они-то и искажают самые мудрые решения и самые благоразумные замыслы, У этих людей нет таланта для той работы, на которой они находятся. В искусстве и в литературе таких людей называют страшным и уничтожающим словом «бездарь».
Но все-таки что же такое герой труда?
Когда женщина доит корову и пальцы ее поют под выменем, его ласкают и благодетельствуют, – такая женщина красавица.
Когда мужчина ведет по тяжелой дороге тяжело груженную и не такую уж новенькую машину и она, огромная и мощная, ластится к нему, совсем не молодому и низкорослому человеку, она готова слушать каждое движение его руки, любое нажатие ботинка, машина влюблена в него, как в отца и покровителя, и сама становится живым, одухотворенным и добрым существом, – тогда нельзя не сказать, что этот человек прекрасен. Когда вы видите благожелательного, ненавязчивого, но твердого человека, и все, что он говорит, разумно, коротко, приветливо, а всякий слушающий его сам того не замечает, как всем существом своим тянется и слушать эту мудрость и ее выполнять, а выполнение такого дела доставляет ему покой, удовлетворение и чувство собственного достоинства, такой человек – талант, большой, редкий и бесценно драгоценный. Таких людей мы называем самородками.
Над устьем расстилался быстрый солнечный ветер. Бежали туда и сюда катера и мелкие речные пароходики; то плавно, то резко взмывали к небу и опускались на воду чайки, горел своею белизной при самом выходе Великой в озеро укромный храм Николы Чудотворца, при котором на пути в Москву ночевала пять веков назад невеста Ивана III, Великого князя Московского, Софья Палеолог. Осенью 1615 года солдаты Густава-Адольфа, короля шведов, знаменитого завоевателя, с позором отступившего от стен Пскова, поставили здесь форт. Но вскоре были выбиты и отсюда. Я сам в тот день парил над этим драгоценным устьем как птица, крылья мои были широко и свободно расправлены, сердце мое билось гулко, и весь этот знаменательный день надолго, если не навсегда, определился в моей жизни. Я был радостен еще и оттого, что чувствовал: такой день не может не положить начало другим, не менее знаменательным дням.








