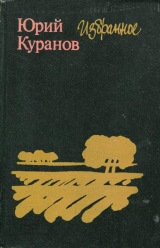
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юрий Куранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 44 страниц)
Что-то гремит по улице. Какая-то телега едет по селу. Неторопливая телега среди ночи. Видно, кто-то едет с поля. А вон ее уже, и видно. Сидят в телеге двое. Вернее, один сидит, а другой лежит и только поднял голову.
Телега поравнялась с больницей и свернула к подъезду. Но к подъезду не приблизилась, а остановилась, скрипнув оглоблями. Торопливо из телеги вылезла небольшая сутулая старушка в платке и в полупальто. Она обошла телегу и что-то шепотом сказала лежащему. Лежащий привстал, сутулая женщина помогла ему выбраться и спуститься на землю. Человек спустился на землю, ноги его подкашивались. Старуха поддержала его и повела к подъезду. Человек ступал тяжело, точно пьяный. Это ступала женщина, без платка, в фуфайке и в сапогах. Старуха подвела ее к подъезду и посадила на лавку. Старуха что-то долго и тревожно шептала, просила о чем-то. Женщина кивала головой. Старуха перекрестила женщину и поторопилась к телеге мелкими шагами. Она села в телегу, завернула коня и уехала, шибко гремя колесами.
Женщина посидела, уперлась в лавку руками и хотела встать. Но не смогла. Тогда она легла на лавку и поджала ноги.
Енька прикрыл окно и на цыпочках вышел из палаты. Старуха лежала в темноте на своей кровати возле стены, одна рука ее была поднята и застыла в воздухе. «Умерла, что ли? – подумал Енька. – Уж хоть бы умерла. Чего ей мучиться». Он осторожно прошел мимо. Старуха, не шевеля рукой и не поворачивая головы, сказала: «Пить». Енька прошмыгнул в приемную.
В приемной горел свет, но сестры не было. Только на столе возле телефона лежали недовязанные кружева.
Но в кубовой комнате слышался шум воды, из-под двери бил свет. Енька открыл дверь. Медный титаник в углу сверкал при электрическом свете и шипел паром. Рядом с титаником под душем стояла женщина и терла мочалкой живот.
Енька узнал сестру. Сестра была вся красная. Она подняла голову и сквозь воду посмотрела на дверь. Енька побежал на второй этаж к дежурному врачу. Сегодня дежурная как раз та врачиха, что лечит его и обещала выписать.
Он поднялся по темной лестнице и вошел в коридор. Справа кто-то сидел на подоконнике. Енька увидел, что это Гера. Она сидела в больничном халате и смотрела в небо сквозь раскрытое окно. Енька хотел позвать ее, но Гера обернулась сама. Она посмотрела на Еньку отсутствующим взглядом и не узнала его.
Енька попятился и пошел к врачихе. Он приоткрыл дверь и заглянул в кабинет. Возле стола, боком к Еньке, сидел на табуретке главный врач. Позади него стояла врачиха, положив ему руки на голову и перебирая волосы. Она стояла с закрытыми глазами.
Енька спустился в подъезд и вышел на улицу. Он приблизился к лавке и посмотрел на человека, лежащего скорчившись. Он присмотрелся в темноте и с удивлением сказал:
– Калина?
– Я, – сказала Калина, – Зови кого-нибудь. Сама не дойду.
– Сейчас, – сказал Енька. – Я их кого-нибудь позову все-таки.
– Постой, – сказала Калина. – Ты видел, что ли?
– Видел.
– Старуха-то, стервочка, и говорила, что кто-то в окошке есть. Никому не болтай.
– Ладно.
– Да. Вот что. Мать вчера к тебе собиралась. Не была?
– Нет.
– Ты выписывайся.
– А чего?
– Ничего. В поле весь белый день, а огород убирать некому. По ночам роется. Тебя жалеет, а сама дохнет.
– Я и так, – сказал Енька.
– Ну иди зови, а то умру, – сказала Калина.
Енька взбежал в коридор, направился к кубовой. Он постучал, никто не отозвался. Тогда он распахнул дверь. Сестра стояла возле титаника и надевала халат.
– Ай да парень, – сказала сестра, взглянув на Еньку, и улыбнулась.
Она застегнула халат на две пуговицы и подняла со спины мокрые волосы.
– Скорей, – сказал Енька.
– Чего тебе, скороспешка? – опять улыбнулась сестра, обматывая длинные желтые волосы вокруг головы, поверх горячего веселого лица.
– Там человек на лавке, – тихо сказал Енька. – Умрет, поди.
11
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом…
– Так я же знаю это стихотворение, – сказал Енька снизу, из сада.
– Нет, вы не знаете его, – сказала Гера сверху, из окна.
Она свесилась через подоконник, смотрела невесело, и видно было, что эту ночь она тоже не спала. Она прочла вторую строфу этого стихотворения.
– Знаю, – сказал Енька из сада.
– Не знаете, – сказала Гера из окна. И прочла строфу третью.
– Вот и знаю. Мы его в школе учили.
– Вы учили только то, что я вам прочла. А последняя строфа там опущена. Но без нее нет стихотворения. Вот послушайте:
Ты скажешь, ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
Енька молчал.
– Ну и вот. Ведь так? – сказала Гера.
– А кто такая Геба? – сказал Енька.
– Геба – это юная богиня. У Зевса есть орел. И вот этого орла она обычно кормит напитком богов – нектаром и амброзией. Это – напиток бессмертия и молодости. Представляете, сидит Зевс в своем сиянии на Олимпе, высоко над облаками. Рядом Геба. У Зевса в руках молнии. А она веселая и беспечная, как все молодые люди. Она, нечаянно или нарочно, пролила кубок. И смеется. А напиток льется на людей, на поля – растут травы, зеленеет лес и молодеют от этого люди. Прекрасно?
– Угу, – согласился Енька.
– Вот теперь, когда будущей весной придет гроза, вы сразу вспомните обо мне. Хорошо?
– Хорошо, – сказал Енька.
– Вы не забывайте меня.
– Нет. Я еще приду.
– Приходите, но вообще не забывайте. Никогда.
– Ладно, – сказал Енька. – Мне врачиха все равно велела еще прийти провериться.
– Гера, тебе нельзя на холодный воздух, – послышался в коридоре вежливый голос главного врача.
– Вот видите, меня уже и гонят, – улыбнулась Гера.
Она скрылась в палате. Енька постоял в саду, вышел на улицу и направился домой.
Светило раннее утро. Вставало солнце. Над землей слоился туман. В тумане слышался шорох. Наверное, там, над самой землей, шел ветер, он был легкий и перебирал травы. Туман поднимался, и жаль было, что он поднимается.
На пустынной площади села расхаживали гуси. Они поднимали головы и смотрели в небо поверх домов, поверх труб, из которых тянулся дым, поверх дыма. Гуси поднимали головы и все всматривались, не летят ли где-нибудь горизонтом дикие гуси, чтобы найти их взглядом и долго смотреть им вслед.
Но радио на площади уже говорило. Оно говорило мужским внушительным голосом. И этот голос через каждые несколько слов повторял одно и то же слово:
«Сталинград».
Енька шел мимо школы, вдоль забора. Он смотрел под ноги, как бы припоминая что-то. И в земле, истоптанной множеством ног, он заметил что-то красное. Енька ковырнул землю носком сапога. Это была старая, истертая тридцатирублевая бумажка. Она была истерта, но не выцвела. И кто знает, может быть, она лежит здесь уже больше года…
Далеко в поле, спустившись в лощину, Енька еще долго слышал радио, шагая сквозь туман. Слова уже сливались, разобрать их стоило труда. Но одно из них раздавалось даже издали громко и напряженно. Голос произносил его особо, и далеко за Иртышом оно отдавалось. А там повторяли его печальным женским вздохом, будто звали к себе:
– Сталинград!
С другой стороны, в дальнем поле, тоже отзывался кто-то – голосом детским, вопросительным:
– Сталинград?
Ближе, под берегом, отвечал обоим этим голосам третий, мужской, отвечал угрюмо, но успокоительно:
– Ста-лин-град…
А в лесах за Иртышом слово уходило все дальше и дальше аукаться и откликаться:
– Ста-лин-град…
– Ста-ли-гра…
– Ста-ли…
– Сты-э-о-у-а-а-а…
По лощине густо двигался туман, и Еньке все казалось, что впереди кто-то маячит. Он пригляделся, но никого не увидел.
12
Енька прошел в сад смороженной, словно синим железом прохваченной дорожкой. Дорожка, еще усыпанная листвой, скрипела под сапогами, как мартовский снег. Здесь по-прежнему дул ветер, теперь он посвистывал в облетевших деревьях. За дорожкой сторож деревянными граблями сгребал почерневшую листву.
На голых ветках прыгала синица, заглядывала туда и сюда, словно искала кого-то очень знакомого. «Не ходит уж, поди, на свои прогулки, – подумал Енька. – Куда уж ей. Холода начались. В палате, видно».
В окна больницы уже были вставлены вторые рамы.
И Енька пошел к врачихе.
– Чего это ты? Соскучился? – спросила сестра, та самая, что обматывала тогда вокруг головы мокрые волосы.
– К Веронике Паловне, велела провериться, – сказал Енька.
– Накинь хоть халат, больных перепугаешь. И так чуть живы.
Енька накинул халат на телогрейку.
– Ваша, что ли, это больная? – спросила сестра.
– Какая?
– Да вот на лавке тогда прикорнула.
– Наша. Как она?
– Никак. Чего с ней случится… Еще, поди, не раз придет. Чего к ней никто не ходит?
– Нет у нее никого.
– Не было бы никого, в больницу бы не попала, – усмехнулась сестра, поправляя вокруг головы длинную желтую косу.
– Я пойду, – сказал Енька.
И пошел.
В коридоре горел свет. Больные играли в домино, только не было среди них дяди Коли. Все так же стояла в коридоре кровать, и на ней лежала та самая старуха. Она издали увидела Еньку, попыталась поднять голову и пошевелила губами. Енька свернул на лестницу и поднялся на второй этаж.
На столе поблескивал высокий графин с водой. Врачиха поглаживала графин широкой маленькой ладонью и приветливо смотрела на Еньку.
– Ну, как себя чувствуешь, молодец? – сказала она и побарабанила по графину длинными ногтями.
– Нормально.
– Сейчас увидим.
Врачиха заглянула Еньке в зрачки, поводила перед глазами сверкающей чайной ложкой. Потом велела снять сапог и задрать штанину. Она взяла со стола деревянный молоточек, подхватила мягкими холодными пальцами Енькину голень и закинула ему ногу на ногу. Она резко, но ласково стукнула молоточком по колену, а Енька смотрел на графин и вспоминал, как врачиха стояла тогда ночью здесь за спиной главного врача.
– Все в порядке, – сказала врачиха, – долго будешь жить. И не раз женишься. Только приглашай меня на все свои свадьбы.
– Вероника Паловна, – сказал Енька.
– Что? Я вас слушаю, молодой человек, – заглянула врачиха ему в глаза.
– А как та больная?
– Какая? Что ночью тогда приняли? Все как положено. Скоро выпишем. Из вашей деревни она, что ли?
– Нет. А та? Эвакуированная?
– Эта девочка умерла. И умерла-то неожиданно. – Вероника Павловна побарабанила ногтями по графину. – Оказывается, у нее был крошечный осколок в околосердечной сумке. А мы думали, что просто старое ранение легких. Очень милая была девочка.
Графин исчез, и вместо него закачалось просторное синее небо. Врачиха что-то говорила, но Енька не слышал. В синем небе шла веселая быстрая туча. Под тучей стояли горы, поля, текли маленькие быстрые реки. В туче прогремел гром, и солнечный густой дождь опрокинулся на землю. Реки вздулись и засверкали. Повсюду с шумом задвигались травы, они легко поднимались, вырастали на глазах и росли прямо в небо.
Енька встал и вышел из кабинета.
В саду пустынно дул ветер, и сторож сгребал садовые листья. Енька прошел к лавке. На калинах не было листвы. Под лавкой валялась голубая глиняная чашка. В чашке суетилась синица и подбирала забытые кем-то крошки хлеба. Енька постоял и пошел.
– Енька! – окликнули его из-за ограды.
Енька поднял глаза. За оградой стояла Наташа.
– Ты скоро выпишешься? – спросила Наташа.
– Я уже выписался, – сказал Енька.
– А чего же ты в халате? Пошли домой.
Енька снял халат и положил его на лавку возле подъезда.
– Здоро́во, – сказала Наташа.
– Здоро́во, – сказал Енька.
Они пошли в деревню.
– Вот дура-то я, – сказала Наташа весело.
– Угу, – сказал Енька.
– Куда меня леший потащил? Зачем мне это надо? Намаялась так, что век теперь никуда не поеду.
– Угу, – сказал Енька.
– Я ведь пошла провожать. А сама тайком на пароход села. Еду, а не подхожу к Анисье Викторовне. На пристани в Омске я ее совсем потеряла. Хорошо, деньги на дорогу обратную были. А билетов ни за что не достать. Все лезут. Народищу! Так я назад опять без билета ехала. Хорошо, тетенька добрая попалась, она меня и провела на пароход, и кормила все.
Наташа говорила, а Енька шел.
Они шли долго.
Потом Енька сказал:
– Ты знаешь, ты иди домой. Мать тебя там ждет. А я похожу пойду.
– Что с тобой? – удивилась Наташа.
– Ничего, – сказал Енька. – Я похожу пока. Мне походить надо. Иди.
– Странный ты какой-то, – сказала Наташа.
– Ладно, – сказал Енька. – Я похожу пойду.
Весь день в полях морозно гудела осень. Пустынно светило прохладное солнце. И кто-то запел однажды вдалеке:
Наступила пора золотая…
Он запел и осекся.
Енька не слышал этого человека. Он удивлялся, как пустынно в поле, как далеко видны повсюду леса и как порой становится жутко одному среди леса.
БЕГУЩИЙ ГОРИЗОНТ1
В звездную ночь сияют снега. Светятся они сами по себе, а не от звездного света. Сиянье их пепельно, и если долго смотреть не мигая, то кажется оно черным. И в черном мерцании этом вспыхивают и пробегают зеленые, малиновые, синие, желтые мельчайшие искры, от которых ломит глаза. Но взгляду легко, и только на душе неспокойно.
В небе нет ни одной белой звезды. Огромная фиолетовая колышется там, на юге. И возле нее три синих, маленьких. Левее – голубая, она не мерцает. Стоит и внимательно смотрит. А дальше – красные: одна, две, три. Небольшие, тревожные. И зеленая искрится чуть пониже. Готова погаснуть. Нет, не гаснет. А в вышине взорвалась и посыпалась еще одна, малиновая. Летит длинно. И слышится шелест. Все летит, раскаляется, стала огненно-желтой. И над самой землею исчезла.
Сани катятся в лес по дороге. Лес огромный, глухой. Пахнет сухо из леса, не снегом – полынью. И дорога трещит под копытами, колется, и подскакивают промерзлые лошадиные котяхи. Сами собой. Как живые. Сани пошли под уклон. Побежали. Сосны молча стоят и не ждут никого. Где-то соболь скользит по ветвям. Сам лоснится, как снег, тем же черным сияньем. Сыплет изморозь с веток. Сосны? Сосны молчат. Им все равно. Пусть идет, осыпает, тревожит.
– Енька.
– Чего тебе?
– Этот лог?
– Этот. Косой.
Конь заиндевел, словно вьюгой покрылся.
– Енька, про него в Уразае говорят?
– Про него. Это самое место.
– Бабка тут твоя заблудилась?
– Тут. Страшное дело. Уж доныне, как возьмется рассказывать, на глазах вся седеет. Привелось ей.
Просторный рослый сосняк расступился. Сосны шагнули высокими длинными шагами в стороны и показали впереди низкий ряд с редкими, изогнувшимися сосенками. Они стоят на матовом снегу и не то разговаривают просто, не то, словно на базаре, все торгуются. Вот сосенка в заснеженной шапочке вытянула руки и предлагает елке корзину брусники. Она доказывает, что брусника самая груздястая, и стоит только положить ее в рот, как она потечет по языку, что вино. Елка стоит в тулупчике и делает вид, что ничего особенного в этой бруснике нет и что вообще ей брусники не надо. Однако сама посматривает на корзину. А вон другая куцая сосенка без юбки, только накинула телогрейку, жмется от холода и шепотом рассказывает соседке, что у нее под корнями свернулись и спят гадюки. Целый клубок. Еще с осени гадюки пробрались туда по норам, переплелись, спят и не дышат. Наверное, они о чем-то думают, а если думают, то, конечно, о ней, о сосне, и замышляют что-то. Что ж теперь будет, когда они весной проснутся? Соседка стоит, потягивается, закинула за голову руки, смотрит в небо и, судя по всему, не слушает рассказчицу. Рассказчица поплотнее запахивает фуфайку и глядит по сторонам: с кем бы другим посудачить, кто слушать будет? Ага! Вон сани. Ну да, в них едет тот самый деревенский парнишка, чья бабка полвека назад однажды здесь заблудилась. Сосна наклоняется над самой дорогой и, пока сани не проскочили, быстро-быстро все рассказывает:
«Я помню эту бабку. Ох какая она была тогда молодая! Красивая, русая. Она пришла тогда с утра к нам по бруснику из Уразая. И ведь долго она тут ходила. Да и не так уж далеко была от дороги. Берет она лопаткой бруснику, разогнулась, глядь – старичок стоит. Беленький такой весь, небольшой. Глаза синие. «Пойдем, – говорит старичок, – пойдем, девонька, я место тебе покажу». Встала она и пошла. Идет, идет и остановиться не может. А он ее все кругами водит. Все вдаль да вдаль от дороги. Уж солнце садится, а она все идет. А старичок ведет да не оглядывается. Мы-то видим все, знаем этого старичонку. Да помалкиваем: не наше дело. Смекнула тогда бабка-то твоя. Остановилась она. Переодела платье да рубашку на левую сторону да лапти с одной ноги на другую переобула. Видит, нет старичка. Так она, бедная, тогда два дня отсюда выходила. Все аукалась. А старик то с той, то с другой стороны откликался, запутывал. А мы помалкиваем, боимся Хозяина обидеть…»
Уж сани прошли, а сосна все рассказывает и смотрит вслед. Потом она опять поворачивается к соседке и продолжает свое. А соседка все в небо глядит, не слушает.
Сани спускаются в лог. В логу мглисто. И мгла не стоит, а ходит по логу, задумала что-то неладное. Пахнет чистой водой. И верно, дном бежит ручей. Ручей не замерз. При свете звезд он чуть блещет среди берегов, обросших сосульками, инеем.
– Нехорошее это место, – говорит Енька, – всегда здесь тяжело на душе. Сам знаешь, что нет никого, а страшно.
«Гуу», – сказал кто-то невдалеке и потом взвизгнул, заохал, будто кто его схватил за душу и волочит по гвоздям.
– Вот паскуда-то орет, – зло говорит Енька. – Он, гад, не одного человека тут с ума смутил. Филин, собака, измывается.
Крик долго бродит по лесу и отдается то там, то здесь, вроде филин глядит из каждого куста.
– А отчего он, Ень, так кричит?
– Делать ему нечего. От скуки.
Сани поднимаются в гору. И лес в гору идет, но слегка расступается. И видно небо. Небо слегка покрывается светом вдоль горизонта.
«Гуу», – опять говорит невдалеке филин и опять воет и плачет.
– Пошел, варнак, – говорит со злой спокойностью Енька и замахивается в сторону крика бичом, словно филин летит на него.
Конь поводит ушами, усиливает шаг.
Едут молча. В лесу как будто кто-то прошел.
– Волки?
– Волки, – говорит Енька. – Это волки ходят. Пусть шатаются, жрать им нечего. А то, знаешь, случай один рассказывают. Выдумали, конечно. Ехал тут мужик. Ночью тоже. Зимой. И вот как раз на этом подъеме человек из лесу. Конь, как увидел, прямо шарахнулся. Подходит он. «Подвези», – говорит. «Садись». Сел. Конь идти не может. Бьется, аж снег под копытами тает. «Что за оказия?» – думает мужик. Оглянулся. А этот человек сам в санях сидит, а ноги свесил. И ноги длинные, как жерди, по дороге волокутся. Замахнулся тут мужик на того человека бичом. Тот прыг из саней и старичком таким беленьким в длинной рубахе стал. Захохотал старичок и босиком в лес побежал.
Дорога вышла на взгорок. Лес поредел, а небо впереди просветлело. И там, в глубине леса, снова послышался шорох. Раздвинулись молоденькие широкие сосны, и показался человек. Он шел из лесу к дороге. Он шагал по насту, почти не проваливаясь. Он был высок.
– Человек идет, – сказал Олег и почувствовал, как у него захватило дух.
– Где? – Енька напряг лицо, приподнялся, и видно было, что он крепко вцепился в вожжи.
Человек шел неторопливо. Он был в собачьей шапке, в собачьих рукавицах, в подпоясанной фуфайке и в высоких валенках. За поясом торчал топор. Человек подошел к дороге. Топор блестел отточенным лезвием, как темная вода.
– Подсадите, парни, – сказал человек знакомым голосом.
– Садись, Григорий, – сказал Енька облегченно.
Это был Гришка Останин.
– Здорово, внук, – сказал Гришка Олегу, разваливаясь в санях.
– Здравствуйте.
– Какой же он тебе внук? – сказал Енька.
– Внук и есть. Санька-то мне кто? Племянница. А Сашка ему дядя. Вот и получается, что внук.
Гришка снял свои огромные собачьи рукавицы, достал из-за пазухи кисет и принялся сворачивать цигарку. Рукавицы, каждая величиной с Гришкину голову, лежали в розвальнях и светились во тьме, переливались. Из рукавиц пахло табачным потом и теплом.
– Чего это ты по ночам лесуешь? – спросил Енька. – Колдовался, что ли?
– Где уж тут колдоваться. Век бы не пошел на ночь глядя. Да надоть.
– Чего это?
– Дров Саньке напасти хучь на годишко вперед.
– А чего по ночам? Воруешь, что ли?
– Повестку вчера получил. На фронт послезавтра. Вот и тороплюсь. Сашка-то, он ведь тоже мужик непривычный. Солдат, он солдат и есть, только что токарничать и может. А так пока будут им дрова на долгое время. Они, дрова, в лесу ведь стоят, есть не просят.
– До тебя, значит, очередь дошла, – сказал Енька.
– Дошла и до меня. Теперь, гляди, скоро и до тебя очередь дотянет. Конца войне ох как не видно. Оно до границы-то и пешим от Волги за год не дойдешь. А тут с войной. А там и дале, видно, идти придется.
– Ну, дотянет так дотянет.
– Только бабы и будут одни на деревне по-кошачьи выть, – затянулся Гришка самосадом.
– Это уж так, – согласился Енька.
– Ну, правда, выход есть один, – засмеялся Гришка. – Калина за мужика будет.
– Если до конца себя в могилу не изведет, – сказал Енька.
– Будет за мужика, так не изведет.
Сани вышли в поле. Пошли длинной равниной, и дорога чуть подгористым спуском покатилась к деревне. За деревней среди желтого зарева показала алый край луна. Луна прибывала огромная, шире деревни. Она прибыла до половины, и зарево исчезло. Небо вокруг луны стало пронзительно черным, и звезды слегка поблекли. Луна обдала снега красной мглой, и те загорелись ровным зеленым светом. А звезды по всему небу стали обыкновенные – белые.
Олег смотрел на луну и представлял себе, как видна она из разных деревень, городов, из таежных чащ. Как смотрят на нее отовсюду люди и звери. И вдруг он ощутил, что действительно не луна встает, а Земля летит ей навстречу в своем круговом движении. И Земля сама поднимает над собой этот сияющий шар, поднимает над собой звезды, которые вон уж как передвинулись. Олегу показалось, что Земля летит навстречу этому красному свету, словно под гору.
Видны уже деревня и мельница над озером. Мельница промерзла, она не машет крыльями. Деревня замерла, и только один огонек горит во всей улице. Деревня вместе с мельницей и озером тоже летит туда, под луну, и летит вся дорога, и сани, и он, Олег, в санях – на гребне этого полета под звездами в самой высоте неба. От всего этого кружится голова. Кажется, если сейчас привстать в санях, то не устоишь, а покатишься с ног навзничь.
Розвальни остановились возле Енькиного дома. И словно толкнуло Олега в спину, как на внезапном перерыве быстрого хода поезда.
Огонь горел в Олеговой избе.
Дед лежал на кровати. За столом устроились Мария и Санька, а между ними бабушка.
– Отвезли бабке полушубок? – спросила Мария.
– Отвезли, – сказал Олег.
– Как там бабка?
– Хорошая бабка.
– Не выменял муки в Уразае?
– Нет там муки.
– А масла не нашел? – спросила бабушка.
– Масла, говорят, мало. Самим нужно.
– Дурачье, – сказал дед. – Где они еще такой костюм найдут! Бостоновый.
– Нам, говорят, он ни к чему. Их, говорят, эвакуированных, вон сколько ходит с костюмами по деревням. У нас, говорят, уже есть.
– Ну, ворожи, Степановна, – сказала Санька.
– На войну, что ли?
– Давай как раз на войну. Кто кого победит, – сказала Санька.
– Какой же он у нас будет? – задумалась бабушка. – Трефовый, видно.
Бабушка нашла трефового короля и положила на самую средину стола. Толстый золотой обрез карт поблескивал у нее в пальцах. Король трефовый лег на средину и грозно стал смотреть на всех двумя головами. На каждой голове короля сияла золотая вспученная и вздутая корона, по короне горели красные и синие камни. На плечах лежал красный плащ. В правой руке король держал синее копье, а в левой – серебряный щит. Король прикрывался щитом. Он смотрел на всех строго, но с интересом ожидал, что же будет дальше. Бабушка вынула из колоды одну карту и положила ее под короля. Король насторожился. Бабушка вынула еще три карты и накрыла короля ими, как бы успокоила.
– А какой же у нас будет король Гитлер? – спросила Санька.
– Пиковый, – сказала бабушка.
– Злодейский король, – пояснила Мария.
– И казенный, и злодейский, – сказал дед.
– Так они же оба казенные, – возразила Мария.
Бабушка разделила колоду на четыре части и разложила их стопками вокруг накрытого крестового короля. Из этих четырех стопок она стала раскладывать карты вокруг. По три карты она положила с каждой из четырех сторон и потом еще по две в промежутках. Оставшиеся карты бабушка отложила в сторону.
Пикового короля нигде не было.
– Куда же пиковый-то делся? – удивилась Мария.
– В кабак пошел перед трудным делом, – сказал с кровати дед. – Выпить ему надо: в ворожбу попал.
Бабушка осторожно вынула из-под трефового короля карту, перевернула и тоном все объясняющим сказала:
– Вот он. Под самым сердцем.
Пиковый король поблескивал низкой зубчатой короной из серебра и золота. В короне грозно мерцали черные камни. Развевался черный плащ. Правой рукой король сжимал меч, а левую собрал в кулак. Он враждебно смотрел на окружающих, видя, что это люди чужие и нужно ждать от них или подвоха, или неприятности. Свет керосиновой лампы бил ему в лицо, и пиковый король жмурился и все старался отвернуться.
Бабушка сидела большая, спокойная под шалью. И шаль тоже походила на плащ. Бабушка долго держала пикового короля в большой тяжелой руке, разглядывала его издали, словно поднести его ближе было ей неприятно. Потом бабушка открыла трефового короля. Король обрадовался и стал озираться на соседние карты, выясняя, в какое окружение он попал. Но озирался он так, чтобы никто не подумал, будто его это особенно интересует: просто королю больше некуда посмотреть.
Бабушка некоторое время разглядывала то того, то другого короля, потом соседние карты.
– Ну, чего там? – тревожно спросила Санька.
– Ну да, под сердцем у него пиковый король. Беспокоит он его.
Трефовый король поморщился, словно бабушка говорила не совсем верно.
– И вот неприятности, хлопоты пустые, – бабушка трогала каждую карту пальцем.
Трефовый король искоса следил за ее пальцем и вглядывался, где у него неприятности, а где пустые хлопоты.
– Болезнь, что ли, у него впереди или какие-то трудности?
Трефовый король насторожился, но насторожился недоверчиво. Пиковый же король проявил оживление, ему это понравилось.
Бабушка с участием посмотрела на трефового короля.
– Ох уж, господи, – сказала Санька.
– Трудно ему, – сказала бабушка.
Трефовый король чуть пожал плечами: мол, что поделаешь – дела. Пиковый король с одобрением смотрел на бабушку, всем своим видом давая понять, что у него-то уж трудностей нет, и явно ждал, что бабушка скажет это вслух.
– Но, между прочим, пикового короля ждет удар. Большие, очень большие неприятности и… – Бабушка задумалась.
Лицо пикового короля стало злым. Он посмотрел на бабушку таким взглядом, будто хотел убить ее.
– И… – продолжала бабушка, – и… посмотрим, что здесь. Так, так, так. У трефового впереди тоже заботы немалые…
Трефовый король сжал губы, зашевелил усами и глазами приказал бабушке замолчать.
– Немалые… Но они пройдут. А пикового короля, вот я теперь это вижу ясно, ждет в конце концов скорая смерть. Да, смерть. Смерть без всякой болезни. Ничего ему хорошего.
Пиковый король сначала закрыл глаза, делая вид, что все это его не касается. Но не выдержал и засуетился, хотел вырваться из бабушкиных пальцев и уйти. Но бабушка смешала карты и сунула его в колоду. Трефовый король остался на столе. Бабушка еще несколько раз карты тасовала, раскладывала, одни оставляла, другие выкидывала. В конце концов она сказала то же, что и в начале гаданья. Вслед за этим она собрала тузов, королей, дам и шестерки – все сунула в кучу, еще раз перетасовала и положила колоду на стол.
– Погадай на Петра, – попросила Мария. – Может, жив. Хоть и хиромантия это все, а будто бы…
– Подожди. Карты пусть отдохнут, врать станут, – сказала бабушка.
– А ты под себя положи, они и отдохнут быстрей, – сказала Мария.
– Мне нельзя, я ворожейка.
– Тогда я, – сказала Санька.
Она взяла со стола колоду, положила ее на лавку и села на карты.
Подождали. Помолчали. Бабушка взяла колоду из-под Саньки, стала гадать на Петра – на червонного короля. Червонный король был в шлеме, в латах и с кинжалом в руке. Он усталыми глазами смотрел со стола на Марию и совершенно не оглядывался на другие карты. Они его не интересовали. Он даже не слушал, что говорит бабушка. Хотя бабушка говорила, что он жив, что сейчас ему хорошо и он даже весел. Все это она растолковывала так: Петр был ранен, лежит в госпитале и, видимо, поправляется. Мария слушала гаданье и грустно качала головой.
А Петр действительно лежал, но легко и весело ему не было. Он лежал в снегу среди обломков на берегу Волги, в разбитом снарядами здании. Здание было разбито, но еще стояло. Оно стояло кирпичное, большое, и морозный ветер свистел в нем, как в трубе. Город уже не горел, здесь нечему было гореть. Перестрелка утихла. Не стреляли ни наши, ни немцы. Петр смотрел сквозь пробитую стену вперед и ждал, когда появятся немцы. Впервые в этом городе они пойдут во весь рост. Они поднимут руки, опасаясь, как бы на них не упало небо. И Петр думал, что нужно будет встать и самому тоже выйти из этого здания с автоматом, чтобы вести немцев туда, куда они так рвались. Но Петр боялся, что не сможет подняться с земли, потому что не осталось в нем уже никаких сил. И он сам удивлялся тому, что до сегодняшнего дня силы в нем все-таки были. Он уже давно не видел собственного лица и забыл, какое оно. И если бы со стороны сейчас можно было на него взглянуть тому, кто захотел на него погадать, то не лежать бы Петру на столе червонным королем. Сам трефовый король выглядел бы в эту минуту против него бубновым, юным и безусым. Но Петр не думал об этом.
– Хоть и хиромантия все это, а как-то легче, – сказала Мария, вставая из-за стола. – Спасибо тебе, Матрена Степановна.
– Чего спасибо… – сказала бабушка. – Спасибо было б, если б все сбылось. А так что, карты – карты и есть. Так, разнообразие.
Мария накинула полушубок. Дядя Саша и Санька оделись тоже.
– Ну, мы пойдем, – сказал дядя Саша. – Спокойной, мама, тебе ночи. Добрая ты ворожейка.
– А ведь, сынок, все ворожейки добрые, – засмеялась бабушка. – Кому хочется неприятное высказывать. Может, для того и ворожишь, чтобы человеку легче было… Ты, Саш, гитару возьми. Глядишь, поиграете когда.
– И верно, – сказала Санька, – возьми гитару. А то все думаю, чего это с тобой не хватает…
Дядя Саша достал с полатей гитару. Санька взяла ее под мышку, и все вышли в сени, валенками ощупывая в темноте половицы.
Бабушка дверь заложила и вернулась, поеживаясь и потирая руки.
– Ну и слава тебе пока, господи, – говорила она, стаскивая с уснувшего деда валенки.
2
Со стороны села неторопливым шагом вошла в деревню женщина. Шагала она так, будто волочила по снегу какие-то тяжкие цепы. И, глядя из окна, Олег подумал, что к старухе Епифаньевой пришла из соседней деревни какая-нибудь древняя родственница. Женщина шагала с чемоданом в руке. Женщина постояла на дороге и свернула к старухе Епифаньевой.








