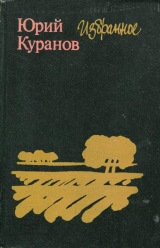
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юрий Куранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 44 страниц)
А рожь вокруг них раскачивалась, тяжелая, длинная. И дышала.
– Куда он тебя утащил? – спросил наконец Олег.
– Кирилл-то? Никуда. Вырвалась я.
– Ты ходишь вот со мной, а они уйдут за это время.
– Не уйдут. Здесь они будут.
– А чего им здесь надо?
– У Кирилла брат на войну идет. Доброй волей отдался. Пожить, говорит, по-человечески хочется. Вот Кирилл и пришел честь отдать. А остальные по своим делам пришли. Стой, поворожу!
Олег остановился. Цыганка долго стояла, глядя ему в глаза, потом ухмыльнулась и сказала:
– Как меня зовут?
– Не знаю.
– А ты узнай.
– Как же я узнаю?
– Угадай сразу.
– Я ведь не знаю ваших имен.
– У нас имена ваши.
– А у нас имен много.
– Инка меня зовут, – сказала цыганка. – Так ты меня и зови.
И дальше они зашагали молча, глядя в разные стороны, словно между ними кто-то прошел и оставил сладкое ощущение тревоги и ветра.
Площадь гудела. Возле фотографа шумела очередь. Очередь шумела возле магазина. Где-то гремела гармошка. С разных концов раздавались частушки и сыпался говор, так что трудно было разобрать, кто о чем поет и говорит.
Мария, Енькина мать, шла по кругу, выгнув шею, выпятив живот, раскинув руки, вся закостенев. Но ступала мягко и осторожно, словно шла по трясине. Гармонист, потный, хмельной, рвал гармошку, крутил белками глаз и кривил губы. Вокруг стояли Санька, Калина, бабушка – деревенские. Мария смотрела на всех пристально, вышагивала в кругу, как бы разыскивала среди них чье-то лицо. Потом она вдруг согнулась, ударила каблуками в землю и распрямилась, будто подняла тяжесть. Она подошла к Калине и вызвала ее в круг.
Калина топнула, развела плечи, вся распахнулась и, широко раскидывая ноги, присядкой вышла из толпы. Толпа расступилась шире, и Калина, дрогнув всем телом, пошла по земле. Она не смотрела ни на кого. Она смотрела в небо и поводила бровями. Кто-то далеко на краю площади звонко крикнул: «Эх и голова ты моя, головушка. Зо-ло-та-я ты моя милаша-а-а!..» Калина тряхнула головой, щелкнула языком и опять пошла присядкой, высоко вскидывая длинные ноги. И закричала: «Эх, мужики, жизнь нашу бабью… жизнь оборони, да вином залей, да телом заслони!» Она была пьяна, но на ногах стояла твердо. Она остановилась, в упор посмотрела на Инку, взяла ее за руку и повела за собой.
Инка завертелась у Калины под ногами, мелко трясясь всей спиной, и побелела лицом. Как на морозе. Енька подошел, встал рядом и сказал Олегу захолонувшим голосом:
– Вот это пляшет…
Калина вдруг остановилась, вытолкнула из круга Инку, подошла к Саньке и сказала: «Теперь ты пляши. Бабьи пляски наши». Саня опустила лицо, и оно налилось тихим светом. Она вышла, покраснела и с опущенными глазами ласково заторопилась по кругу. «Эх, лихого молодца и пуля не возьмет!» – крикнул кто-то на другом краю площади. Саня шла и все ниже опускала лицо. Бабушка смотрела и покачивала головой.
– Пойдем деньги собирать, – сказал Енька.
– Какие? – спросил Олег.
– А по земле знаешь сколько троек да рублей…
– Где? – спросила Инка.
– Везде.
– И правда, – Инка глянула кому-то под ноги и бросилась в толпу.
Ребята рассыпались по площади. Денег валялось на земле множество. Рубли, пятерки, мелочь. Олег быстро насобирал рублей десять и возле школьной ограды вдруг увидел большую красную бумажку. Олег подошел и понял, что это тридцатка. На тридцатке тупым каблуком туфли стояла молодая низенькая татарка. Татарка смотрела во двор. Олег остановился рядом и стал ждать.
Во дворе все теперь сидели на земле. Перед ними стоял военком и строгим голосом говорил что-то, каждому взглядывая в глаза. Все смотрели на него и слушали с отвердевшими лицами. Олег увидел Петра и Митьку. Они сидели рядом и смотрели на военкома. Оба уже были острижены и стали похожи друг на друга.
– Су-ка! – раздалось вдруг от школьной калитки.
Все оглянулись и замерли. Большой, бритый, в бумажном пиджаке, бумажных брюках и в низких сапогах гармошкой, мужик с лиловым лицом глядел на часового. Часовой преградил ему выход винтовкой и зло смотрел в его пьяное лицо. Пьяный рвался на площадь.
– Я, сука, своими руками кровь пойду по свету проливать. А ты меня, гад, не пускаешь! Я, может, Гитлера руками задавлю… – Пьяный наклонил бычью шею и ударил сапогами в землю. – Я, может, последний стакан хочу на свете выпить, а ты меня… – Мужик огромными руками вырвал у часового винтовку и швырнул ее на землю.
И вдруг растерялся и встал, не решаясь выйти. Часовой нагнулся, схватил винтовку. И щелкнули два затвора.
Военком что-то завершающе сказал мобилизованным и пошел к калитке. Он ледяным взглядом посмотрел в глаза мужику. У того глаза налились кровью, и глухим голосом пьяный спросил:
– Ну, чего ты? Чего ты? Ишь, не видел. Еще насмотришься.
Военком продолжал смотреть.
– Я, может, голыми руками, – начал пьяный, осекся, повернулся и пошел в глубь двора.
К нему подошли двое и увели в школу.
Подбежала Инка. Она выгребла из-за пазухи целую горсть мелочи и бумажек. Она рассмеялась и сунула деньги назад.
– Конфет купим, – сказала она.
Вдруг она присела и спряталась за Олега.
Невдалеке стояла тощая и старая цыганка в алом длинном платье, с бусами на шее. Бусы были из мелких стеклянных камушков. Цыганка ворожила той самой женщине, что сидела давеча под телегой.
– И скажу я тебе, – нараспев говорила цыганка, держа женщину за руку. – И скажу тебе: страха-тьмы не видать. Будешь век свой жить с мужиком на печи. Он придет, ясный сокол твой, пуля-штык не возьмет его. Семь крестов впереди, семь крестов позади охраняют его, берегут твои рученьки, сердце, матушка…
Женщина стояла, не отнимая руки, смотрела в сторону, и по лицу ее текли слезы. Цыганка все силилась заглянуть ей в глаза, говорила торопливо. Но женщина отворачивала лицо. Цыганка все говорила, и голос ее менялся и менялся. Он становился неуверенным. Женщина отняла руку, полезла за пазуху и достала пятерку. Цыганка вдруг заплакала, взмахнула руками, как бы обороняясь от пятерки, и пошла в сторону.
– Пойдем отсюда, – сказала Инка, – мать это моя.
За школьной оградой медленно, несколькими грозными голосами поднялось низкое пение. Песня сделала два шага, помедлила, сделала еще два и пошла, ступая по жаркой земле. Голоса росли, к ним прибывали новые, и на площадь пошла тяжелая волна. Площадь затихла, все замерли, а Санька остановилась в кругу с опущенным лицом.
Пели «Орленка».
Орленок, орленок, мой верный товарищ…
Кто сидел – начали вставать. Многие взбирались на телеги и, вытянувшись всем телом, смотрели в школьный двор. Голоса усиливались каждое мгновение, от них становилось жутко, сердце немело и подступало к горлу.
Орленок, орленок, идут эшелоны…
Пение перешло на площадь, здесь и там его подхватывали молодые женские голоса. Дед смотрел в землю и тихо повторял:
– Орленок, орленок, мой верный товарищ…
Енька стоял со спокойным лицом, засунув руки в карманы. Инка смотрела на Олега, похлопывала себя по животу и позвякивала там за пазухой мелочью. Наташа притопывала ногой, а Зина прижала к щекам ладони.
Песня кончилась, и мобилизованные начали строиться. И вместе с колонной площадь, оставив телеги, узлы, костры и коней, поднялась и двинулась к пристани.
У пристани стоял белый с большими красными колесами пароход. Пароход был пуст. Только матросы на корме и на носу сидели в тельняшках, покуривая папиросы. Над водой низко стлался папиросный дым. Сквозь дым из-под обрывистых песчаных берегов проносились черные стрижи.
Колонна подходила к пристани. Военком шел обочь колонны, иногда вынимал из галифе платок, снимал фуражку и вытирал бритую голову. Он шел слегка наклонившись, подобрав грудь, будто в живот ему была вставлена пружина. Мобилизованные шли с мешками за спиной, правой рукой придерживали лямку, как бы уже несли на плече винтовку.
Площадь шла следом, на расстоянии, тоже молча, сквозь пыль, поднятую колонной. Чем ближе подходили к пристани, тем плотнее площадь прижималась к колонне, охватывала ее, словно хотела отрезать от реки. Но, выйдя на берег, площадь встала по обе стороны трапов и сгрудилась.
Колонна с ходу по двум трапам стала подниматься на борт. В толпе кто-то вскрикнул и запричитал. Голос был Санькин. Все молчали. Санька задохнулась и тоже смолкла.
Мария стояла у самого трапа, прижав к груди кулаки и глядя каждому в лицо. Рядом стоял Енька, спрятав руки в карманы. Мобилизованные шли медленно, не поднимая голов, не оглядывались, только трапы скрипели у них под ногами.
Пароход накренился и чуть осел.
Показался Петр. Он издали заметил Марию и Еньку. Он смотрел на них. Поравнялся. Лицо его было потным, скулы обтесало, и под глазами глубоко легли складки.
– Ничего, ничего, – сказал он, проходя. – Увидимся.
Мария бросилась к нему, что-то выхватила из-за рукава и хотела сунуть ему в карман. Но руки ее тряслись, и она в карман не попала, а скомканный, шитый еще в девичестве, платок упал на трап. Петр хотел поднять платок, но сзади напирали. Следом шедший Митька наступил на платок, потом нагнулся, встряхнул его и передал Петру.
Пароход грузно осел, а колонна все шла.
Бабушка, массивная, сложив руки под грудями, стояла в стороне и замершими глазами смотрела на пароход. Мимо пробежала Калина. Крикнула:
– Где он?
– Прошел уже, – сказала бабушка.
Калина бросилась в толпу, расталкивая ее животом и грудью. Пробилась к трапу, но увидела только спину Митьки. Встала, всплеснула руками и тихо сказала:
– Ушел.
К ней протиснулся откуда-то из толпы Бедняга, взял за плечи и отвел в сторону.
– Ничего, не реви, девка, – сказал он ласково. – Отвоюет свое и придет твой мужик с орденами. Ныне без орденов не будут возвращаться.
– Ох, чует мое сердце, не вернется он, – проговорила Калина, кусая губы. – Не сносить ему головы, горячая башка.
Колонна кончилась. Трапы сняли. Ударил гудок.
Пароход всеми бортами сидел в воде. Он покачнулся, повел колесами и не сдвинулся. Еще покачнулся, пуще осел и, по всем палубам забитый мобилизованными, отвалил. С парохода кричали, махали руками. Грянула песня. И голоса потонули.
Площадь молча берегом двинулась за пароходом. Пароход еще прогудел сквозь музыку и крики. Торопливо работая колесами, зарываясь в реку, пошел.
Все на берегу заторопились. Олег побежал. Инка быстро шла рядом с раскрытыми от удивления и какого-то страха глазами. Мария бежала невдалеке, прижав руки к груди и сжав губы. За ней поспевал Енька. Он вдруг охнул, сел в траву, что-то выдернул из пятки и побежал дальше, прихрамывая.
Пароход прибавлял скорость, толпа ускоряла бег. Огромными прыжками двигался вдоль самого берега цыган с развевающейся бородой. Он разматывал на шее атласный платок, сорвал его и стал махать над головой. За ним спешили цыганки в развевающихся и хлопающих платьях. Калина мчалась с раскрытым ртом и кричала что-то. Потом она остановилась и махнула рукой. Олега догнала Санька с прижатыми к лицу руками. Она натыкалась на чьи-то спины, расталкивала их. Бежала она головой вперед, словно была ранена.
Пароход уходил и сворачивал за излучину. И тут одни перешли на спокойный шаг, а другие кинулись из последних сил.
За излучиной уже пропала музыка, а пароход еще раз прогудел – и все. Олег задыхался от бега, но остановиться не мог. Наконец он оглянулся и увидел, что Инки нет. Он остановился, озираясь. Он увидел бабушку. Она все шла быстрыми короткими шагами, покачивалась всем полным телом, осторожно отстраняла встречных, смотрела вслед пароходу и порой поднимала над головой руки.
А многие все бежали, и тоже вытягивали руки, и не могли остановиться, и берег качался у них под ногами.
Какая-то женщина с платком в руке топталась на месте, хватала воздух ртом и все повторяла:
– Господи, и не уснуть теперь ни одной ноченьки и глаз не сомкнуть.
3
По земле от одного океана шла к другому океану ночь. И там, где гремела война, уже наступал вечер. Иван Епифаньев, боец действительной службы, до этого вечера уже целую неделю отступал: сначала дорогами, под пулями и визгом бомб германских самолетов, потом глухими лесами, под свист птиц и шум деревьев, под жарким светом солнца. У него было пробито плечо, стерты ноги, пересохло во рту. И сердце его билось так, что казалось, стук его слышен на весь лес. Со своими товарищами, оставшись без командира, он по многу раз в день отстреливался от немецких автоматчиков, но держал оружие в руках.
И вот теперь, когда солнце садилось и поле стало багровым от его низких лучей, когда от горящей за полем деревни тянуло смрадом и духотой, когда грохот закрыл все небо и поле вокруг, Епифаньев бежал от германского танка. В руке у Епифаньева была граната, но Ивану некогда было остановиться и обернуться, чтобы бросить гранату. Поле было чистым, и танк настигал. Германцы не стреляли по нему, а просто гнались, И земля подгибалась у Епифаньева под ногами. На бегу Епифаньев ступил в маленькое, свитое прямо на земле гнездо. Он ступил в гнездо, поскользнулся и упал, и граната выкатилась у него из рук. Танк настиг его, прошел по нему.
Мать Епифаньева, вдова отца его, убитого на другой германской войне много лет назад, Елизавета Сергеевна, лежала в это время в сенях в темноте, на соломенном матрасе в деревне на берегу широкой реки Иртыш. Она не могла уснуть. Над всей рекой и над деревней уже стояла ночь. И кричали в поле ночные птицы, корова жевала в стойле жвачку, а в печи томился не тронутый с утра борщ, и жир застыл на нем густым и твердым воском.
Мать смотрела в темноту, хотела спать, смежить веки, но глаза ее не закрывались и сердце билось редко, через удар и через два, словно к ней подступала смерть. Мать долго лежала так на матрасе. Потом она встала и пошла ходить в темное поле за деревню. Ходить, наклоняться над травами и держаться руками за сердце.
Пока она ходила, в других избах люди спали. Раскинувшись, лежала на высокой пуховой постели Калина. Она спала, но от выпитого днем вина, от духоты и от одиночества спать ей было трудно. Она во сне разбрасывала руки, как бы отыскивала кого-то рядом с собой, и бормотала бессвязные слова. То она видела спину Митьки, идущего с мешком за плечами по длинной железной трубе в гору. Митька шагал легко. Он не оглядывался. Он в руке нес толстые волосяные вожжи и расплетал их на ходу.
Потом из-под спины Митькиной кто-то выглянул и пошел с горы по трубе вниз. Это был Бедняга. Он шел, и криво улыбался, и протягивал руки.
Санька спала среди избы на голом прохладном полу, как была, как зашла и рухнула – в платье, в туфлях и в платке. Она лежала, подобрав под голову локти. Она дышала глубоко и ничего не видела, а отдыхала всем телом и всем сердцем своим и только иногда еще вздрагивала губами, как бы всхлипывала.
Под раскрытым окном лежал в кровати Енька. Слышалась ему дневная песня. И песня шла с пригорка, где стоит мельница. А отец в распоясанной нижней рубахе босиком ходит под мельницей, берет ее длинными руками то за одно, то за другое крыло и раскручивает их.
Рядом сидела мать. Она смотрела на спящего Еньку и думала, думала, думала. Ночь прохладнела, звезды мглели и расплывались перед глазами.
Поднимался влажный ветер. Он раскачивал раскрытую дверь чердака и вполшепота посвистывал под крышей. Здесь у раскрытой двери спал дядя Саша, И чудился ему шелест дальних трав. Он едет в разведку с карабином и с шашкой. Он выезжает к балке. Он осаживает коня и видит, что вся балка забита казаками. Казаки с длинными бородами, блещут на каждой груди Георгиевские кресты, и держат казаки в руках зажженные фитили. На казаках фуражки с красными околышами, а из фуражек медленно поднимается дым. Дядя Саша хочет поворотить коня, но конь его не слушается. Внезапно балка вздымается дном и становится гладкой степью. По степи дует ветер, низко метет снег. И по сугробам прямо на него идут широкой стаей волки. У них блещут большие медные глаза. Дядя Саша хватает пулемет и длинными очередями косит стаю. Но волки все идут и идут. Дядя Саша бьет из пулемета и командует.
От этого крика тут же на чердаке просыпается Олег. Но сон берет свое, и Олег снова погружается в дремоту. Он идет зеленой глубиной воды, слегка касаясь дна. Мимо плывут диковинные длинные рыбы. Чешуя на рыбах блещет ярко. Рыбы плывут, не замечая Олега. Дно заросло ромашками, ромашки гнутся по теченью. Олег идет среди ромашек и отстраняет их руками. Среди ромашек появляется Инка. Она смотрит Олегу в лицо и говорит: «Стой, поворожу». Она тут же исчезает, а издали слышатся шаги бабушки.
Бабушка несколько раз уже засыпала с вечера и все просыпалась. Среди ночи она встала и по шаткой деревянной лестнице поднялась на чердак. В ясных сумерках легкого рассвета она увидела дядю Сашу. Он спал, прижимая к скулам стиснутые кулаки, будто поддерживал челюсть. Бабушка успокоилась и, поеживаясь от холода, стала спускаться вниз.
Вдоль деревни шел высокий человек в черном хорошем пиджаке, в белой косоворотке, с восковатой, туго закурчавленной бородой. Вежливыми синими глазами он деловито осматривал деревню. Собаки не лаяли на него, а только провожали глазами. Он увидел бабушку, по-дружески поклонился ей и так же спокойно пошел дальше.
Бабушка легла в постель и долго прикидывала, где бы она могла видеть этого человека. Но припомнить не могла. Она уснула, видя, как по Иртышу идет пароход, а она шагает вдоль берега с поднятыми руками. Потом река превращается в поле, а по полю идет поезд, набитый людьми с винтовками и в островерхих шлемах. И бабушка идет за этим поездом в кожаных красных сандалиях, что носила еще в раннем замужестве.
На рассвете в деревню пришла гроза. Утренний свет погас. Тяжко ударили в пыль первые капли. Гром проломил небо и с воем обрушился на деревню. Он оглушительно захохотал и покатился далеко за Иртыш. Река вспыхнула, и в ней отразились леса. На чердаке под крышей зашептались испуганно ласточки. И через озеро белой матовой чащей на деревню двинулся ливень. Мельница загремела, в ней заговорили барабаны. По воде пошел шелест, она закипела и уперлась в берега. Над озером свистнула и зашипела, сгорая на лету, короткая синяя молния. В другой стороне, за деревней, охнула и оступилась другая прямая полоса бьющегося огня, щелкнула над самой землей и разлетелась в разные стороны. На крыши, деревья, огороды легла стремительная густая толща воды. Гром ходил по деревне, как по половицам, прихрамывал и трещал каким-то тяжким костылем. При свете грозы далеко видно стало во дворах всех еще третьего дня настиранное, развешанное белье. Оно металось на веревках, и рубашки взмахивали пустыми рукавами, словно кидались бежать.
Деревня так и не проснулась под грозой. Только мать Ивана Епифаньева, Елизавета Сергеевна, очнувшись от грохота, бросилась бежать, прихрамывая на обе ноги, закрывая руками голову и глядя из-под рук, как стелются под ветром и ливнем вдоль земли огороды.
4
Проснулся Олег оттого, что внизу, в избе, громко говорило радио. Тревожный мужской голос рассказывал что-то важное и старался говорить как можно спокойнее.
Олег спустился в комнату и увидел возле окна на лавке Еньку. Енька сидел под репродуктором.
– Чего же не разбудил? – сказал Олег.
– Подожди, – сказал Енька.
Репродуктор говорил о войне. Енька слушал строго, внимательно и смотрел в окно. Не поворачивая головы, он сказал:
– Вон твоя цыганка пришла.
Инка стояла перед избой на лужайке и улыбалась. Она помахала Олегу рукой и пошла в избу.
– А где мама? – спросил Олег Еньку.
– Бабушка к Саньке пошла. Как бы рассудком от слез не двинулась.
Инка, громко топая босыми ногами, поднялась по крыльцу и вошла в избу. Села на лавку.
– Пошли на Иртыш, – сказала она.
– Пойдем, – сказал Енька.
– Дай молока, – сказала Инка Олегу.
Олег слазил в подполье и виновато сказал:
– Нету.
– Эх вы, – сказала Инка, – а еще в доме живут.
– Коровы у нас нет. Недавно мы здесь, – сказал Олег.
– Купили бы.
– Пойдем, у нас есть, – сказал Енька.
Енька вынес из дому черную кринку молока. Прямо среди улицы Инка взяла холодную потную кринку обеими руками и выпила.
– Куда вы собираетесь? – крикнула через улицу с огорода Наташа.
– На Иртыш идем.
– Подожди, Енька, – сказала Наташа. – Вот мы с Зинкой дополем свеклу и пойдем с вами.
– Тоже еще, ждать, – сказала Инка, – сами придут.
– Мы на Ключ, – крикнул Енька, – приходите.
А Олег промолчал.
Олег и Енька разговаривали, а Инка шла впереди, рвала цветы и бросала их на ветер.
– Чего передавали? – спросил Олег.
– Бои везде идут. Минск оставили. Наступает немчура.
– Наступать им недолго, – сказал Олег. – Видел в газетах, какие пушки у нас есть?
– А у немца-то, поди, тоже есть пушки.
– Какие у них пушки? У нас пушки самые лучшие и самолеты самые. Нигде нет таких.
– А у немцев, передавали, тоже танков много и самолеты есть.
– Какие у них самолеты? У нас вон Чкалов через Северный полюс летал. У них летал кто-нибудь?
– Не знаю.
– Не знаешь. Никто не летал. Если бы у них такие самолеты, давно бы уж на Москву полетели. Не летят.
– А может, уже летали… Может, не говорят наши…
– Как не говорят, сказали бы. У нас всё говорят. Посбивали бы их всех и сказали бы.
– А чего же тогда отступают? – спросил Енька.
– А наши вначале всегда отступают, а потом как дадут! Да и восстание у них рабочие скоро поднимут. Они же там в нищете и в голоде все живут. Только и ждут наших. Дядя Саша говорит, все равно у них восстание скоро будет.
– Пока они восстание поднимут, знаешь сколько народу на фронте побьют…
– Подожди немного, – сказал Олег. – Наши, может, и сами управятся, как с Наполеоном.
– Наполеон-то ведь до Москвы дошел.
– Эти не дойдут. Да и восстание у них скоро будет.
– Чего вы там заторговались? – крикнула Инка.
Она стояла впереди, держа в руке небольшой букет ромашек, и по одному разбрасывала цветки в разные стороны.
– Эге-ге-гей! – послышался из деревни голос Наташи.
– Идут, – сказал Олег. – Подождем.
– Пошли, – сказала Инка. – Сами придут, не маленькие.
Ключ был узкий, он спокойно бежал в Иртыш среди ежевик и дягилей. По ежевикам ползали гусеницы, на дягилях сидели стрекозы и смотрели в чистую неглубокую воду. У берега стоял маленький плот. Под плотом покачивались крошечные рыбки и неторопливо раскрывали рты. Ребята сели на берег.
– Плот, – сказала Инка.
– Гальяны? – спросил Олег.
– Какие же это гальяны? – улыбнулся Енька. – Гальяны в озере, в изюке. Это мальки.
– Ишь как вьются, – сказала Инка.
– Это вьюн, – сказал Енька. – Дикая рыба. Из озера в озеро или в реку перейти может.
– Ну да, – усмехнулся Олег. – По воздуху?
– По земле ходит, как змея. Только чтобы роса была. Живучая – страх один. В пирог ее завернут, в тесто – мертвая вроде. Посадят в печку, а она выползет из пирога и мордой в заслонку стучит, как старуха.
Инка рассмеялась.
– Правда, правда, – сказала сзади Наташа.
Все обернулись.
– А где Зина? – спросил Енька.
– Не пошла. Не хочется, говорит. А что вьюн, это правда. В пирог где-то запекли вьюна. Резать пирог стали, так кусочки прямо выскакивают и бьются по столу. Во!
Наташа разбежалась и толкнула Олега ладонями в спину так, что тот покатился по песку.
– Бабушка велела кринки наливать! – крикнула Наташа и рассмеялась.
Инка зло посмотрела на Наташу.
Олег встал, отряхнулся, прыгнул на плот и весело сказал, покачиваясь на зыбких бревнышках:
– Вот возьму и уплыву, раз ты так.
– Плыви, – сказала Наташа, – так водой унесет, что домой не вернешься. А мы с Енькой будем тут хохотать над тобой.
Инка вскочила, прыгнула на плот и оттолкнула его от берега ногой, распугав мальков.
– Вот тебе, – сказала Инка Наташе и закачалась вместе с Олегом на плоту.
Теченье Ключа подхватило плот, закружило его и понесло в Иртыш.
– Дура! – крикнул Енька и побежал вдоль берега.
За ним побежала Наташа.
Инка захохотала, посмотрела на Олега, улыбнулась ему и сказала:
– Вот это здорово. Поплыли. Ага?
– Здорово-то здорово, – сказал Олег, – а что же нам теперь делать?
– Ничего, – сказала Инка, села на плот и свесила в воду ноги.
Плот вынесло в Иртыш и потащило на коренное течение, которое мутно пузырило, словно кто-то огромный поднимался со дна. Олег стоял, широко упираясь в плот ногами, и видел, как быстро уходит берег. Олег смотрел на облака, их медленно кружило над головой. От этого все уходило и раскачивалось перед глазами. И трудно было устоять на ногах. Олег сел. Какая-то большая медленная рыба показала над водой зеленую спину, выгнула ее и ушла под плот.
– Унесет нас, – невесело сказал Олег.
– Пусть несет, – сказала Инка.
– А домой как же?
– Где-нибудь прибьет к берегу.
– А если не прибьет?
– Прибьет. Расскажи что-нибудь. – Инка подняла ноги из воды, легла на спину, заложив руки за голову и глядя в небо.
– Чего тебе рассказать?
– Чего-нибудь. А если хочешь, я тебе что-нибудь расскажу.
– Рассказывай.
Инка молчала, лежала, закрыв глаза, и Олегу показалось, что она уснула. Веки у нее были большие, с ровными ресницами, чуть изогнутыми и чуть синеватыми.
– Ты чего долго не приходила? – спросил Олег.
– Дела были, – ответила Инка, не открывая глаз. – Раз пришла, чего спрашиваешь? Видишь, тут я.
– А я думал, не придешь.
– Я всегда приду, – сказала Инка и открыла глаза. – Захочу и приду.
– А если не захочешь?
– Не захочу, не приду.
Плот несло самой серединой реки. Берега были далеко. Покрытые лесами, они едва виднелись, и казалось, что до них никогда не доплыть.
– Кто-то идет куда-то, – сказала Инка, глядя в небо.
– Где? – спросил Олег.
– Нигде. Там где-нибудь, на берегу. Знаешь, куда он идет?
– Куда?
– У него есть невеста. Она живет в лесу. Ему цыганка нагадала, что она там живет в тереме. А ему волк навстречу и спрашивает: «Куда ты идешь?» – Инка задумалась, чуть прикрыв спокойные глаза, и облизнула губы маленьким тонким языком. – А он говорит: «К невесте». – «Тогда иди», – говорит волк.
– А если бы не сказал, что к невесте? – спросил Олег.
– Тогда бы волк не пустил. Пошел он дальше. – Инка приподнялась на локте. – Озеро впереди. Снял он с пальца кольцо и бросил в озеро. Поднялся над озером белый каменный мост и спрашивает: «Ты куда идешь?» – «К невесте». – «Тогда иди», – говорит мост. Идет он дальше. Лес глухой стоит. А в лесу терем. И сидит в окошке, в тереме, девица: коса черная, брови черные, глаза синие. «Стой, поворожу!» – говорит она. «Чего мне ворожить, – говорит он. – Я к тебе пришел». – «А ты зачем ко мне пришел, я не твоя невеста». – «Нет, моя». – «Нет, не твоя и никогда твоей не буду». – «А если я повешусь?» – «Вешайся». Взял он тут, в лесу, и повесился. А она тогда заплакала и тоже повесилась.
– Чего же она повесилась? – сказал Олег.
– Она же его любила.
– А зачем отказывалась?
– Гордая она была.
– Глупая, наверное.
– Нет, гордая. Знаешь, люди какие гордые бывают?
– Бывают. У меня отец гордый.
– Расскажи, – попросила Инка.
– Стоит черный-черный лес, – начал тихим голосом Олег, – в лесу черный-черный дом, в дому черный-черный стол, на столе черный-черный гроб, в гробу черный-черный… У! – крикнул он вдруг прямо в лицо Инке.
Инка вздрогнула.
– Дурной, – сказала она. – Ты дурной, а глаз у тебя хороший. Расскажи про отца.
– Зачем? – сказал Олег невесело.
– Интересно.
Олег задумался. Он лег животом на плот и стал глядеть в даль реки.
– Расскажи, – попросила Инка.
– Отец жил далеко-далеко отсюда, в Киеве. Однажды пришли за ним.
– Кирилла тоже арестовывали, – сказала Инка.
– За что?
– Один раз – сапоги украл. Другой раз – кольца продавал медные, а говорил, что золотые да с заговором.
– Ну и что?
– Ничего. Арестуют да выпустят. Рассказывай, за что его посадили.
– Командиром он был. А среди командиров тогда врагов много было.
– Ну и что?
– Вот и все.
– А где же он сейчас?
– Не знаю.
– Чего же он?
– Не верят ему, видно. Только он не враг. Он еще с белыми воевал. А когда Кирова убили, он знаешь как плакал…
– Такой большой и плакал?
– Конечно. Все тогда плакали. Сам Сталин плакал. Я и то, кажется, расплакался.
Инка задумалась. Она закрыла глаза и долго лежала молча.
– А ты не врешь? – вдруг спросила она.
– Чего?
– Что отец у тебя был.
– Конечно, был. Он и сейчас есть. Только писем не пишет.
– А у меня не было отца, – сказала Инка. – Я одна родилась. Сама.
– Как же это?
– Взяла и родилась. Мать меня захотела родить.
– Здорово, – сказал Олег. – Какая у тебя мать… Все сначала отца найдут, а потом родят.
– А моя мать сама. Потому и родилась я такая выдра.
– Откуда ты знаешь, что выдра?
– Мать говорит. Да и Кирилл тоже. А интересно, если бы отец был, хорошо это или плохо. Как ты думаешь?
– У меня отец хороший был. Хорошо.
– А я думаю, плохо, только бы и давал подзатыльники. А может, и нет. Денег у него было бы много, как у Кирилла. Я бы тогда в такой шали расхаживала – с каймой с алой!
Инка замолчала, открыла глаза, положила ногу на ногу и стала смотреть в небо. Плот несло к дальнему берегу и все поворачивало, кружило. С берега пахло тайгой, сухо и смолисто. Гулкой лесной дорогой кто-то проскакал на коне и все выкрикивал какие-то слова.
– Нас, наверное, ищут, – сказал Олег.
– Кто нас будет искать… – сказала Инка и легла на бок.
– Енька в деревне сказал, вот и ищут.
– Побоится он сказать.
– Чего ему бояться?
– Влетит. Подумают, что он плот столкнул.
– Не подумают.
– Вот увидишь, не скажет. Уж я знаю. Давай я тебе погадаю. Давай руку, – сказала Инка.
Олег подал руку.
Инка долго разглядывала его ладонь, потом посмотрела вдаль, отпустила руку и ничего не сказала.
– Чего же ты молчишь? – спросил Олег.
– Потом скажу.
– Скажи сейчас.
– Не скажу. Скажу потом, когда захочу.
– А когда захочешь?
– Не знаю.
Плот вынесло к песчаному обрывистому берегу, глубоко подмытому полыми водами. Под берегом ходили стальные полосы воды, они медленно кипели, они катились одна под другую. На воде сидела большая желтая бабочка. Ее кружило и раскачивало. Видно, бабочка случайно села на воду и теперь не могла подняться. Берег был часто пробит мелкими черными норами. Из них то и дело вылетали стрижи. В одной из нор высоко сидел черный птенец с толстым клювом. Он смотрел на бабочку. Бабочку оттащило к берегу, качнуло и унесло под воду.
Плот затормозило под самым обрывом, подержало там и понесло по широкому кругу, не отпуская на стремнину.
– Вот видишь, и не уплывем далеко, – сказала Инка.
– И не выплывем, – сказал Олег.
– Куда-нибудь да выплывем. Или рыбаки подберут.
Солнце уже опускалось, и тень под берегом росла.
– Хочешь, я буду твоей невестой, – сказала Инка.
– А зачем? – сказал Олег.
– Я тоже не хочу. – Инка ухватилась руками за край плота, подтянулась, опустила в воду лицо и стала пить.
Напилась. Подняла голову, посмотрела вокруг и опять опустила лицо в воду.
– Утонешь, – сказал Олег.
Инка подняла лицо из воды:








