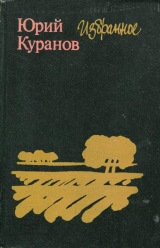
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юрий Куранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 44 страниц)
– Прохвостина, – говорит Калина и отворяет сени.
Лодка стоит среди ограды, а Бедняга на крыльце.
Он проходит в избу.
Калина ложится в постель, а Бедняга садится за стол. Он вынимает из кармана коробок спичек и делает вид, что хочет засветить лампу.
– Чего керосин-то зря изводить, и в темноте перебудется, – говорит Калина и переворачивается в постели с живота на спину.
6
– Мать, доставай-ка эту бутылку. Колькину, – сказал дед.
– А надо ли? – сказала бабушка. – Может, подождем?
– Надо, – сказал дед. – Сегодня ее и надо открыть. Хоть вина выпью.
Дед лежал под окном в желтом свете вечернего солнца. Вздутое лицо его стало прозрачным. Веки не двигались, и дед старался ими не моргать. Моргнувши, он каждый раз поднимал их с усилием. Дед смотрел невесело, как-то издали.
Бабушка достала со дна сундука длинную черную бутылку под красной богатой этикеткой.
Олег подошел к бабушке, тронул ее руку и попросил:
– Мама, не надо. А?
– Дедушка просит. Ему надо, внучек.
– Надо, – сказал дед.
– Но ведь вы же ее столько лет держали для встречи с папой.
– А вот так, внук, мы с ним и встретимся. Иначе не получится, – сказал дед.
Бабушка поставила бутылку на стол и вскрыла ее штопором. Пробка цокнула, бутылка вздохнула, и по комнате пошел аромат.
– Ты, внучек, не сердись. Просит он. Надо ему, – сказала бабушка.
– Не серчай, – сказал дед. – Не серчай на меня, да и на мать тоже.
Постучал в дверь и вошел Енька. Он держал в руке небольшую алюминиевую миску. Он встал на пороге и сказал:
– Мать вот велела мякины вареной немного принести, а потом еще лепешек из жмыха напечет. Тоже даст.
– Все это теперь ни к чему, – сказал дед. – Неси обратно. Сегодня мы без этого. Сами ешьте.
– Да хватит у нас, – сказал Енька. – Мать целый чугун мякины напарила. Мы уж поели.
Бабушка подошла к Еньке, взяла у него миску, унесла на кухню.
– Ладно, пусть стоит, – сказала она. – А ты, Ень, иди да скажи Марии спасибо.
Бабушка налила понемногу в три стакана, и вино в стаканах загуляло, красное. В комнате расцвел июньский луг, луг дышал, а в него пекло солнце.
– Я не буду, – сказал Олег и полез на печку.
– Выпьем за Кольку, – сказал дед.
И они выпили. Бабушка выпила стоя, глядя на деда. И так осталась стоять и смотреть. Дед же выпил и стал смотреть в окно.
– Вот солнце садится, и тяжесть какая-то, – сказал он, – будто за душу тянет.
– Да это всегда, наверное, так, – сказала бабушка.
– Давай еще по малости, – сказал дед.
– За Сашку, – сказала бабушка.
Они выпили еще.
Бабушка стояла возле деда, а дед глядел в окно. И бабушка еще налила и села к деду на кровать. Они посидели молча и молча выпили. И в воздухе что-то ударило. Олег почувствовал, что его нет в избе, а только в избе два человека – дед и бабушка.
– В больницу завтра повезут, – сказала бабушка.
– Пусть везут. Все равно, – сказал дед.
Помолчали.
– Ты смотри не задерживайся, – сказал дед.
– Все равно ведь там не встретимся, – сказала бабушка.
– Встретимся не встретимся, а мне обидно. Не думал, что раньше тебя помру.
– Я ведь недолго переживу, – сказала бабушка, словно оправдываясь. – Я ведь хожу только, а так… уж еле-еле.
– Вот и давай, – сказал дед.
– А так чего же? Чего мне тут одной делать? Кольки нет, Сашки нет.
– Ты не времени́ тут. А я вот, видишь, поторопился. Жалко мне.
Помолчали.
– Ты, отец, как? Легко тебе? – спросила бабушка, внимательно глядя деду в лицо.
– Телу вроде тяжело. Лишку в нем какого-то есть. А так ничего.
– Ну и слава богу, – вздохнула бабушка.
Дед посмотрел в окно, подумал, сжал веки, и лицо его вдруг стало злым.
– Ты, мать, знаешь что? – сказал он глухим голосом. – Я ведь изменял тебе.
– Я знаю, – сказала бабушка.
– Да не раз ведь я тебе изменял.
– Знаю я.
– Эх и стерва, помню, была одна, – вкрадчиво заговорил дед, слова растягивая и обозначая каждую букву. – Напоила она меня. До революции еще это было. Молодая, кровь с молоком…
– Отец, зачем ты это говоришь?
– Ох и стерва же была, такая сволочь животатая… А ты ничего не знала…
– Отец, не надо уж тебе это вспоминать. Я ведь и то тебе не припоминаю.
– Слушай. Все расскажу, – сказал дед и замолчал.
Видно было, что он борется с собой: говорить дальше или нет. Бабушка сидела перед ним с отяжелевшим стеариновым лицом. Бабушка положила вздутую ладонь деду на голову и стала гладить его. Она гладила и двигала пальцами, будто перебирала волосы.
– Я никогда тебе, Володя, не изменяла. И не хотелось мне этого, – сказала бабушка добрым голосом и глядя деду в лицо, стараясь разглядеть в нем что-то такое, что ей сейчас, видимо, было крайне нужно.
– Прости меня, мать, – тихо сказал дед. – Злой я, видно.
– Какой ты злой? Ты просто глупый. Ты всегда был как парнишка. Такой ты и остался.
Из-под век у деда выступили слезы. Они только выступили, но не потекли по щекам. Они лишь поблескивали. Мало-помалу дед притих и вскоре задышал глубоко, ровно, как дышат во сне. Бабушка не отходила от него и не убирала с головы ладонь.
Олег спустился с печки и вышел на улицу. На своем огороде Енька и Мария вскапывали лопатами землю. Олег пошел помогать им вскапывать огород. Земля, сочная, глубокая, разваливалась влажно, как масло. Из глубины ее пахло смолой. Вывернутые вместе с землей черви быстро прятались в свои норы. Солнце село. Пришла прохлада. Работалось тоже легко, споро, только мучительно хотелось есть.
Утро встало солнечное, и слышно было, как в поле по всем лесам поют птицы.
Бабушка стояла над кроватью, смотрела на деда. Она стояла спиной к печке и закрывала собой лицо деда, на которое смотрела молча.
Возле калитки прогромыхали и остановились колеса. Вошел Енька. Он сказал, что бричка готова, пора в больницу. Бабушка обернула к Еньке заплаканное лицо и сказала, что ехать можно. Енька подошел к дедовой кровати, и вся его фигура стала растерянной, будто зашел он совсем не туда, куда собирался. Олег спустился с печки и тоже растерялся. На кровати лежал и смотрел в окно не дед, а другой какой-то человек.
Дед за ночь опал. Отеков не было, и во всем его теле остались одни кости. На костях жилисто голубела кожа. Она голубела ровная, гладкая, без морщинки, словно всегда дед был только таким. Лицо его сделалось детским, нос не круглый, а острый, и на лысом черепе появился легкий пушок.
Дед попытался встать, но не смог. Бабушка подхватила его рукой под спину и помогла сесть.
Дед в чистом нижнем белье. Он сидит и пристально смотрит на всех, словно впервые по-настоящему знакомится с этими людьми. Он силится улыбнуться, но кожа на лице его не улыбается. Бабушка надевает на деда брюки, ботинки, накидывает пальто. Енька и Олег берут деда под мышки, ставят на ноги. Но дедовы ноги не двигаются. Тогда Енька и Олег складывают руки небольшим сиденьицем и несут деда. Дед удивительно легок, в нем нет никакого весу.
Бабушка выходит на крыльцо и стоит, прислонившись к стене. Она смотрит деду вслед и шевелит губами, будто напутствует его. Деда сажают в бричку. Енька взбирается на передок, а Олег устраивается позади кошелки: Олегу страшно сесть рядом с дедом.
– Ну, мать, смотри, – говорит дед из брички. – Помни. – Он говорит это негромким убедительным голосом.
– Помню, отец, помню, – говорит бабушка тоже негромко.
Енька тронул вожжи, бричка не спеша покатилась.
На половине деревни вышла из своего дома Зина.
– Постой-ка, Ень, – сказала Зина.
Енька придержал коня.
Зина подошла к Олегу и спросила:
– Можно, я поеду с вами?
– А куда тебе? – спросил Енька.
– Просто так. Можно, я поеду?
– Садись, – сказал Олег.
Зина села в бричку рядом с дедом.
Солнце светило прохладными неторопливыми лучами. В легком воздухе стояла тишина, хотя и пели повсюду птицы. Над бричкой появилась бабочка. Она плясала над бричкой, сверкая крыльями. Подул ветер, и бабочку отнесло далеко в поле.
– Как не хочется умирать, – сказал дед и посмотрел на Зину. – Не хочется, Зина.
– Вам не холодно? – сказала Зина и поплотнее запахнула на дедовой груди пальто.
– Умирать не хочется, говорю, – сказал дед. – Никогда вроде бы утра такого в жизни не было.
– И у меня тоже, – сказала Зина. – Не было такого утра никогда.
– Еще будет, – сказал дед.
– И хорошо, что такое утро, – сказала Зина.
– Еще будет у тебя утро и не такое, – сказал дед. – Только поймаешь ли ты его?
– Вам не страшно? – сказала Зина.
– Нет. Только жалко. Жалко это очень.
Дед заплакал.
– Не надо, дедушка, – сказал Олег. – Мы ведь в больницу едем. Вылечат там.
– Чего там сделают? – сказал дед спокойно.
– Вылечат, – сказал Олег.
– Еще и не примут, – сказал дед. – Зря только едем. Коня зря маем.
Конь шел тяжело и оглядывался.
– Примут, – сказал Енька. – Не надо так думать.
Зина обернулась к Олегу, взяла его за руку, посмотрела ему в глаза, как бы просила, чтобы он чего-то подождал.
– Какая ты красивая, – сказал дед и посмотрел на Зину. – Красивая ты какая…
Зина посмотрела на деда и улыбнулась ему.
– Пропадешь ты со своей красотой, – сказал дед.
– Не пропаду, – сказала Зина.
Дед снова закрыл глаза и, казалось, уснул. А может быть, он и в самом деле уснул или о чем-то думал…
Бричка остановилась возле больницы. Олег и Енька подняли деда и понесли. И опять не чувствовали никакой тяжести. Дед глаза не открывал и спал у них на руках. Они принесли деда в приемную комнату и посадили на диван. Следом вошла Зина и встала у двери. Главный врач сидел за столом. Он, не вставая со стула, посмотрел на деда и сказал, обращаясь сразу к Еньке и к Олегу:
– Чего же вы умирающего привезли?
– Какой же он умирающий? – сказал Енька. – Его лечить надо.
– Умирающий, – сказал главный врач. – Надо было раньше привозить.
– А что же нам делать? – сказал Олег.
– Я не знаю, – сказал главный врач.
– Он всю гражданскую войну провоевал, – сказал Енька.
– Я тоже не раз воевал, – сказал главный врач.
– Но вы не умирающий, – сказала Зина.
– Я нормальных больных не могу обслужить, – сказал главный врач, что-то записывая в толстую книжку. – Больница забита. А этот безнадежный.
– Но вы ведь даже не осмотрели его, – сказал Енька.
– Чего его смотреть. Я вижу.
Вошла сестра. Та самая, что дежурила ночью и мылась в кубовой. Она остановилась в дверях рядом с Зиной.
– Везите его домой, – сказал главный врач. – Я принять не могу.
– Не довезти им будет, – сказала сестра.
– Они сами не хотят хоронить его, вот и привезли, – сказал главный врач сестре.
– Надо же человеку где-нибудь спокойно помереть, – сказала Зина.
Дед открыл глаза и кивнул головой.
– Только не здесь, – сказал главный врач.
– А где же? – сказал сипло Енька. – Где, собачья твоя морда?
– Вы потише, вам здесь не рынок, – сказал главный врач.
– Дайте ему помереть, – сказала Зина. – Вы ведь тоже когда-нибудь помирать будете.
Дед опять открыл глаза и кивнул головой.
Глаза у деда медленно покрывались белой пленкой. Олегу стало страшно, и он чувствовал, что его начинает трясти. Он боялся, что бросится и ударит главного врача. Зина взяла его руку и крепко сжала. Рука у нее была сейчас очень сильная.
– Ну пожалуйста, – сказала Зина главному врачу.
Главный врач посмотрел на Зину, потом на сестру и устало сказал:
– Несите его в кубовую.
Олег подошел к деду. Олега всего трясло. А дед сидел и закатывал глаза. Зина опять взяла Олега за руку, отвела в сторону. Потом она кивнула Еньке, и они вдвоем понесли деда в кубовую. Сестра помогала им.
Из кубовой Зина вернулась быстро. Она вывела Олега на улицу, посадила на лавку и сказала:
– Ты посиди здесь. Я скоро вернусь. А если надо, позову.
Не было Зины долго. А Олег сидел и мелко дрожал всем телом. Он знал, что ему нужно пойти туда, к деду, но он не мог встать. Он сидел и боялся встать и пойти туда. И Олег успокаивал себя тем, что дед немного полежит в кубовой, станет ему легче, и его положат в больницу.
Из больницы вышли Енька и Зина.
Зина подошла и села рядом с Олегом. А Енька пошел к бричке. Зина подняла руку и хотела положить ее Олегу на плечо. Но не положила.
– Поедем, Олег. Поедем в деревню. Не надо. Не надо. Возьми себя в руки. Поедем, Олег.
7
Бабушка умерла через неделю после деда. И когда Санька, Мария, Калина и Епифаньева выносили ее из дому, Олег шел позади. Он шел позади и мучился. Он помнил, как бабушка перед смертью просила, чтобы он поцеловал ее мертвую. «Если тебе будет неприятно мертвую меня целовать, – говорила она, – то ты все же поцелуй. Ты положи мне на лоб два пальца и поцелуй меня в свои пальчики. Мне этого будет достаточно». Олег шел за гробом, и собирался с духом, и мучился, все еще не решив, как ему поцеловать.
И когда поставили гроб на телегу, то не закрывали его, а ждали чего-то от Олега. Олег подошел. Он близко увидел мертвое лицо бабушки. Лицо было все то же стеариновое, но уже обтаявшее. Теперь оно было маленькое, и бабушка стала похожа на девочку. Она умерла не закрывая век, и теперь положили ей на глаза пятаки. Олег склонился над бабушкой к долго стоял молча, словно узнавая ее. Потом он убрал с ее глаз пятаки, посмотрел на нее еще раз и быстро поцеловал в лоб. И это было совсем не страшно, только на губах остался слабый привкус обветренной мяты.
Ее похоронили за деревней. Калина и Санька пошли в поле работать. А Мария поехала с Енькой в село на той же телеге получать семена для весеннего сева. А Олег пошел в лес. И долго ходил там, пока не заметил, что смеркается и что в руке у него лежат два пятака. Олег положил пятаки в карман и вернулся домой.
Олег сидел при лампе за столом в пустой избе. Он смотрел на темное окно. Он видел равнину. Он видел равнину под облачным небом. В облаках слышался ветер. И ветер дул над землей, по которой в разные стороны шли люди. Все они куда-то торопились. Олег присмотрелся и заметил, что люди эти ему знакомы.
Вдалеке под самыми облаками уходил дед. Он уходил в пиджаке, без шапки, в сапогах. Пиджак развевался, и от этого казалось, что дед вертится на месте. Дед иногда оглядывался и строго смотрел на бабушку. А бабушка шла стороной от него, в черной длинной дохе, которую носила еще в Киеве. Бабушка поспевала за дедом. Здесь же невдалеке торопился дядя Саша. Он шагал по воде в валенках с красными калошами, на спине висел мешок. Дядя Саша на ходу снимал мешок, задирал пальто и показывал кому-то спину. Потом появился Енька. Енька чинил хомут, растягивал дратву двумя руками в разные стороны и манил Олега за собой. Тут же Мария шла с топором на плече. Топор был тяжелый, Мария подгибалась под ним и оступалась на равнине. Поперек поля бежала Калина. Платье горело на ней, и Калина сбивала руками огонь с платья, бросалась на землю и каталась по земле. Ей издали что-то кричала Санька и отмахивалась, будто Калина катится на нее.
Облака снижались, и ветер шумел в них все громче. И вот уже облака пошли по головам людей, развевая на них волосы и вздувая одежды. Среди ветра вдруг послышался звук, грустный, мягкий и высокий. Кто-то играл на скрипке и ходил со скрипкой вокруг Олега, все приближаясь и приближаясь к нему. Олег покрутил головой и посмотрел в окно. Темные стекла дребезжали от ветра. Олег хотел встать и пройтись по избе, но увидел, что посреди комнаты стоит Зина.
– Скучно мне, – сказала Зина. – Мама в селе на работе. Смотрю, огонь у тебя горит. Вот и пришла.
– Садись на лавку, – сказал Олег. – Посиди. И я тоже посижу.
– Нет ли у тебя чего поесть? – сказала Зина.
– Не знаю.
– Я посмотрю?
– Посмотри.
– Тут мякина есть, – сказала Зина с кухни.
– Наверное, – сказал Олег.
– Да тут и вино стоит, – сказала Зина.
Зина принесла на стол ту недопитую бутылку вина под красной богатой этикеткой.
– Выпей вина, – сказала Зина. – Может, уснешь.
– Не усну я, – сказал Олег. – Все равно выпей.
– И ты выпей.
– И я выпью.
Зина разлила вино в два стакана. Они выпили вино, сидя по разные стороны стола, вдалеке друг от друга.
По улице кто-то шел и напевал незнакомую частушку:
Супостаточка пришла
в синеньком платочке,
перед милым заюлила,
как змея на кочке.
Хлопнула калитка на той стороне улицы.
– Наташка, видно, из кино пришла, – сказала Зина.
Наташа закладывала калитку и продолжала петь.
– Ты посиди со мной, – сказал Олег.
– Я и буду сидеть, – сказала Зина.
Она поярче вывернула фитиль и стала издали внимательно разглядывать Олегово лицо, напрягая зрачки, словно он сидит где-то далеко в поле, а ветер мешает ей смотреть.
8
Енька поднял плуг, поставил его и пошел серединой загона. А следом шагала за ним старуха Епифаньева и Калина. Они бросали в отвороченную борозду картошины. И когда приходила пора Епифаньевой набирать в ведро картошку вместе с Калиной, старуха вынимала из-за пазухи бутылочку с какими-то белыми шариками. Она вытряхивала их на ладонь и рассказывала, что этими шариками хорошо душу подкреплять, когда дых немлет… «Я ей, голубоньке врачихе, и говорю: ты отдай мне поболе этих таблеточек, век буду за тебя богу молиться. Нельзя, она говорит мне, их только раз пореденьку. Никоим, говорит, духом, дескать, таблетки эти вредные, много есть их – сердце лопнет враз, как барабан. Вижу, хитрит моя врачиха. Я ей тогда на другой же день и притащила ведерочко картошек прямо ко крыльцу. Вот целу бутылочку таблеток и подала она мне…»
Калина погладила старухину кошку и пошла с ведром за Енькой. Енька и эту борозду провел, завернул к Саньке. Енька здесь прошел пустой бороздой и догнал Калину. Калина поглядывала на Еньку и подбадривала:
– Давай, давай, мужичок. Силушка по жилушкам, поди, поигрывает. Не нам, стареньким, ровня.
– Старенькая, – ухмыльнулся Енька. – Таблеток не ешь, пахать, поди, еще на тебе в самый раз.
– Пахать не пахать… – улыбнулась Калина.
Енька провел еще пустую борозду с другого края и опять зашел со средины. Санька здесь набирала из кучи картошку в ведро. А старуха Епифаньева опять рассказывала:
– Вот, милая, утречком встану, таблеточку-крошеньку изжую, глядишь, и в поле на работу дошла. Таблетку изжевала, глядишь, поработала.
– Подкрепляйся, подкрепляйся, – сказал Енька. – Вон Калине таблетку удружи: дух, говорит, захватывает, тяжко ей.
– У нее, парень, дух-то захватывает, да не тот. Из нее, парень, дух клюкой вышибать надоть.
И старуха зашагала за Енькой.
И так до приближения сумерек Енька ходил под жарким солнцем с плугом, а за ним ходили то старуха Епифаньева, то Санька, то Калина – с ведрами.
Первая отсеялась Епифаньева. Проглотила таблетку и, подкрепленная, отправилась в деревню. Кошка бежала за ней следом. Потом отсеялась Санька. Она тоже взяла ведро на руку и заторопилась в деревню, без таблетки. Выпало дохаживать борозду за Енькой Калине.
Енька пошел последней пустой бороздой. Калина разогнулась, поставила ведро на землю вверх дном и села на него, как садятся верхом на коня.
– Посидим да дух переведем, – сказала Калина.
Енька сел рядом, на землю.
– Чего смотришь? – спросила Калина.
– В землю, что ли, ты растешь? – сказал Енька.
– Я – в землю, а ты – из земли. Кто куда быстрее вымашет, – засмеялась Калина.
Она посидела, пораскачивалась, поднялась, по-мужски сквозь зубы сплюнула и сказала:
– Пошли. Чего сидеть? Ни плетня, ни рубахи не высидишь.
Солнце садилось. В воздухе сильно запахло землей, кто-то грел поля изнутри, и пашни бродили, как тесто.
– Зайди, дело есть, – сказала Калина в деревне.
Енька зашел в ограду.
– Ушат у меня в колодец упал, – сказала Калина. – Вода-то хоть и не питьевая, а ушата жалко. Лезть сама боюсь: баба – она баба и есть.
Енька наклонил журавль и хотел спуститься в бадье.
– Улетишь, – сказала Калина. – Гнилое все: журавль, как косточка, переломится. Заест меня тогда Мария, скажет – сына ухайдакала. Деревня без мужика останется.
Калина принесла из дома веревку и намотала один конец на край колодезного сруба. Другим концом Енька обмотал двойной петлей ноги. Калина ухватилась за веревку и потихоньку стала отпускать Еньку в колодец.
– Не повредись, девки любить не будут, – сказала Калина сверху, и Енька понял, что она улыбнулась.
Пахнуло холодом. Внизу кто-то прыгнул, гулко как в корыто.
Енька засветил спичку. Ушат плавал в воде. В ушате сидела лягушка. При свете спички глаза ее горели будто две иголки. Енька вытряхнул из ушата лягушку. Он надел ушат на голову и крикнул:
– Тяни!
– Чего ты там? Не утонул ли? – спросила Калина.
– А чего?
– Не слышно, будто рот зажеван.
– В ушате я, – сказал Енька и полез вверх. А Калина тянула.
Енька добрался до края сруба. Калина захохотала, постучала пальцами по дну опрокинутого ушата и спросила:
– Ить ты? Кто там? Кто упрятался?
– Я, – сказал Енька.
– А кто ты?
– Черт водяной.
– Если черт, пущу. Лезь прямо в избу.
Она сняла с Еньки ушат, помогла развязать затянувшуюся вокруг ног петлю и усмехнулась:
– Не повредился?
– Жив и невредим, – сказал Енька.
– Посмотрим, посмотрим, – поглядывала в сумерках Калина. – В избе-то все выясним.
– С тебя причитается, – ухмыльнулся Енька, – Магарыч Магарычевич.
– Пойдем, самогонки налью, – сказала Калина, сматывая веревку на локоть. – За работу и приплата.
Она засветила на столе лампу, ушла на кухню и с шумом отворила крышку в подполье.
– Погорюй пока, потом повеселеешь.
Калина вернулась, неся большую бутыль, заткнутую газетой.
Енька сидел на лавке, положив руки на стол и глядя на Калину. Калина резала сало, глубокое, белое. Из глубины надреза сало мгновенно розовело и покрывалось по́том. При свете лампы белое лицо Калины тоже порозовело, задышало теплом.
Налила Калина два больших стакана, села напротив, поставила локти на стол.
– Ну как, Ень, выпьем?
– Не захмелеть бы мне.
– С чего это? – притворно озаботилась Калина. – А то смотри, запьянеешь – зашумишь.
Калина подняла стакан, облизнулась и стала пить, сложив губы лодочкой. Енька выпил одним духом, Заел. Сало, твердое как сахар, во рту не таяло. Енька прожевал и осмотрелся. В голову пошел жар, и Калина отодвинулась далеко, будто сидела на другом краю поля.
– Ну как? – спросила Калина оттуда, из-за поля.
– Все правильно, – сказал Енька уверенно.
Он почувствовал, что вокруг очень много места. Он откинулся к стене и развалил плечи, сознавая, что плечи у него широкие.
– Ты, Калина, богато, как я погляжу, живешь, – проговорил он и вытянул под столом ноги.
– Были б руки, были б ноги, а богатству не избыться, – поглядела на него Калина издали и тоже вытянула ноги. – Бабе, Ень, богатство не порука, житье у нее за пазухой бьется. Еще, что ли, выпьем?
Она налила еще и чокнулась с Енькой. Енька выпил, и Калина приблизилась, а под столом оказалось очень мало места. Под столом теснились ноги Калины, а свои деть стало некуда.
Енька смотрел на Калину и впервые за весь день заметил, что она в майке. Майка, белая, тонкая, обхватывала грудь.
– Ты, Ень, не торопишься? – спросила Калина.
– Куда мне торопиться, я ведь сам по себе, – сказал Енька, свернул цигарку и закурил.
– Вот в моей избе и табаком запахло, – улыбнулась Калина.
Лицо ее горело как самовар, и даже из-за стола слышался жар этот.
– Ты, Ень, смотри, как вымахал, – покачала Калина головой. – Кто бы подумал, что таким парнем станешь.
Енька курил и рассматривал Калину. Калина замолчала и тоже стала разглядывать Еньку мягкими невеселыми глазами. Енька докурил, раздавил цигарку о стол и опять откинулся к стене.
Калина встала, прошлась по комнате и раскачивалась, как под коромыслом. Потом повернулась, подошла к столу и остановилась возле стола. Она стояла близко и обдавала Еньку запахом жаркого сосняка. Калина обеими руками взяла стол за углы, отодвинула его и села Еньке на колени. Еньке стало тяжело, и он не мог дышать. Глаза Калины не мигали и блестели сухо. Енька почувствовал, что его глаза расширяются и до боли натягивают веки. Калина неторопливо прижала к Еньке гладкое лицо и поползла по его подбородку сухой дрожащей щекой.
В это время скрипнула калитка. Калина замерла. Вдоль ограды ступали шаги. Калина встала, зло поправила волосы, толкнула стол на место. Прошел по крыльцу, по сеням и без стука протиснулся в дверь Бедняга.
– Чего тебе? – сказала Калина, стоя среди комнаты.
– На огонек зашел, – сказал Бедняга ласково и сел к столу.
– Какого тебе огонька? – сказала Калина.
– Всякого. – Бедняга посмотрел на Еньку и подмигнул: – Давай закурим, сперва твои, потом мои.
Енька положил на стол табак и газету. Бедняга свертывал цигарку и ни на кого не смотрел.
– Мне домой, – сказал Енька.
– Куда тебе? – сказала Калина. – Сиди да жди.
– Я пошел, – сказал Енька и вышел.
Он вышел в ограду и пожалел. Он встал среди ограды, не решаясь ни уйти, ни вернуться. Постоял, махнул рукой и ушел за калитку. И принялся он шагать взад и вперед по деревне.
Все избы спали. У Калины свет горел. И Енька каждый раз намеревался свернуть, но не сворачивал. Ночь текла сначала медленно, а потом побежала. А потом у Калины свет погас. И Енька приблизился к калитке и долго стоял, грея дыхание. Взошел на крыльцо. Дверь на запоре. Постучал. Никто не отозвался. Постучал еще. Ответа не было.
Енька до рассвета сидел на крыльце и уже по росе отправился домой. Дома огонь уже горел. Мать сидела за столом и читала письмо.
– От отца, – сказала она. – Жив он. Воюет.
Мать сидела в одной рубашке. Видно было, что она не спала, а сейчас поднялась, чтобы письмо еще раз перечитать. Енька хотел подойти и взять письмо, но заробел перед матерью, сидящей за столом в рубашке. Он ушел на сеновал, чтобы спать и не спать до полудня и слышать сквозь дрему, как шумно и спокойно дышит невдалеке под тулупом Олег.
9
Олег резал во дворе полено. И рядом лежало еще три полешка, гладких, ровных и сухих. Олег резал и посвистывал. Из дома вышла Мария. Она взяла топор, расколола поленья на тонкие ровные щепки, сгребла их в охапку.
– Олег, дома картошку доокучиваешь, – сказала она, – к Саньке пойди поокучивай. С Енькой пойдете.
– Ладно, – сказал Олег и поднял голову. Он посмотрел на Марию и обиженно сказал: – Тетя Маруся, мне ведь нужны эти полешки были.
– Сказал бы, почем я знаю. Новые найдешь.
– А зачем они тебе? – спросила из-за ограды Наташа. – Вы, парни, куда нынче?
– К Саньке окучивать, – сказал Енька.
– И меня окучивать мамка заставила, – сказала Наташа, входя в ограду. – Давайте вместе. Сначала к нам, а потом туда. Или наоборот.
– Ладно, ладно, – сказал Енька, – жирная будешь.
– Я и так жирная, – засмеялась Наташа, хлопая себя по бокам. – Ладно?
– Ладно, пойдем, – сказал Енька, – сначала к Саньке.
– А ты чего тут мастеришь? – Наташа подошла к Олегу.
– Ничего.
– Потом увидишь, – сказал Енька.
Наташа подняла с земли обструганный кусок полена, повертела его и догадливо сказала:
– Да ведь это нога!
– Нога, – сказал Енька.
– А это еще нога.
– Нога, – сказал Енька.
Наташа разглядывала две небольшие деревянные ноги. Ноги были обуты в валенки, а на валенки надеты калоши.
– А это рука, и вот еще рука, – сказала Наташа.
– Ага, – сказал Олег.
– А чего ты выстругиваешь?
– Разве не видишь, голову выстругиваю.
– Я пойду в избу прожигать, – сказал Енька.
И пошел, забрав руки и ноги, выструганные Олегом из полена.
– Олег, а зачем тебе это? – спросила Наташа.
– Увидишь.
– В куклы будешь играть?
– Ага.
– Как маленький, – сказала жалостливо Наташа.
– Пошел отсюда! – загремел в доме голос Марии.
– Подожди ты, – пробурчал Енька.
– Пошел, пошел! Все чадом задымил, снова занавески придется стирать. И так обкурил все, а теперь чадит. Совесть надо иметь.
– Подожди ты, – сказал Енька.
Енька вышел на крыльцо, неся охапку тоненько прожженных в суставах деревянных рук и ног.
– Он как маленький, – сказала Наташа Еньке.
– А ты как глупая, – сказал Енька.
– Глупой лучше быть, чем маленькой.
– Ты покажи ей, Олег, – сказал Енька.
– Да ну ее.
– Покажи, пусть поумнеет.
– Покажи, я поумнею, – сказала Наташа.
Олег собрал человечка и поставил его на ноги. Человечек постоял, подогнул колени и свалился на спину.
Наташа захохотала.
Олег вынул из кармана коромыслице с несколькими длинными нитками. Он подвязал человечка нитками к коромыслицу. Он поднял коромыслице и поставил человечка на ноги. Человечек стоял и не падал. Это был человек в зимней шапке, в валенках с калошами. Олег достал из кармана красный карандаш и нарисовал на лице человека глаза и рот. Рот получился длинный, он застыл в какой-то непонятной улыбке, будто человека били по голове, а он пытался улыбаться.
Олег задвигал коромыслицем, и человек пошел.
– Какая прелесть! – сказала Наташа человечку.
Человек остановился, поднял руки и посмотрел в небо.
– Какая прелесть! – сказала Наташа и хлопнула в ладоши.
– А ты говорила, – сказал Енька.
– Чего говорила? – сказала Наташа.
– Говорила: корове на хвост наступила. А кто видал?
– Ты молчи, – сказала Наташа. – Это не твой человечек.
Человек опустил руки, склонил голову и пошел по земле. Он шел прямо к маленькой луже, которая не успела просохнуть после ночного дождя.
– Ты просто прелесть! – сказала Наташа Олегу.
Человек прямо в валенках пошел по луже и еще ниже опустил голову.
– Ты просто удивительная прелесть! – сказала Наташа, подбежала к Олегу и поцеловала его в щеку.
Человек прошагал через лужу и остановился. Он посмотрел назад и помахал кому-то рукой.
– Ты изумительная прелесть! – сказала Наташа и еще раз поцеловала Олега.
– Ладно, пойдем картошку окучивать, – сказал Енька.
– Ты молчи, это не твой человечек, – сказала Наташа.
Человек шагал дальше.
– Айда картошку окучивать, – сказал Енька.
– Подожди, – сказал Олег.
Человек шел и все оглядывался, улыбаясь длинным ртом, будто его бьют по голове.
– Пошли, – сказал Енька.
– Ты молчи, – сказала Наташа.
Енька подошел и пнул человечка. У человечка отвалились руки и ноги. А сам он отлетел далеко в сторону. Он лежал и смотрел в небо и улыбался виновато, будто его бьют по голове.
– Ладно, пошли, – сказал Олег и положил коромыслице в карман.
– Фу, какой дурень, – сказала Наташа, не глядя на Еньку. – Пошли окучивать картошку.
Они шли с тяпками по улице на Санькин огород. И впереди на дороге показался Митька.
– Да ведь это Митька! – удивленно сказала Наташа.
– Где? – быстро спросил Енька.
Митька двигался в военной форме с пилоткой на голове и в сверкающих сапогах. На груди у Митьки поигрывала медаль.
– Здравствуй, Митька! – крикнула Наташа.
– Здравствуйте, – сказал Митька и улыбнулся издали сухим черным лицом.
Он шел, поблескивая глазами, нес в руке походный вещевой мешок. Шел он легкой волчьей походкой и шел быстро, словно торопился в жаркий день напиться.
Наташа побежала. Олег шел, как шел, а Енька остановился.
– Привет, Енька, – сказал весело Митька. – Какой ты вымахал! – И Митька Еньке подал руку первому.
Енька тоже подал руку, но съежился, усиленно старался глядеть Митьке в лицо, только это у него не получалось. Митька здоровался, большой, ловкий, быстрый. Он весь так и ходил, как конь под пустым седлом.








