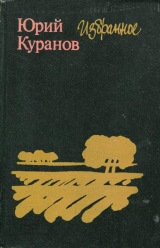
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юрий Куранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 44 страниц)
На улице показалась Наташа. Она несла в руках чугунок, а на чугунке лежал небольшой сверток, обтянутый желтым шелковым полушалком.
Радио спело песню, помолчало и начало передавать сводку, в которой сообщалось, что наши войска оставили город Харьков.
– Докуда же это будет продолжаться? – сказал Енька, отвернулся от окна и положил голову на стол.
Олег промолчал.
– Глаза бы ни на что не смотрели, – сказал Енька.
Вошла Наташа и громко сказала:
– Утречко-разутречко, добрый день!
Ей никто не ответил.
Наташа прошла к печке, где на шестке, растопырив черные высокие ноги, стоял таган. Она положила сверток на лавку, а чугунок поставила на таган.
– Мамка борща велела принести.
– Молчи ты со своим борщом, – сказал Енька.
– Санька идет. У нее ружье пропало. Андреева ружья нигде нет. Сегодня утром глянула на стену, а оно не висит, – сказала Наташа.
– Кто же его возьмет? – сказал Енька.
– Не знаю. Хватилась она, а нет ружья.
– Когда же оно пропало-то?
– Сама не знает. На стену-то посмотреть все, говорит, было недосуг. А посмотрела – нет.
– Найдется ее ружье. Кому оно нужно. А то и без ружья проживет. Зачем оно ей…
– А когда Андрей вернется, что сказать?
– Когда вернется, тогда и найдет.
Санька шла в легкой серенькой жакетке, в узкой длинной юбке, в сапогах. Она шла в поле. Она шла в поле, смотрела под ноги и что-то прикидывала в уме.
– Не нашла? – спросила из окна Наташа.
– Нет, не нашла, – сказала Санька, подняла голову и виновато улыбнулась.
– Найдешь, – сказал Енька.
– Найдется ваше ружье, – сказал Олег. – Куда ему деться…
От села тропинкой через огороды шла к озеру женщина с сумкой через плечо. Она вышла к озеру и двинулась навстречу Саньке.
– Нинка-почтальонка, – сказала Наташа, – газеты несет.
– Хоть бы не носила она эти газеты, – сказал Енька, – горе в них одно.
Женщина подошла к Саньке, поговорила с ней о чем-то, полезла в сумку и подала ей небольшую длинную бумажку. Она подала бумажку и продолжала стоять, словно в чем-то была виновата. И смотрела растерянно.
Санька взглянула в бумажку и села на дорогу. Потом вскочила и бросилась домой, на бегу хватаясь за сердце.
Ребята выскочили на улицу. Но бежать за Санькой не решились. Женщина постояла и так же огородами пошла из деревни.
Наташа и Енька вернулись в избу собираться к Марии, чтобы отнести ей в больницу пироги. А Олег полез на свой чердак. Он долго смотрел с чердака в поле и видел Нинку-почтальонку, которая торопливо шла к селу и временами оглядывалась, будто опасалась, что за ней гонятся.
Оттуда, из-за леса, заходили низкие темные облака. Из-под облаков дуло холодом, и в холоде чувствовался запах снега. Олег прислонился к трубе, стараясь припомнить лицо Андрея и выражение глаз его там, в ограде, когда Андрей успокаивал Саньку. Вскоре воспоминание стало похоже на дрему, и Олег почувствовал, что засыпает.
И тогда он услышал внизу, в избе, шаги. Шаги босые, легкие. Они прошлись по комнате, по кухне, вернулись, вышли на крыльцо. И тревожный, почти испуганный голос крикнул:
– Олег!
Голос был Инкин.
– Здесь я, – сказал Олег.
Он быстро спустился по деревянной шаткой лестнице. Инка уже стояла на улице, в своем прежнем платье, без платка, в коротенькой черной жакетке.
– Мы уходим, – сказала Инка.
Олег стоял и не знал, что ответить.
Они пошли к озеру, и вдоль озера, и мимо мельницы. Вокруг мельницы стояли подводы, и она быстро работала крыльями. Мельница вся дрожала, рвалась со своего места, и пожилые неторопливые люди поднимались в нее с мешками на спине.
– Вот и живут уже на мельнице, – сказала Инка.
– Куда же вы пойдете? – спросил Олег.
– Далеко, – сказала Инка.
Они вышли в поле и пошли дорогой. Ветер крепчал, и в холоде этого ветра поля стали серыми. Ноги у Инки посинели, она все запахивала жакетку и смотрела вдоль ветра.
– Знаешь, у меня дома ботинки есть. Давай вернемся, наденешь, – сказал Олег.
– Есть у меня ботинки, скоро мать даст их мне, – сказала Инка.
– Вы далеко-далеко пойдете? – спросил Олег.
– Ага. А ты будешь меня помнить?
– Буду. А ты?
– И я буду. Конечно, буду, – сказала Инка. – Кого же мне помнить! А вот ты забудешь.
– Не забуду, – сказал Олег.
Теперь они шли березняком, волглым проселком, усыпанным листьями. Листья двигались на дороге. Они тоже собирались куда-то идти.
– А в лесу листья не так шумят, – сказала Инка.
– Здесь ветра меньше, – сказал Олег.
– Кирилл коня где-то достал, – сказала Инка. – Хороший конь.
– У Саньки Андрея на фронте убили, – сказал Олег.
– Куда же мы теперь пойдем? – сказала Инка.
– Плачет она, наверное, теперь одна, – сказал Олег.
– Пойдем куда-нибудь далеко, – сказала Инка. – Кирилл знает куда.
Лес кончился, и впереди раскинулось поле. На краю поля, там, где оно упиралось в небо, стояла высокая телега, запряженная косматым конем. Рядом колыхался большой синий шатер. Ткань шатра колыхалась и вздрагивала. Она рвалась с места. На передке сидел человек с длинной бородой. Борода тоже развевалась по ветру. Несколько женщин в длинных платьях и в широких платках таскали из шатра узлы. Женщины складывали узлы в телегу.
Потом две женщины присели возле шатра, и одним краем шатер оторвался от земли, взметнулся в небо. Он раскинулся над полем, и слышно было, как ветер бьется в нем и щелкает.
Женщины поймали шатер за концы, положили и свернули. Краем поля, прямо за подводой, быстро шли облака. И от этого казалось, что конь, и телега, и женщины движутся куда-то назад и гнутся, потому что ветер дует им в спины.
– Не ходи дальше, – сказала Инка.
Они остановились.
Инка долго смотрела Олегу в лицо. Потом задумалась и сказала:
– Ты не забывай меня.
– Я тебя не забуду, – сказал Олег.
Инка повернулась и широкими шагами пошла через поле. Женщины забрались в телегу, и телега тихо двинулась. Инка сначала просто шла, потом побежала. Она догнала телегу и на ходу вскочила в нее. Подвода медленно двигалась вдоль облаков, которые шли и обгоняли телегу.
Олег вернулся домой поздно, когда уже начался дождь. За столом обедали. Ели жирную лапшу, и сильно пахло в доме гусиным жиром.
Дед позвал Олега есть, но Олег прошел на кухню и в темноте встал у окна. На улице было темно, капли быстро текли по стеклу и чуть посвечивали.
Подошла бабушка.
– Что с тобой, Олег? – спросила она и положила руку ему на голову.
– Ничего, мама. Так, – сказал Олег.
– Пойди поешь.
– Не хочу. Я постою немного.
Бабушка ушла. И в окне начало обозначаться лицо Инки. Она строго смотрела на Олега и тихо двигала губами. Олег не слышал слов, но знал, что говорит Инка. Она говорила:
– Ты не забывай меня.
Потом она повернулась к Олегу спиной, запахнула жакетку и медленно пошла в темноту. Скоро она совсем пропала там среди дождя. А Олег стоял, плакал, и ему казалось, что он уже много лет живет на свете.
ДУШНОЕ ЭХО1
С утра шел снег и таял на лету. С крыши капало, и от каждой капли сугроб слегка похрустывал, словно какая-то осторожная птица оступалась под окном. В избе было жарко. Мария лежала в постели и не то чтобы спала, а так, перемалывала сон с дремотой. С утра все болела поясница, будто вставлен был в спину топор и теперь медленно там поворачивался. На заре Мария все же подоила корову, подстелила теленку и протопила печь. Но потом опять легла, и вставать ей теперь не хотелось.
Еще с ночи в Марии поднялась какая-то скука. И трудно было понять – отчего. Дело было не в пояснице. Поясницу с осени ломило почти каждый день, и Мария уже привыкла не прислушиваться к этой боли. Сегодня же Марию томило всю, и ныло сердце, и в руках металась легкая дрожь, как от слабости. Мария перевернулась со спины на живот, лицо уткнула в подушку и вроде бы начала засыпать.
В это время на крыльце послышались шаги. Кто-то деловито оббил валенки, прошел в сени, без стука открыл дверь и встал на пороге.
Мария лежала, не поднимая лица.
Человек прошел по комнате к столу.
Мария подняла лицо, глянула и увидела Нинку-почтальонку.
Нинка стояла спиной к Марии и рылась в своей почтовой сумке. Марию охватил озноб, в колени пришла слабость, и все лицо у нее задрожало. Мария лежала, опустив лицо на подушку, делая вид, что дремлет, и боялась, как бы Нинка не заметила, что всю ее колотит.
Нинка мягко прошла от стола к двери и дверь прикрыла за собой.
Мария лежала и боялась открыть глаза. Потом она решительно повернулась в постели. Но решительности хватило только на то, чтобы лежать и смотреть в полати широко открытыми глазами.
Она свесила ноги, села на кровати, посмотрела на стол. На столе лежало треугольное фронтовое письмо.
Петр спокойно и немногословно писал о себе. Он писал о себе так, что Мария ничего не могла из этого письма узнать о нем. Он писал о себе, как о чужом человеке, жизнь которого ему известна мало, и он не знает, что сказать. Дальше Петр много вспоминал о доме, о ней, Марии, о Еньке, давал всякие советы, спрашивал о многих делах и в конце письма говорил о том, что они если и не скоро, то все же увидятся.
Мария положила письмо на стол, чувствуя те слова, которых в письме не было, но которые Петр хотел бы написать ей о себе. Томление не прошло, оно усилилось, и Петр вызывал теперь в Марии какое-то смутное и уже далекое чувство, какое она испытала четырнадцать лет назад при виде Еньки, принесенного сиделкой к ней в родильную палату. Енька был тогда спеленат и с лицом беспомощным при ярком свете дня. Мария хотела заплакать, но не заплакала, потому что письмо все-таки лежало перед ней на столе и было из него ясно, что Петр пока жив.
И Петр действительно был жив. Он лежал на животе среди леса, зарывшись лицом в снег и раскинув руки. Его шинель и сапоги вмерзли в наст, но лицо еще не вмерзло, потому что изо рта у него текла кровь и подтачивала своим теплом снег вокруг лица. Петр лежал на много верст западнее старого русского города Демянска, и вокруг него в лесу и на поле лежало много таких же людей, как он. Двадцать минут назад Петр бежал, проваливаясь в снегу и крича во все горло.
Но теперь ему казалось, что он спит и видит сон. Лежит он в траве под мельницей, над озером. Он лежит маленький, руки и ноги его спеленаты. Ему трудно пошевелиться. Под мельницей в распоясанной рубахе ходит Енька. Енька большой, сильный. Он длинными руками берет мельницу то за одно, то за другое крыло и раскручивает их. Петр хочет окликнуть Еньку, но крик у него не получается. И вдруг Енька все же оглядывается, видит Петра в траве и подходит к нему. Енька внимательно наклоняется над Петром, берет его на руки и несет домой.
А Енька возле школы играл в снежки. Енька наступал на снежную крепость. Солнце садилось, и стены крепости разгорались мглистым багровым огнем.
Енька выжидал, когда кто-нибудь появится над крепостью, и тогда с силой швырял снежок, стараясь попасть в голову. Между делом Енька поглядывал на школу. Там в крайнем окне при свете керосиновой лампы танцевала Наташа. Там учительница географии Анисья Викторовна играла на баяне «Молдаванеску», а школьницы разучивали танец.
Учительница сидела на подоконнике, раздувала баян и при этом так двигала плечами, будто спину ей обдавало кипятком.
Слева от учительницы горела на столе керосиновая лампа, и Наташа танцевала то по левую, то по правую сторону лампы. Потом она прошлась посередине класса и стала танцевать как раз позади лампы. Она танцевала, покачивала головой, отчего казалось, что подбородком она постукивает по лампе.
Енька усмехнулся. Он усмехнулся и полетел с ног.
Обледенелым снежком рассекло Еньке щеку до самого уха.
– Дурак, – сказал Енька, вставая на ноги.
– Сам дурак, – сказал Федька Ковырин. – Чего злишься, такая игра.
Енька приложил к щеке горсть снега и отошел в сторону, к школе. Учительница тихо играла «Шар голубой» и ласково двигала в темноте плечами.
Из школы вышла Наташа.
– Енька, чего ты?
– Щеку рассек.
– А я так, прорепетировала.
Они шли по селу, слушая, как затихает шум и говор позади, возле крепости.
– Дурацкая эта ваша игра, – сказала Наташа.
– Такая уж игра, – сказал Енька. – А хорошо Анисья Викторовна играет на баяне.
– У нее друга вчера в Севастополе убили, – сказала Наташа.
– Как вчера? – удивился Енька.
– Письмо вчера получила. Ей одна санитарка оттуда написала. Сама, пишет, видела. Корабль евонный возле самого города немцы разбомбили.
– Бомбардировщиками, значит, – сказал Енька.
– Наверное. Прямо, говорит, корабль сгорел и перевернулся. А друг-то ее, видно, выплыть хотел. Моряк он. Так и прибило потом под вечер к берегу с головой с пробитой. Хороший такой человек был. Анисья Викторовна даже за него жениться хотела.
– Ну и женились бы, пока войны не было.
– Ага, – сказала Наташа, – да видишь, война началась, ее и эвакуировали оттуда.
В деревне уже горело в окнах, пахло низким печным дымом, и под крышами мутно посвечивали затвердевшие к ночи сосульки. В избе Калины горел свет. Видна была горница, обвешанная серебряными и золотыми кошками, ковер над кроватью.
И казалась горница уютной, теплой, так что Еньке даже захотелось спать.
– Вот Калина здорово живет, – сказала Наташа.
– Чего это?
– Как чего? Красиво у нее в избе, картинок всяких много, занавески тюлевые… и сама такая вся…
– В карты играет. Сама с собой, что ли? – сказал Енька.
Видно было, что Калина сидит за столом и сдает карты.
– Скучно ведь одной, заиграешь, – сказала Наташа.
За дальним краем стола сидел мужчина и держал перед собой карты и разглядывал их.
– Ведь это же дядя Саша, – сказал Енька.
– Он, – согласилась Наташа.
– В картишки поигрывает, – усмехнулся Енька.
– А чего, все веселей вдвоем, – сказала Наташа.
Калина встала, прошла на кухню. Она вернулась оттуда с большим блюдом. Калина поставила блюдо на стол и задернула занавески.
Мать колола во дворе дрова. Она была в полушубке, в валенках и без платка. Она заносила колун над головой и всем телом сильно била в чурбан. При этом она шумно выдыхала, и выдох напоминал кашель.
– На-ка, Ень, поколи, – сказала Мария, забирая у Еньки книжки. – Устала чего-то, да и делать ничего не хочется.
– Давай, – сказал Енька. – Опять, что ли, заболела?
– Да нет. Так, му́ка на сердце. Да письмо от отца в полдень пришло.
– Чего пишет?
– Ничего. Пишет, что все хорошо. Ну ладно, я книжки отнесу да печь разожгу.
– Давай, – согласился Енька и по-матерински, с прикашливанием, стал колоть в темноте дрова.
2
Поднималась метель, сырая, мглистая, вечерняя. Снег шел тяжело, густо. Метель закрывала деревню, пряча дома один от другого, будто разгоняла их по полю все дальше и дальше в разные стороны.
Матери дома не было. Она еще не вернулась из коровника, потому что там сегодня у них кто-то из районного начальства проводил проверку. Сквозь метель слабо посвечивал соседский огонь Олеговой избы. Временами его совсем закрывало, будто кто-то большой, пролетая в воздухе, садился там на окно и закрывал огонь своим косматым телом. Так, поглядывая на Олегову избу, Енька вспомнил, что мать с утра велела ему нагрести и оттащить бабушке Матрене ведро картошки. Енька взял ведро, взял спички и полез в подполье.
В подполье было темно и влажно. Тьма уходила далеко в разные стороны, и не было ей конца. Здесь чувствовалось, как на улице метет ветер. Ветер слышался отдаленными глухими вздохами, словно кто-то с трудом полз по земле в разные стороны одновременно. Потом этот кто-то затихал, на землю ложился и собирался с силами. И все шарил по стенам. А на дороге послышались шаги. Кто-то шел из деревни в поле. Потом кто-то с поля проехал на санях. И сани не скрипели по снегу, а бороздили его.
Енька прошел в глубь подполья. Кто-то легко коснулся щеки его. Енька отшатнулся, чиркнул спичку и увидел большую прошлогоднюю муху. Муха висела на паутине и спала на весу. Енька поднес к мухе спичку. Та вспыхнула, и огонек легко скользнул по паутине вверх.
Енька поставил на землю ведро и нащупал в темноте картошку. Картошки лежали большие, влажные, слегка вспотевшие. Кожа их гладко шелестела под пальцами. Картошки затаили дыхание и прислушивались к руке: кто их трогает и зачем. Енька взял две картошки и положил в ведро. Остальные зашевелились, побежали куда-то. Енька поймал еще две и тоже положил в ведро. Остальные притихли.
Из картошек уже тянулись длинные ростки. Ростки холодно похрустывали в ладонях и гнулись. Они были похожи на маленькие добрые пальцы, которые тоже кого-то ищут во тьме.
Енька набрал полное ведро, накинул шубу и задами, хоронясь от ветра за сараями, направился к Олегу. Енька проскользнул сквозь огородные ворота и увидел человека. Человек шагал от калитки к крыльцу и тяжело тащил за собой санки. «Дядя Саша, наверное, муки где-то достал», – подумал Енька и хотел поздороваться. Но, приглядевшись, Енька понял, что это чужой человек, высокий, в полушубке, в валенках выше колен. Такие валенки катают в деревнях за Иртышом. На полушубок был накинут дерюжный плащ с капюшоном, и лицо разглядеть было нельзя. Только виднелась из-под капюшона рыжеватая заснеженная борода.
Человек поставил санки у крыльца, посмотрел на окна, снял с правой руки варежку и постучал в раму. В сенях раскрылась дверь, и голос бабушки спросил:
– Кто там?
– Чужих никого у вас нет? – спросил человек вежливым низким голосом.
– Нет никого, – сказала бабушка.
– Я зайду на минутку, – сказал человек и пошел в избу.
Енька приблизился к санкам и увидел, что поклажа накрыта рогожей. Рогожу густо забило мокрым снегом, и сверху казалось, что на санках лежит человек. «Свинью, поди, кто зарезал да продавать возит», – подумал Енька, поднялся в сени и хотел уже отворить дверь в избу. Но тут же услышал, как человек прошелся по комнате и опять спросил тем же вежливым голосом:
– Никого чужих нет?
– Кто же у нас может быть чужой… – сказал дед.
Тогда человек с хрустом снял плащ, отворил дверь и вышел в сени. Енька едва успел отскочить и спрятаться за кадку с капустой. Человек положил плащ на пол и вернулся в избу.
– Божий вечер, – сказал он.
– Спасибо, – сказала бабушка. – Метель-то какая на улице.
– Метель прямо с дороги бьет. Мокрая. Еле дошел. Нет ли у вас чайку?
– Чай-то есть, – сказала бабушка, – да сахар, кажется, кончился.
– Ничего, просто кипяточку дайте. Нынче сахар не только у вас кончился.
– Да, неважно с сахара́ми, – сказал дед.
– Время теперь не прежнее, – невесело сказал человек.
– Война, что поделаешь, – сказала бабушка.
– Всем животы подведет, – сказал дед. – Где война, там и голод.
– А уж вам-то в первую очередь, – сказал человек.
– Да, у нас ведь ни хозяйства своего, ничего нет. Уж хоть бы до лета дожить, – вздохнула бабушка.
– Доживете, бог даст.
– Впереди весна, страшно прямо, – сказала бабушка.
– Да эта-то весна, – сказал дед, – может, и переживется. А вот если нынче война не кончится, помирать будем.
– Бог даст, война летом кончится, – сказал человек. – Спасибо, хорош кипяточек. А война летом кончится, это уже ясно. Может, тогда и жить лучше станете.
Ветер зашумел гуще, он хлестал в бревна, как ливень. До Еньки долетали только отдельные слова. Но Енька внимательно вслушивался.
– Победить-то он, немец, не победит… а кровушки попьет, – сказал дед.
– Как ему не победить… – был голос человека. – Победит обязательно… дело его божье… За кровь за пролитую отместку дать судьба его послала… за несправедливости.
– За какую же кровь? – сказала бабушка. – Кровь за кровь – не много добра напокупаешь. Да и кровь-то он опять нашу, русскую льет. Своей-то пока не больно пролил…
– В искупление, – был голос человека. – В искупление, чтобы жизнь человеческая началась…
– Жизнь от этого не начнется. – Дед встал и заходил.
И опять ничего не различить. Слышались только шаги деда. Ветер немного стих, и явственным стал голос того человека:
– Умные люди говорят, что этим летом вся война кончится. Дойдет он до Урала и все прикроет.
– До Урала ему не дойти, – сказал дед и прекратил шаги. – Вот как его гнать обратно? В глубину в какую зашел! Вот это дело несметное. Могила на могилу цветом порастет. И нынешнего лета нам ни в коем разе не хватит.
– Вы меня не остерегайтесь, – сказал человек. – Я ведь свой. Чего же уж и меня-то бояться? Я вот думал все про вас. Потом гляжу – метель, вот и направился под метелью, – сказал человек.
– А где-то я вас видела, – сказала бабушка. – Где бы могла?
– А летом, как раз в начале войны. Я под утро по деревне шел. А вы с повети тогда по лестнице спускались.
– Да, да, да, – сказала бабушка.
Дед опять принялся ходить по избе.
– Я ведь жил в этой деревне, – сказал человек. – А потом уйти пришлось. Вот и ходил я тогда, все на прежнее свое место глядел.
В ограде послышались шаги. Взбежал по крыльцу и прошел в избу Олег.
– Здравствуйте, – сказал он. – Мама, поесть ничего нету?
– Сейчас, внучек, – сказала бабушка, и слышно было, как она встала из-за стола.
– И этот малыш парнишка с вами тоже? Ни отца, видать, ни матери?
– Да. Ни того, ни другого нет у него рядом, – сказала бабушка с кухни.
Дед продолжал ходить.
– И отца, и мать, выходит?
– Мать не тронули, – сказала бабушка. – Я думаю, она к этому тоже руку приложила. Жили они не дружно. Изменяла она ему, говорят. Он бесился, а поймать не мог. Она ведь, не успели сына взять, враз вышла за другого.
– И мальчика не приняла?
– Да просила она, а мы отдать не решились. Ну ладно, к чему уж эти разговоры…
– Одним словом, так, – сказал человек и шумно поднялся из-за стола. – Я тут с собой муки мешок привез. Пригодится она вам. А вы уж не говорите, где взяли.
Дед перестал ходить.
– А сколько вы за него просите? – сказала бабушка.
– Мне за эту муку ничего не надо. Почему не помочь людям в несчастье.
– Мы так взять не можем, – сказала бабушка.
– Вы, я вижу, нас не за тех принимаете, – медленно выговорил дед.
– Вы не бойтесь меня и не чуждайтесь, – вежливо сказал человек. – Доброе дело хочу я вам оказать. И все. Нуждаетесь ведь вы.
– Не за тех вы нас принимаете, – еще медленнее выговорил дед.
– Мы ведь не очень уж так нуждаемся, – сказала бабушка. – Мы на базаре лучше купим.
– Где же это на базаре вы теперь муку найдете? – усмехнулся человек. – Возьмите, прошу я вас. И не бойтесь меня, я сам в жизни горя много видел.
– Спасибо вам, но ничего нам не надо, – сказала бабушка.
– Я прошу вас, уйдите домой, – сказал дед.
– Что вы? Я не хотел вас обидеть. Я ведь с помощью пришел.
– Подожди ты, отец, – сказала бабушка торопливо. – Вы тоже на нас не обижайтесь. Но муку мы не возьмем. Мы ведь и правда не те, кто вы думаете.
– Да что вы… – начал человек.
– Идите, идите, – строго сказал дед. – И нечего разговаривать. А то у меня аж дух заходится. Обижу я вас.
Человек вышел в сени, подобрал с пола плащ, спустился с крыльца.
– Сволочь какая! – сказал дед за дверью. – Хорошо, что Сашки нет. Вот уж озверел бы.
Бабушка в наброшенной шали прошла на крыльцо.
– Вы не обижайтесь на нас, – просительно сказала бабушка. – Мы честные люди, и помогать поэтому нам не надо. Мы уж как-нибудь сами.
– Что вы! Зря вы, конечно, – сказал человек, накидывая плащ. – Зря вы меня боитесь, я ведь от чистого сердца.
– Мы никого не боимся, мы честные люди, – сказала бабушка, словно оправдываясь. – У нас ведь совесть чистая, бояться нам нечего.
– Ну ладно, – сказал человек. – Я пойду. Не держите на меня памяти.
Человек поплотнее натянул капюшон и направился к санкам.
– Где же у нас Сашка? – сказала бабушка, вернувшись в избу.
– Где же ему быть! Опять небось у этой лошади сидит, – сказал дед.
– Тише ты, тише, – зашептала бабушка. – Ребенок ведь дома.
И дед снова начал ходить по избе.
Еньке надоело сидеть за бочкой. Он поставил картошку в сенях и вышел на крыльцо. Между калиткой и поленницей человек стоял над санками, он стоял растерянно, сгорбивши спину. Потом он снял с санок рогожу, перекинул ее через руку и пошел на улицу.
Енька спустился в ограду. Снег уже редел, но ветер усиливался. И долго еще было видно этого человека, пока он шагал из деревни, наклонившись на ветер, все время поправляя капюшон. Енька поднял возок и тронул санки с места.
Из деревни подходили к дому двое.
Это были Калина и дядя Саша. Калина шла в длинном Митькином тулупе, шла запахнувшись, глядя под ноги. Дядя Саша – в легоньком своем пальтишке, засунув руки в карманы и смотря куда-то за деревню.
– Смотри, кто-то из деревни в поле пошел, – сказал дядя Саша. – Кому хочется после такой метели бродить…
– Уж не нам с тобой, – сказала Калина. – Эх и жизнь собачья! Сидели бы сейчас в тепле да в карты бы играли.
Дядя Саша промолчал.
– А почему вот нельзя посидеть да в карты поиграть до ночи? – сказала Калина. – А посидишь, пойдут языком чесать.
Дядя Саша молчал.
– Будто уж и воли у человека на собственную жизнь совсем нет, – сказала Калина.
– Ну, я пошел, – сказал дядя Саша.
Енька оттащил санки в сторону и спрятался вместе с ними за поленницей возле забора.
Калина побрела домой.
– Где Калина? – громко спросил в избе дед.
Потом дед в пиджаке, без шапки выскочил на улицу.
– Калина! – позвал он.
Калина остановилась.
– Иди сюда, Калина.
Калина стояла.
– Иди, иди.
Калина продолжала стоять.
Тогда дед пошел к пей.
– Ты бы, Калина, о Митьке подумала.
– А чего я, Владимир Зосимович? – тихо сказала Калина.
– Брось ты Сашку мутить.
– А чего я, Владимир Зосимович, ведь он сам ко мне ходит.
– Гони. Гони в шею. Не шлюха же ты.
– Мы ведь только в карты играем, – негромко сказала Калина. – Скучно мне вечерами. Жалко вам, что ли?
– Знаю я, до чего эти карты доводят. Сам молод был.
– Грех берете на душу, Владимир Зосимович, уж и в карты поиграть стало нельзя.
– Играла бы с бабами.
– Не ходят они ко мне. Дела у них. Дети. Грех берете на душу, Владимир Зосимович.
Дед стоял среди улицы, маленький, лысый, подогнул ноги, словно хотел кинуться на Калину. Ветер трепал полы его пиджака, отчего казалось, что дед вертится на месте.
– Ох и проучил бы я тебя, стерву! – сказал он поучительно. – В кровь бы всю морду расхлестал. Несчастная… Несчастней других, что ли?
– Грех берете на душу, – сказала Калина и пошла.
– Смотри. Поймаю, возьму за волосы – по всей деревне протащу. И этому морду всю исчерепашу. Картежники нашлись…
Дед вернулся в избу, громко хлопнув дверью. И что-то долго твердил за стеной, расхаживая по дому.
Енька взял санки с мешком, вывез их на озеро и спустил в прорубь.
3
Обледенелой дорогой в прокаленных утренней стужей розвальнях Енька ехал по дрова. Нет ничего веселей и злорадней последних морозов весны. Когда небо все пламенеет синью, чистейшее и высокое. Когда дорога трещит и лопается. Когда полозья раскатываются и грохочут.
Дыхание леденеет, но дышится легко.
Березы свесили отяжелевшие ветви с самого неба и невесомо залиты легчайшим серебром. Серебро покачивается, блещет на березах, готовое улететь.
И смотришь ты на мир глазами изумленными. Морозу ты не веришь. И даже не думаешь о нем. А на сердце такое чувство, будто там, за краем этого ликующего неба, кто-то весело идет по дороге и поет про тебя песню.
Енька поднялся во весь рост, размотал над головой вожжи да свистнул так, что зазвенело в легких. Конь пошел шибче. Енька еще свистнул, взмахнул вожжами и увидел впереди на дороге человека.
Человек сидел, раскачивал головой в крепко замотанном вокруг шеи платке, но голова все время падала на грудь. Человек сидел, упершись руками в дорогу, и глядел вниз. Была в нем какая-то растерянность; казалось, он силится что-то прочесть.
Енька подкатил ближе и узнал в этом человеке Калину. Платок на ней шелковый, цветастый. Цветы переливались, тронутые морозом. Енька остановил коня и выпрыгнул из саней. Ему подумалось, что Калина спит, вот так положив на дорогу руки.
Енька окликнул.
Калина головы не поднимала.
Енька тронул ее за плечо.
Калина с тяжестью подняла потное, глубоко обхваченное зеленой кожей лицо. Зрачки ее расплывались.
– Поезжай, парень. Поезжай, – сказала Калина.
– Чего это ты, Калина? Чего?
– Езжай. Езжай, парень. Пьяная я. Сама до дому доберусь.
– Ты чего, Калина? В своем уме?
Калина присмотрелась и полегчавшим голосом сказала:
– Енька, что ли?
– Знамо дело, я. Вставай, домой отвезу.
Калина тяжело начала подниматься. Енька хотел подхватить ее и помочь.
– Отстань. Не трожь, – строго сказала Калина. – Сама я. Жива, поди, еще.
Она поднялась и пошла к саням. Шла, собравшись всем телом. Шла, подогнувшись, будто в животе у нее сидела пуля. Она медленно и бережно села в сани. Сидела некоторое время отдуваясь.
– Гони в село, – сказала наконец Калина. – В больницу.
– В больницу?
– Гони скорей, да еще торопись…
Енька прыгнул в сани, схватил вожжи.
– Стой-ка, – сказала Калина, – Нет. Не твое это дело, пожалуй. Да и лучше будет так. – Она устала от слов, отдышалась и закончила. – Я сама доеду. Чего уж теперь, в санях ведь я. А ты беги к Марии. Пусть она скорей приходит ко мне… Белья принесет. Да не болтай нигде. Ну, пошибче.
Она тронула коня вожжой и лежа, руки прижав к животу, покатила по ледяной дороге, под небом неистовой синевы, под березами тончайшего белого серебра. И становилась она на этой дороге все меньше и меньше.
Чуть за полдень, сидя за партой, увидел Енька в окно самолет.
Учительница, та самая Анисья Викторовна, рассказывала про Гренландию и Северную Америку, расхаживала перед картой и говорила, глядя на лежащую поперек стола указку. Иногда она брала указку в руки.
«Еще тысячу лет назад на больших длинных лодках плавали норманны в Америку. Сначала они поселились на острове Исландия. Сосланный из Норвегии за убийство в Исландию рыжий норманн Эйрик и открыл Гренландию… А через несколько лет…»
«Странно, – думал Енька, – для чего же все это второй раз открывали? Зачем Колумб открывательствовал?»
Енька посмотрел в окно и тут же перестал думать о Гренландии, Колумбе, Америке: в окне, снижаясь над селом, летел самолет.
– А-а-а… – пропел Енька.
Анисья Викторовна тоже увидела самолет, но продолжала говорить. Самолет приближался, и класс его заметил. Учительницу никто уже не слушал. Все кинулись к окнам. Самолет низко проходил над школой, будто хотел снести нижним крылом всю крышу.
– Ух ты! – еле выговорил кто-то.
– Ведь он садится, – страдальческим голосом сказала Наташа.
Самолет действительно с грохотом снижался за школой.
– Анисья Викторовна! – крикнул Енька. – Можно на самолет глянуть выйти?
Анисья Викторовна хотела что-то сказать, но по коридорам унес грохотали десятки ног из всех классов.
– Катите, – сказала она, махнула рукой и села на подоконник.
Енька бросился в раздевалку. Там уже гудела давка. Раздевальщица тетя Катя ругалась, говорила, что сейчас придет директор, что он запретил. Тогда Енька прямо как был кинулся на улицу и увидел, что самолет уже катится по снегу полем к больнице. Енька свистнул и вдоль ветра на морозец побежал к самолету.








