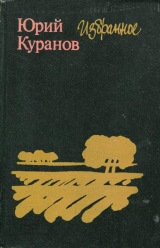
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юрий Куранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц)
И вдруг опять услышал Краев скрипку. От ключа в гору пожилой походкой шла невысокая женщина с удивительно молодым для ее лет лицом. Женщина несла в руке небольшую корзину стираного белья. Краев пристально вгляделся в нее и сразу узнал. Женщина шла, глядя прямо перед собой, но глядя как бы в пустоту. Женщина поднялась тропой в село, прошла мимо гостиницы, мимо чайной и свернула к так горько знакомому для Краева дому под высокой заснеженной крышей.
Краев стоял на пригорке, пока не озябли ноги. Тогда он пошел бродить по селу из конца в конец и за село, туда, к плотине, под ельник. «Из-за чего мы тогда так поссорились? – думал он и не мог вспомнить. – Что-то было ужасное, из-за чего уже нельзя было жить вместе. И никто не хотел уступить. Но что же это было такое? Кто был виноват?»
Краев напрягался и ничего не мог припомнить существенного.
«Неужели что-то совсем неважное?» – со страхом подумал он и вспомнил обреченное лицо Катерины, когда он одевался, чтобы уйти. И вспомнил, как, стоя на пороге, он обернулся, а она все молчала. И вдруг ее глаза налились слезами и потонули в них и потемнели от горя и страха, и она обессиленно сказала: «Не уходи». Он именно этих слов и ждал, но, услышав их, захотел, чтобы она повторила. Но она молчала и только плакала.
«А вдруг это было что-то совсем неважное?» – все с большим страхом думал Краев. Он ходил по селу, встречал знакомых ему людей, но никто не узнавал его, все проходили мимо, как будто его вовсе не было на свете.
Уже в сумерках он остановился на площади под высоким алюминиевым репродуктором, похожим на самовар, когда услышал, что в репродукторе начинается музыка.
Как тяжелый прибой метели, музыка трижды ударила над селом. Село покачнулось, и леса поплыли, как гигантские качели. И пошла скрипка и сладкой болью взяла сердце в ласковые дрожащие руки. Под низким зимним небом раскачивались тонко скованные стужей озера, и осыпался снег с дремучих тяжких сосен, и бил из снега ключ, и мчался ветер сквозь тучи до самого океана, и кто-то огромными синими глазами печально смотрел сквозь промерзающее окно.
Краев стоял на площади и озирался как в лесу. Он видел даль, и мчится сквозь даль машина, и кто-то в коротком платье садится в кузов на ходу, потом останавливает машину, перепрыгивает в другую, в третью, и этот в платье уже не кто-то и не в платье, а в рубашке с подвернутыми рукавами, и это он сам…
Музыка крепчала, она наливалась неистовой тишиной заледенения, когда лопается на реках лед, а окна деревень горят как дальние костры, и шелест пробирает на крыльце забытый веник, и чьи-то покрасневшие пальцы полощут в ключевой воде белье.
«Зачем, зачем нам уезжать из дома и уезжать из дома навсегда? Богаче дом без нас не станет… Ни дом, ни окна, ни крыльцо без нас не станут веселей или смелее… Тогда и наши дети уйдут из дома, и жизнь его оставит, и только кто-то закаменевший в неистовой и горькой чистоте будет ходить по утрам на клюя с корзиной стираного белья…»
Музыка гасла и уходила в снега. «Неужели она живет одна? Ну да, это же видно», – со страхом и стыдом подумал Краев и вдруг лихорадочно ощутил, что несчастье постигает человека, если он не заметит этого большого или не поверит в него. И как бы он потом ни жил, кем бы он ни был и чтобы ни делал, он будет в вечной суете искать тот потерянный отзвук, ловить далекое напоминание и вечно не будет доволен ни собой, ни людьми, ни работой, которая одна будет помогать временами забыться.
Музыка пропала, и голос женщины сказал, что исполнялась музыка Армаса Ярнефельда «Колыбельная». «Да, да. Колыбельная, – стоял и повторял Краев, – моя колыбельная… моя колыбельная земля…»
Он с трудом, как на костер, пошел к гостинице, и мимо нее, к мимо чайной, и свернул по тропе к той небольшой избе. Он вошел в темный знакомый коридор и остановился. За дверью шел разговор. Один был голос Катерины. Она говорила что-то глухо и укоризненно. Краев разобрал только несколько слов: «…неужели ты не видишь, что я одна…»
– Неужели я виновата, что ты одна? – сказал недовольный юный, почти девичий голос, и Краев понял, что это его дочь.
Он постучал.
– Войдите, – сказала Катерина.
Катерина сидела за столом и мяла в руках синий шерстяной платок. На гвозде рядом с дверью висело ее старенькое зимнее пальто. Дочь стояла среди комнаты в меховой белой шапочке, в узком коротком пальто с низким меховым воротником и в теплых ботинках на «молниях». Дочь посмотрела на Краева и спросила:
– Вы художник?
– Какой художник? – сказал Краев.
– Ну насчет туесков. Нам передавали, что вы хотите их купить.
– Пожалуй, так, – сказал Краев.
Дочь взяла со стола узкие кожаные перчатки и вышла. На ходу сказала Катерине:
– После школы, с кружка, пойду к Рите.
Катерина смотрела на Краева и видела, что это он. Она смотрела на него спокойно, словно Краев только вчера ушел куда-то и теперь вернулся с дороги.
– Куда повесить пальто? – сказал Краев.
– Вон на гвоздь вешай, второй-то все забываю вбить, – сказала Катерина и положила платок на плечи вокруг шеи.
– Есть хочешь? – спросила она.
– Давай что-нибудь, – сказал Краев.
Катерина поставила на стол тарелку борща. Потом принесла тарелку хлеба, нарезанного крупными ломтями, села напротив и заплакала.
Краев ел и смотрел на нее и молчал. Он только чувствовал, что у него тяжелеют щеки и исчезает дыхание.
– Подожди, я схожу в магазин да вина принесу, – сказала Катерина, вытирая платком глаза.
– А я пока прилягу да отдохну, – сказал Краев.
БЕЛКИ НА ДОРОГЕСнегопад осторожно приходит в леса. Черный ельник тонет в белой дали снегопада. Ветра нет. Слышен шорох медлительных хлопьев, да мягко поскрипывают на ходу оглобли.
Лелька по затылок ушел в лохматое тепло тулупа. Он свернулся в санях. Он подремывает и не подремывает. Изредка он глядит на дорогу. Через дорогу то и дело весело пробегают белки, оставляя крошечные следы на свежем снегу. Кажется, что белки катятся через дорогу кубарем.
Сани мягко покачиваются, словно идут по воде. Лелька свертывает и кладет под голову пустые мешки. От мешков еще пахнет рожью. Широкие кресла розвальней потерто поблескивают. Кресла снизу перетянуты рогожными бечевками. Бечевки кажутся медными.
Снег прозрачной живой глубиной закрывает дали, одевая леса искрящимся шорохом. Лелька закрывает глаза. Он засыпает, словно затягивает песню, как пели в старину ямщики.
Когда он открывает глаза, все так же шелестит снегопад, а в розвальнях у Лельки в ногах сидит на сене женщина. Женщина в бурой гладкой дохе, желтоватом пуховом платке, с красным кожаным чемоданом.
Лелька пристально разглядывает ее и молчит. У женщины необыкновенно веснушчатое лицо с удивительными зелеными глазами и веселым вздернутым носом. Женщина улыбается всем своим молодым лицом и тоже молчит.
Снегопад постепенно редеет. Сквозь облака длинным пятном обозначается солнце. Брови и ресницы женщины в посветлевшем воздухе становятся желтыми. Веснушки прозрачнеют и светятся, словно тонкий бронзовый пепел.
Лелька смеется.
Женщина тоже улыбается.
Навстречу свету по всему лесу бестолково зазвонили синицы. И над самой дорогой вниз головой висит под березой синица. Она вызванивает и смотрит прямо на Лельку. Глаза синицы смеются.
– Вот пройдоха, – говорит Лелька, глядя на синицу.
Женщина кивает головой, соглашается.
На повороте упирается в дорогу высокая еловая просека. Далеко, в конце просеки, длинные бревенчатые дома деревушки под слоисто заснеженными крышами. Вдоль просеки голубеет слабо наезженная дорога.
– Залесово? – спрашивает женщина, показывая глазами на деревню.
– Оно, – отвечает Лелька.
– Не сворачиваешь?
– Мне дале. Или уж приехала?
Женщина встает в санях во весь свой маленький рост, берет чемодан и спрыгивает на дорогу.
– Спасибо. Ты ехал, я и села. А будить не захотелось.
– А вдруг проехала бы?
– А ведь мне объяснили, что за просекой.
– Ты откуда?
– Городская.
– Из какого?
– Из самого большого. Приходи в гости.
– А куда к тебе приходить?
– Вот сюда. – Женщина показывает синей варежкой на деревушку. – Здесь жить теперь буду.
– Чья же ты будешь?
– Ничья, городская. Приходи.
– Хорошо, – соглашается Лелька, – вот повезу опять семенную рожь, заеду.
Женщина кивает и уходит по просеке под огромными скалисто заснеженными елями. Под елями висят синицы и кричат. Женщина уходит далеко, мелко семеня валенками, словно спеша на высоких каблуках.
Лелька встает в санях и кричит в просеку:
– О-о-о!
Женщина оглядывается и тонко смеется издали. Смех уходит в леса, и с елей осыпается снег.
Конь трогает, Лелька плюхается в сани. Он устраивается поудобней и снова закрывает глаза. Сквозь веки в глаза веснушчато светит солнце. От этого кажется, что лето. Широкие оброгоженные кресла розвальней поскрипывают между оглоблями. Порой слышно, как фыркает конь, когда дорогу перебегает белка.
1960—1964 гг.
НА ТЕПЛОМ БЕРЕГУ
НА ТЕПЛОМ БЕРЕГУТележников должен был прибыть в Траково в полдень, но получилось так, что приехал утром на попутной машине и никто его не встретил.
Перевели его на работу в эти места недавно, с Кубани, и в лицо его здесь почти никто еще не знал. Он вышел из машины на площади села и остановился, чтобы присмотреться и узнать это место получше, потому что оно надолго теперь должно стать ему родным домом точно так же, как и многие другие здешние деревни и села, в которых ему теперь придется работать.
Он постоял, глядя на пригнувшиеся под тяжким инеем березы и тополя, глядя на избы, трубы которых курились голубоватыми струйками дыма, на ребятишек, которые спешили по морозу в школу, и на шофера, который возле клуба разогревал легковой газик паяльной лампой.
У людей были свои утренние заботы, и все они спешили, а кто проходил мимо, здоровались с Тележниковым, как здесь издавна привыкли здороваться с каждым человеком. И оттого, что они здоровались, Тележникову стало очень приятно, будто он уже много лет знает некоторых, а они знакомы с ним.
Голова у Тележникова болела от долгой таежной дороги и бессонной ночи и от многих собраний и нужных деловых разговоров перед этим. Он решил пройтись по селу, подышать морозом и сладким дымом русских печек, освежиться, чтобы голова стала ясной, и уж потом идти к местному начальству, которое все равно будет ждать его только в полдень.
Село было длинное, вытянутое вдоль быстрой неширокой реки, а на горах замерли в стуже леса, и далеко было слышно, как во все стороны от села шли лесовозные машины. Тележников уже издавна полюбил эти звуки, потому что ему в окружении их всегда казалось, будто это он сам везет лежневкой сосновые медные бревна, говорит на площади в репродуктор, пробивает пешней на реке лед за фермой, везет лен скрипучей зимней дорогой и сидит на возу, а также одновременно видит нее это со стороны и может понять, что делают так, а что не так.
И теперь он медленно шел высоким селом и дышал всем, что его окружало. В половине ходьбы по длинной улице он увидел большой новый деревянный дом. Дом был построен добротно из красных кедровых бревен, густо покрыт инеем, и высокая железная труба его дымила. Тележников подошел ближе и увидел, что это баня. Он понял, что строение это новое, и решил зайти в него и посмотреть, что в нем сделано так, а что не так.
Он прошел твердой бетонной дорожкой, которую, видимо, разметали каждый день, и попал в неширокий поперечный коридор, оказавшись прямо перед окошечком, в котором сидела женщина-кассир и ждала посетителей. Тележников остановился возле окошечка и стал смотреть, что там на полках за спиной женщины, то есть что она продает людям, которые, вымывшись в бане, захотят выпить кружку пива, стакан морса или пожевать конфету. Помимо разных бутылок и тарелочек с конфетами, с пряниками в углу помещения кассы стоял самовар и уже шумел, а возле него на деревянном подносе стояли чистые стаканы.
Тележников был с маленьким своим дорожным чемоданом, и женщина решила, что он пришел помыться и попариться в бане. Она оторвала ему от длинной ленты один билет и держала его в руке.
А Тележникову захотелось чаю, и он сказал:
– Нельзя ли попросить у вас стаканчик с крепкой заваркой?
– Уж после бани и пейте, а то тяжело будет, душу паром захватит, – сказала женщина и подала ему билет.
Тележников неожиданно для самого себя купил билет и прошел в предбанник. Он разделся, повесил одежду в узкий деревянный шкаф и по деревянному холодному и скользкому полу прошел в самую баню.
В бане густо ходил пар и пахло от него кедровым лесом. Пар волнами шел из парилки, и было похоже, что это из глубины моря ветер несет на берег туман. В тумане здесь и там разобрать можно было длинные лавки, которые походили на маленькие острова. В бане было пустынно, и шаги отдавались гулко. Сквозь туман с потолка падали крупные холодные капли, и одна из них упала Тележникову на плечо, а вторая на спину. Окна стояли высоко и светили с улицы в туман тем рассеянным светом, который бывает ранним утром, когда солнце еще не встало.
Тележников положил мыльницу на лавку, на мыльницу – зубную щетку и пасту. Он набрал в таз теплой воды и поставил на пол, под мыльницей, для ног. Набрал еще таз, уже горячей воды, и поставил на лавку рядом с мыльницей. Потом прошел к кранам и ароматной болгарской пастой почистил зубы, прополоскал рот, и во рту остался солоноватый вкус морской воды.
Он сел на лавку и намылил голову. И как это всегда бывает, голова его стала легкой, словно молодой, и Тележников даже вспомнил что-то забавное из своего детства и усмехнулся. Тележников вспомнил, как в детстве он любил с ребятишками бегать вот в такую же общую баню, где целыми часами они плескались в ушатах и окатывали друг друга с ног до головы. А однажды один притащил из дому спринцовку и полдня гонялся за товарищами и хлестал их, как прутьями, острыми струйками холодной воды. Они все учились тогда во вторую смену и бегали в баню с утра, когда в бане еще никого нет. В тот раз они так забаловались, что опоздали на урок.
Тележников, не переставая улыбаться, закрыл глаза и стал смывать мыло. Когда мыло сошло и волосы мягко заскрипели под пальцами, он открыл глаза и оторопел. Алыми вязкими тучами пар ходил над головой. Пар клубился и мельчайше искрился, словно по нему рассыпалась радуга. Окна ярко горели от прямых лучей солнца, так что ломило глаза. Тележников встал, поднял руки над головой и погрузил их в эти клубящиеся облака и растопырил пальцы. Тележникову захотелось пробежаться по бане. Ему показалось, что там, в тумане, внизу, откуда валит пар, кончается берег и тяжело ходит мягкая теплая вода. В нее нужно нырнуть и долго идти в глубине и потом плыть, широко взмахивая сильными руками, пока лучи не лягут на самое море, и после, в этих лучах, выйти на берег и обтереться сухим полотенцем.
Он долго стоял так, с поднятыми руками, чувствуя, как все его тело растет и молодеет. Потом Тележников набрал второй таз воды и еще раз намылил голову. Когда он снова открыл глаза, то увидел, что мимо него идет женщина, вся в белом и с темным платком на голове. Он тщательно промыл глаза и посмотрел опять и увидел, что да, женщина. Она уже стояла к нему спиной и что-то громко говорила туда, в парную, откуда валил и валил туман. Тележников рассердился и хотел было уйти. Потом он решил дать понять, что в бане есть он, и громко загремел тазом. В это время из парной, низко пригнувшись, весь алый, выбежал с тазом в руке мальчик лет семи. Он бежал к кранам и на ходу отряхивался от налипших на тело березовых листьев. За ним выскочил второй, постарше, такой же алый, тоже с тазом и тоже бросился к воде. А женщина успела шлепнуть его по спине ладонью. И появился мужчина. Он шел степенно и был уже не алый, а багровый. Он прошел к кранам, поднял с пола таз, с грохотом налил его ледяной водой, окатился и охнул, словно проглотил стакан водки. Налил еще таз и еще окатился.
– Сатана, – сказала женщина, глядя на мужчину, – самого хоть прутьями жги! А детей-то ведь изведешь. Лопнут ведь от жары-то.
Мужчина молча, с таким же грохотом, налил еще таз и еще окатился. Женщина постояла, восторженными глазами глядя на мужчину, и сказала, обращаясь к Тележникову:
– С таким мужиком либо зверем станешь, либо чертом. Тыщу раз хочу уж ребятишек туда, в женское отделение, с собой водить. Упрется как бугай, ни за что не отдаст.
Мужчина виновато улыбнулся женщине и весело посмотрел на Тележникова и подмигнул ему, как бы состоял с ним в заговоре. Тележников тоже улыбнулся, уже видя, что это та самая кассирша, только теперь в белом халате.
Между тем ребятишки уже носились по бане и хлестали друг друга мочалками и визжали.
Мать погналась за ними через всю баню. Они хохотали и убегали от нее. Валенки кассирши в черных калошах скользили по полу, но она все же изловила детей где-то в тумане и выволокла в предбанник.
– Спину, что ли, потереть? – сказал мужчина и сел рядом.
– Конечно, – согласился Тележников.
Мужчина крепко протер и промыл ему спину. И потом Тележников протер и промыл спину мужчине. И они еще и еще раз окатились и пошли одеваться.
На лавке в длинном узком коридоре уже стоял самовар и дымились два круто заправленных заваркой стакана. Тележников и мужчина сели и, коротко прихлебывая, стали пить. Мужчина пил вприкуску, Тележников внакладку. А кассирша смотрела на них из окошечка. Ребятишек уже не было.
Повалил народ. Это были пожилые люди, мужчины и женщины, которые уже не ходят на работу в учреждения или в поле. Они покупали билеты и ласково поглядывали на самовар.
Мужчина и Тележников напились, отерли потные лица, и кассирша с Тележникова взяла плату, а с мужа нет.
Тележников вышел из бани как в небо. Солнце ярко светилось по всем горам, по крышам и по окнам села. Прохожих было уже мало. Машины гудели где-то вдали за рекой. Мимо прошла к станции низкая лиловая «Волга». «За мной, наверное, послали», – подумал Тележников, хотел остановить и вернуть машину, но она уже свернула в переулок. Тележников не спеша, но легко шагал к центру – к высокому каменному дому управления. И словно не было у него этой дорожной ночи, словно никогда в жизни не был еще он пожилым человеком, и живет он здесь в селе уже тысячу лет и знает всех и каждого, а полсела ему родня.
И еще не покидало его это трепетное ощущение, что он где-то на теплом берегу, необязательно на берегу моря, а на берегу, где вообще тепло, где все просто, ясно и где никогда не может иссякнуть это утреннее чувство молодости.
КАМЕННАЯ ДЕРЕВНЯЭти скалы смотрят в Туву. У них тяжелые, громадные лица. Их лбы разглажены ветром и низко нависают на глаза; и где-то изредка метнется над бровями узкая полоска кварца, и похоже тогда, что эта складка затянута сединой. Они опустили руки вдоль туловища и стоят здесь уже тысячи лет, медлительно размышляя о чем-то угрюмом. Их много, они не переговариваются, молчат, стоят в отдалении на самом краю хребта, что уходит глубоко в тайгу, вниз к реке, шум которой слышен здесь только на рассвете или ночью.
Здесь никто не живет, сюда редко заглянет охотник. Тут только порою судачат кедровки, и то с оглядкой, как бы опасаясь этих каменных людей. Здесь иногда отдыхает ястреб, устроившись на гранитной косматой голове. Здесь пробегает ручей, и плеска его не слышно, потому что он осторожен. Бежит он здесь не первый день, и поэтому можно сказать, что ручей тут живет. Сюда заглянул как-то художник, молодой, торопливый и бородатый человек. Он быстро, присев на раскладной стульчик, набросал дальние цепи гор, которые тянутся от Иркутска до Барнаула, и черной покрыты тайгой, и теряются друг за другом – все на юг и на юг. Художник увидел эти скалы из грузовой машины, с тракта, и прибежал сюда. На прощанье он облюбовал небольшую доступную скалу, сложил под ней нечто вроде лестницы из камней на высоте в два человеческих роста. Он белой масляной краской написал: «Верочкин камень». Он рад был очень – ведь до него здесь никто не сделал ни одной надписи – и теперь чувствовал себя первооткрывателем. Он даже проводил в уме некоторое сходство между собой и одним англичанином, который много тысяч верст проехал и прошел пешком до Тувы, чтобы вбить среди этой страны столб с надписью «Здесь центр Азии». Англичанин вбил столб и тут же уехал. Художник совершил надпись и ушел. И тут среди тайги так никто и не знает, почему этот камень «Верочкин» и кто она, «Верочка», – дочь, сестра, невеста, жена или просто приятельница этого художника…
А между тем охотники и местные жители издавна зовут эти скалы Каменной деревней. И верно, издали скалы похожи на какое-то забытое или околдованное поселение, где в непогоду поет ветер. Это пение напоминает голоса исполинских тоскующих людей.
А теперь уже много дней стала ходить сюда с ближайшей трактовой станции девушка. Она приходит до или после работы, а то и на весь выходной день. И, кроме самой девушки, никто не знал, что там, в Каменной деревне, она делает.
И вот однажды сюда пришел проезжий человек. Он увидел с тракта из машины эти скалы и просто решил посмотреть поближе, что это такое.
Он шел в ковбойке, легких брюках и в кожаных сапогах. Он шагал нерослой кедровой чащей, затканной длинными паутинами. Он раздвигал паутины руками, те повисали на пальцах и тянулись, поблескивая в воздухе, как прозрачные струйки ветра. Он шагал через буреломины, затянутые мхами точно малахитом. Малахит был этот живой, влажный, и пахло от него сырыми гнилушками. Кое-где в малахитах сидели маленькие красные грибы, и над ними висели мелкие медные мухи.
Лес кончился, и проезжий человек вышел на высокую скалистую поляну. Перед ним была Каменная деревня. Между скал были проложены из небольших камней прямые невысокие изгороди, которые образовывали по всей Каменной деревне улицы. Ручей, перегороженный маленькой, словно игрушечной, плотиной, образовал озерко. Сапогами стоя в озерке, строила среди него из камней небольшой остров девушка в фуфайке и в рабочих брюках. Она строила островок и время от времени прерывала свое дело, задумывалась, стоя среди воды. «Так или не так я делаю?» – видимо, думала девушка.
Проезжий человек остановился и стал смотреть на девушку. А девушка продолжала свое дело. Потом проезжий человек сделал несколько шагов. Девушка услышала шаги, распрямилась и, не оборачиваясь, стоя в воде, замерла. Проезжий человек тоже замер. Так они стояли долго. Потом девушка, так и не оборачиваясь, громко спросила:
– Вы проезжий?
– Проезжий.
– Нет, вы не тот проезжий, – сказала девушка и обернулась.
– А какой же вам нужен? – сказал и улыбнулся проезжий человек.
– Я знаю какой, – сказала девушка, вышла из озерка и села на землю.
– Я вижу, вы здесь собираетесь жить, – сказал проезжий человек.
– Я просто иногда прихожу сюда, и в этом нет ничего смешного, – сказала девушка.
– Я не смеюсь. Что вы! Я просто разговариваю.
– Разговаривают не так, – сказала девушка, – я знаю, как разговаривают.
– Тогда научите меня.
– Я сама не умею. Я вот смотрю на вас и не понимаю, поют в ваших глазах птицы или нет.
– В моих глазах шумит ветер, – сказал проезжий человек.
Он встал и прошелся по Каменной деревне.
– Вы знаете, – сказал он издали, – если бы я жил неподалеку, я бы тоже ходил сюда строить улицы и острова.
– Я не за этим сюда хожу, – сказала девушка. – Я жду здесь одного человека.
– Он должен прийти сюда?
– Нет, не сюда. Просто здесь никто не видит, что я его жду.
– Но когда он приедет, вы его должны сюда привести.
– Я уже и не знаю, приедет ли он.
Проезжий человек остановился над обрывом и стал смотреть вниз, в таежную глубокую долину. По долине текла река вниз, в Енисей, но шума ее не было слышно, только вся она казалась покрытой искрами и пеной. Берегом реки шел крошечный человек с ружьем. Впереди него бежали две черные собаки. Собаки бежали, перепрыгивая через камни, порой останавливались и смотрели в воду.
– Как вас зовут? – сказал проезжий человек.
– Майка, – сказала девушка.
– Майка, подойдите сюда. Этот человек не к вам ли идет вдоль реки?
Девушка подошла и встала рядом.
– Я думаю, это не он, – сказала она, – я бы его узнала.
Они прошлись вдоль Каменной деревни.
– Ну я пойду домой, – сказала девушка, – а вы оставайтесь.
– Хорошо, – сказал проезжий человек.
– Только вы здесь ничего не трогайте.
– Зачем же я буду трогать?
– Кто знает, возьмете и тронете. А мне не захочется тогда сюда приходить.
– Для чего же мне трогать, я проезжий.
– Проезжие вот и любят потрогать. Когда я пришла сюда, здесь вот, на том старике, – девушка показала пальцем на старенькую косматую скалу, – было написано масляной краской «Верочкин камень». Я разозлилась и срезала все буквы топором.
Проезжий человек улыбнулся.
– Этот камень ничей, – продолжала девушка, – и деревня ничья. А если тут и стоит какой-нибудь камень, у которого есть хозяин, так тот сам не станет на нем ничего писать.
– Почему же?
– Потому что он и так знает, что этот камень его и никогда его не потеряет. А другим зачем же это знать? Может быть, другой-то тоже думает, что это его камень. И всем хорошо.
– Я ничего не трону. Я просто посижу здесь, а вы приходите сюда завтра, и посидим здесь вместе.
– Хорошо, только я приду рано утром, – сказала девушка и ушла.
Утром следующего дня проезжий человек пришел в Каменную деревню. Но здесь никого не было. Только скалы тяжелыми длинными лицами смотрели поверх тайги вдаль. Они стояли молча, как бы слушая друг друга и ничего не замечая больше. По Каменной деревне прыгала кедровка и порою садилась на недостроенный каменный островок. Она о чем-то говорила, но никто ее не слушал. Потом из леса выбежал бурундук. Он сел на камушек, выгнул дымчатую спину, сморщил нос и стал слушать кедровку.
В полдень проезжий человек пошел назад, к тракту. Ему нужно было ехать по своим делам. И, еще не выйдя из леса, с опушки, он увидел, что на тракте стоят двое. Та вчерашняя девушка, в той же самой одежде, и рядом с ней стоял молодой мужчина, тоже в фуфайке, в брюках и в сапогах. Они стояли среди дороги и чего-то ждали.
Появилась машина. Мужчина поднял руку. Шофер затормозил. Мужчина и девушка сели в кабину и уехали. Проезжий человек долго смотрел им вслед. Видно было, что он о чем-то настойчиво думает. Он даже слегка прищурил глаза, и можно было решить, что он спит и сквозь дрему смотрит вдаль. И в конце концов он улыбнулся.








