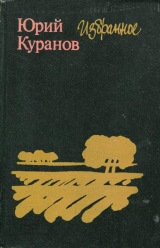
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юрий Куранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 44 страниц)
Ночью вызвездит, и опустится заморозок. Всю ночь за окном будет слышен шелест, словно какие-то робкие птицы пристраиваются под крышей и в деревьях на ночлег. Утром, не успеет вспыхнуть солнце, всем станет ясно, что в травы сел иней. Даже пашня здесь и там стеклянно сверкает пронзительными длинными алмазами.
На деревьях инея нет, но влажную с ночи листву сковало, она поет на солнечном колыхании безветрия. И горит. Особенно клены. Кленовые листья застыли на деревьях так, что превратились в большие и малые чаши, кубки, чашечки, ковши. На солнце они мгновенно отомлевают и под собственной влажной тяжестью подмороженно срываются вниз. Они падают сквозь густую и чуткую листву. Они поднимают шум, звон! Все клены заколышутся, и за одним листом сорвется второй, десятый, сотый. Под кленами загорятся широкие лужайки опавшей листвы.
Поближе к полдню иней отойдет. Теперь в воздухе останется только шелест. Вязы, березы, липы облетать примутся целыми кронами. Рядом с деревом от нежнейшего ветерка поднимается второе дерево, однако это всего лишь облако такой веселой, такой лепечущей, такой восторженной листвы. Настоящий двойник из чистого золота.
Молоденький черный кот под таким сверкающим листопадом ошалело носится по двору. Он гоняется за листьями. Он подстерегает их, он кувыркается с ними, он по ним катается. Кот взберется на высокое крыльцо и восторженно смотрит в воздух, в котором, замысловато снижаясь, плавают листья. Лапы у кота дрожат, усы топорщатся. Глаза разгорелись, как два крошечных осенних листка. Они трепещут.
С вяза срывается зеленоватый лист, он скользит по воздуху, как синица. Кот не выдерживает и прямо в воздух прыгает с крыльца. Он в прыжке подбрасывает лист и вторично бьет его лапой.
К полдню листопад утихает. И словно ничего не было. Только деревья поредели, сквозь березы, сквозь клены, сквозь ясень теперь уже далеко просматривается озеро со всей его холодной синевой. И так до сумерек.
Но к полночи опять зашелестит среди ветвей морозец. И в тишине кто-то громко, но мягко постучит мне в дверь с крыльца. Открою дверь, и на пороге вырастет мой кот. Он будет весь на задних лапах, он будет улыбаться и топорщить усы.
В правой лапе высоко над головой кот будет держать растопыренными когтями широкую смороженную чашу кленового листа. Из чаши будет подниматься пар. И только нужно наклониться, чтобы увидеть, как там, на дне, притаилась маленькая осенняя звезда, она только что скатилась из-под самого небосвода.
ОБЕЩАНИЕО чем я только не писал… Писал о реках, об озерах, о городах, о деревнях и поселках. И все же о многом я еще не сказал ничего. Я говорил о Изборске, но так мало; о реке Великой, но вскользь; о Михайловском, о Глубоком… Но только я подумаю о том, чего вообще не касался, у меня начинает кружиться голова.
Я писал о родниках, о половодьях, о рощах, но ничего не говорил, например, об островах. А в шестидесяти километрах от Пскова, вверх по Великой, есть Остров. Этот Остров не такой уж обыкновенный, ксендз Пиотровский в 1581 году так писал о нем: «…полагали, что Островом легко овладеть, и обещали взять его для забавы и ради присутствия короля, но когда увидели место, занимаемое крепостью, со всех сторон окруженное водой… то сейчас поняли, что труднее взять его видя, чем не видавши…» На нем не растут пальмы или кораллы, на нем не танцуют танец живота и не поют огненные песни полуобнаженные мулатки, но с этим Островом связано много геройских страниц русской истории, вплоть до последней войны. И я когда-нибудь обязательно напишу об Острове.
Ни разу в жизни я не писал о Барабанах. Ах, что такое барабаны! Как звонко раздаются они в гулком воздухе саванн или на равнинах сражений! Как эти дробные звуки наливают отвагой сердца солдат при какой-нибудь стремительной атаке! Когда эти Барабаны не стоят на шоссе Ленинград – Киев, а сами Атаки, егерские либо гусарские, – на правом берегу Великой, у того же шоссе. А Гусары! Гусары – простенькая деревенька в семь дворов. И вдруг да это были бы гусары настоящие, за шумным столом, с шампанским, с картами… Когда мелькают тройки, семерки, тузы. Тузы черные и красные, из той сверкающей колоды с золотым обрезом, а не деревенька, что на речке Синей, о семнадцати душах мужского и восемнадцати женского полу. Где Тузы, там и Слезы. На старинной дороге за сосновым бором приютилась эта деревня. И всякий раз, когда я прохожу или проезжаю мимо, начинаю видеть перед собой в засумеречневшем воздухе доброе, но строгое женское лицо. Оно смотрит на дорогу, по которой катят кареты, поезда, машины, танки, и синим скорбным взглядом смотрит эта женщина вслед пролетающей жизни, и в уголках ее глаз я вижу узенькую полоску печали и надежды. Такими бывают старые окна деревушки под дождями, под изморосью осенней непогоды.
Я о многом еще не писал и ныне написать обещаю. И о Слезах, и о Лаврах, о Гривах, о Палицах, о двух деревеньках с несколько общим названием – Гальский Мох и Бабий Мох. Бабий Мох – еще можно понять, но почему гальский там, где никаких галлов никогда не бывало, да и слышать о них не могли? И что за удивительная выдумка породила эти красочные названия? Как и сама деревня Выдумка, что выросла под городом Новосокольниками. И какой среди них богатый выбор, когда сам Выбор – скромный городок в сердце псковской равнины.
Быть может, деревня стоит-стоит да вдруг возьмет и превратится в Паву. Засветится нарядом ярким и горделивостью. И к ней уж если подступаться, так только с дарами. «А сама-то величава, выступает будто пава». Дары. Яхонты ли это, изумруды, жемчуга? Или простое детское лукошко земляники? Или девичья пригоршня колодезной воды? В жаркий полдень освежить горячие губы. Ведь стояла же деревня Губной Жар. Кому так пришло в голову назвать ее и почему? А Ложи? Что за ложи? Прохладные полуденные ложи на том самом бабьем мху или древние ложи псковичей, которые, по свидетельству немецкого путешественника Вундерера, выглядели в XVI веке очень странно? Одни полукруглые, другие продолговатые. На круглых обыкновенно спали женщины, а на продолговатых мужчины.
А что бы это за деревня с внушительным названием Князи? Князи в пять дворов, числятся по «Списку населенных мест Российской империи» в Опочецком уезде и при колодце. Уж не они ли приходили из-за моря на плавных ладьях, торговали с варягами и греками? Не те, что гоняли под звуки рожков и под собачий заливистый лай волков да лисиц по перелескам да возвращались к усадьбам могучими въездными аллеями. То были такие князи, которых не раз водили сквозь строй под барабанный бой да под палки, гнали в гибельные атаки под Аустерлицем или Порт-Артуром, возвращали по домам на костылях, а какие-нибудь Деревеньки встречали их горючими слезами. И сколько таких князей легло под Полтавой, Ревелем, Царицыном, Касторной, под Москвой?..
Москва и здесь была своя, да не одна. В Псковской губернии числилось их три. Одна Москва четырьмя дворами стояла при ручье в Островском уезде, другая Москва, тоже четырьмя дворами, семью мужиками и шестью бабами, жила при колодце в Холмском уезде, а Москва третья была небогатой усадьбой с теми же четырьмя дворами, но с одним человеком мужского и одним женского пола. Стояла она у озера Городня, в верховьях реки Торопы. Но года три назад с писателем Юрием Грибовым нашли мы еще одну Москву. Под Псковом, за деревней Середкой. Эта живописная Москва дворов на семь рассыпалась по плавным и уютным холмам. Мы вышли за деревню и просто так углубились в соснячок. И на самом краешке соснячка наткнулись на горку, из которой для всякой надобности возили рабочие песок. И среди разрытого золотистого песка виднелись какие-то странные проржавленные то ли сучья, то ли камни. Приглядевшись, я понял, что это кости, кости позвонков, запястья, коленные чашечки, черепа. И все кирпичного, ржавого цвета. Я осмотрелся попристальней и понял, что это курган. И подумалось мне тогда: какое же место древнее – Москва, из которой Грибов приехал, или та, по которой мы сейчас ходим? Давно с тех пор я собираюсь написать рассказ «Как мы с Грибовым в Москву съездили».
И напишу. Я напишу о новоржевской деревне со звучным пушкинским названием Дубровы. И возьму эпиграфом строки поэта:
На берега пустынных волн,
в широкошумные дубровы…
Я буду писать о странных и забавных кличках деревень: Двояки, Зятья, Поинье, Шаропупово, Блядно, Габоны, Зарема, Рай-Поле… Я напишу о таких названиях, которые странно слышать, – как, например, Езопы, Марызгалово, Цыбарово, Нагли, Птоломай, Херуга, Поплягино, Палачи. Или найду и вспою такую высокую деревню, как Вольная Петь.
И буду петь в моих больших и маленьких рассказах такие деревни, города и поселки, которых еще нет, но которые будут. Хоть я хорошо понимаю, что обо всем на свете не напишешь.
ОЗЕРНОЕ ПОДНЕБЕСЬЕПеред ненастьем яблоки в садах тяжелеют. Они наливаются мглою и алостью. Ветви гнутся, и тяжкое напряжение, от которого темнеют лесные дали, белеют озера, глухим дыханием наполняет леса и сады. Уже трудно понять, это сумерки или просто мгла, предметы оживают и преисполнены таинственного смысла, который тянет человека заглянуть им в душу и сказать какое-то доброе слово. Далекий отзвук грома делается неслышным, только яблоки стремительно отрываются от своих ветвей и падают в темноту. В землю они бьют гулко, будто спутанный конь. Тогда кажется, что по саду кто-то ходит, кто-то крадется к тебе под окно. Однако близко подойти не решается. И только ходит вокруг.
А может быть, нам только кажется, что так стремительно падает яблоко с ветки? Может быть, пока, наполненное соками, огнем и тяжестью, оно проплывает в воздухе, пролетают не только дни, не только годы, но целые века или тысячелетия? И кто-то, может быть, видит, как огненное яблоко плывет в тишине и мраке сада, распространяя вокруг себя, подобно сиянию, аромат своего холодного дыхания? Как оно блещет, вращаясь в воздухе, как расступаются под ним травы и клонятся к земле и как испуганная ночная птица не улетает прочь, а припадает в траву и смотрит оттуда на светило восторженными глазами. И вот тогда сказать можно, что человек, который так увидел яблоко, простое садовое тело, этот человек – художник. Не имеет значения – признанный ли он мастер или просто юный школьник, директор клуба, тракторист, шофер, лесоруб. В глазах такого человека яблоко в один прекрасный момент перестает быть просто яблоком. Тогда гроза, которая, может быть, давно уже прошла стороной, – не такое уж простое и обыкновенное явление природы. Тогда само падение плода в темноте, его короткое мгновение превращается в событие, в драгоценный отзвук времени, которое будет поить целые поколения людей красотой, любовью и чувством неизбывной благодарности земле, грозе, звездам, ласковому пожатию руки и доброму сочувственному взгляду.
Отговорила роща золотая
березовым веселым языком…
И над этими берущими за душу словами не только можно заплакать, не только упасть и закрыть своим телом несчастную и грустную землю осени, но можно с небывалым мужеством пойти под этими словами, как под знаменем, на смерть и на подвиг.
Не бродить, не мять в кустах багряных
лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
отоснилась ты мне навсегда.
И эти четыре строчки вместят в себя целую жизнь, а потом наполнят красотой целые тысячи жизней, целые поколения, которые вдруг в чудесном озарении однажды остановятся и как бы впервые увидят, как прекрасен бывает любимый человек, независимо от того, какой обыденной красотой он наделен.
С алым соком ягоды на коже,
нежная, красивая, была
на закат ты розовый похожа
и, как снег, лучиста и светла.
И кому не захочется тогда поднять женщину на руки и как неслыханный неувядающий цветок нести в трепетных ладонях по жизни…
Красота России, ее полей и лесов, ее туманных омутов, простеньких ее и величественных закатов пришла в сердца художников не так уж давно, однако так успела напитать и напоить жизнь общества, поколений, целых эпох, не только своих, но и чужих народов, что диву даешься: откуда и как это могло взяться?
Неповторимая эпоха Рублева и Дионисия!.. Удивительные мастера Новгорода, Пскова, Суздаля, Владимира и Ростова!.. Вот каменная громада Георгиевского собора под Новгородом, поставленная князем Всеволодом-Гавриилом восемь столетий назад. Тем самым князем, который мудро княжил во Пскове, здесь умер и поныне покоится в Троицком соборе над слиянием Псковы и Великой. На прибывающей полой воде собор этот высится в облаках, это не просто собор, это какое-то каменное государство звучности, мощи и справедливости. А псковский кремль – единственное во всей Руси, ни на что больше не похожее сооружение из камня и величия, колоссальный монумент стойкости и строгой красоты нашего прошлого. Или исполненные благородства и чувства собственного достоинства творения Андрея Рублева, когда каждое лицо воспринимаешь как восход солнца над целой равниной и в самой глубине твоего сердца одновременно.
То была эпоха, когда русский человек почувствовал в себе поэта и ощутил, что земля есть нечто большее, чем просто нива, ключ ледяной воды, вечный гул нетронутых лесов. Он, загнанный на северные окраины своей земли безжалостными завоевателями и коварной продажностью собственных владык, понял, что уходить больше некуда, что родная земля источник бесконечной душевной силы, без которой дольше не выстоять и в которой дышит, бьется и светит неслыханная дотоле и нигде до того небывалая своя красота. И каждая травинка, каждое озеро, каждый дом, поскотина или выгон стали восприниматься им как нерукотворное богатство.
Оттуда идет и нарастает на Руси отношение к красоте, к жизни, к песне, к собственной судьбе как к чему-то священному. С той поры и уже навеки русское искусство явилось в силе мирового значения и чуда. Теперь предмет и явление уже значат не просто то, что ты видишь глазом, но нескончаемо больше по значению и смыслу, скрытому в нем. Разве всякий, кто встанет перед деревянной сказкой Кижей, над звучными их водами, не чувствует, что перед ним не просто высятся многоглавые чуда, но целый небосвод поднимается из вод земных с луной, со звездами, со всеми его светилами… И разве не слышит он далекого, но могучего пения, когда идет пешком или летит на машине могучими увалами Новгородской Руси, когда бесконечные деревни стаями своих изб уходят вдаль, как вещие и вечные былины, а тихие улочки бань, вытянутых над светлыми речками или нежными ключами, притаились на заре и зреют…
А как блещут под небом хлеба! Что там делают нивы? Эти голубые, малиновые, эти серебряные разливы колосьев? Когда они поникли, склонились тучными зернами и в тишине источают сияние… Они поют. Они чуть слышно на закате начинают свои долгие песни о судьбе, о красоте, о любви, о верности и о печали.
Меж высоких хлебов затерялося
небогатое наше село…
Я никогда не забуду, как в далекой вятской деревне по-за станцией Лянгасово темной осенью под низкими тучами при керосиновой лампе женщины пели на несколько голосов. Пели и плакали. Это было на седьмом году после окончания войны.
С кем я ноченьку коротать буду? —
спрашивали они без слез, сухо и горестно у темного ветра с Ветлуги.
Да и тот со мной не в ладу живет… —
как-то с осечкой, как бы стыдясь, но сетуя, заканчивали они. Они, эти мудрые, нежные и горестные русские женщины, которых судьбами украшена и песня русская, и русская икона, и пейзаж, и портрет, и фильм.
Таинственные, освещенные внутренней добродетелью лица крестьянок Венецианова, могучие в своей неистовой чистоте и крепости духа женщины Сурикова, застенчивые, но твердые внутренней силой девушки Рябушкина, величественные плясуньи Малявина, изможденные, но не сломленные подвижницы Ярошенко, солнечные бабы Архипова и, наконец, нежные и умные лики женских портретов Нестерова.
В этой традиции, в этой высокой духовной требовательности мы находим и работы многих наших современных художников.
Открытые и честные труженицы Пластова, сверкающе расправившие плечи колхозницы Мыльникова на цветущих наших полях. Здесь они вскормились душой, здесь прошли свои нелегкие дороги, тут ждали мужей да сынов с войны или с трудной дороги, здесь глаза их потемнели той прекрасной глубиной ожидания счастья за околицей отцовского дома, на краю нивы, за обочиной простенького аэродрома или на ветреном машинном тракте через всю Россию.
И вот они, настороженные невесты Алексея Козлова, среди увалов, охваченных тревожным огненным ветром. Эти гордые и замкнутые красавицы словно и впрямь вышли за деревни и несут какую-то вещую стражу, стражу целомудрия и преданности. Не они ли ждут нас, ждали наших отцов и будут ждать сыновей наших на увалах за Ираклихой, Сусанином, Опеченским Посадом, Святыми Горами, Стругами Красными… Мне не забыть, как несколько лет назад Алексей Козлов, уже известный художник, приехал в Глубокое, встал над хутором Нечистово и задохнулся от величественной панорамы озера и далей. «Русь, – только выдохнул он восхищенно, – вот она, Русь!»
О эти величественные женские доли от мужественной Ульяны с псковской иконы XIV века до озаренных пронзительным солнцем провинциального городка женщин Лактионова, замерших над весточкой с фронта! Да, перед нами лежала Русь, Русь давняя и Русь нынешняя, те самые хрустальные родники северной деревни, вспоившие целомудренную в своем материнстве мощь требовательного женского духа, благодаря которой, может быть, только и выстоял русский человек на невыносимых дорогах труда и войн его истории. Отсюда эта нежная и в высшей степени серьезная красота наших невест и возвышенная робость, порою переходящая в замкнутость, наших жен, сестер и матерей.
О этот высокий свет над нашими полями! Луна! Ах, если бы это была луна! Это медное яблоко. Это вспыхнувший и оборвавшийся над морем парус рыбака. Это, наконец, чей-то стремительный и напряженный глаз, он страшен в своем равнодушном сиянии. Быть может, это волк глядит на нивы из-за леса? Или ночная птица филин смотрит тебе в душу и не мигает? И просвечивает душу, как озеро, до самого дна. Приехав на Ветлугу с Волги и потрясенный мощью лунной ночи, я писал двадцать лет назад под впечатлением пейзажей Алексея Козлова:
В полдвора с долговязой ивы
тень от галочьего гнезда.
И от лунной от мглы молчаливой
сердце падает, как звезда.
Заклубились в туманах деревни,
веет страхом из темных ложбин,
будто тянутся стаями древними
журавлиные толпы былин.
Здесь Вольга на неметаном сене
спит с дружиной, коней привязав,
синеватые лунные тени
набегают коням на глаза.
Сивый леший приплелся с болота
и, трусливо ушами прядя,
задыхаясь от сладкого пота,
заплетает хвосты лошадям.
Будто во поле пашет Микула,
громыхая каленой сохой.
А хазары, распяливши скулы,
объезжают его стороной.
И в сиянии месяца мглистого,
когда сосны гудят на ветру,
поднимается к звездам неистовый
синеглазый дубовый Перун.
Я иду этой ночью былинной
в родниковый мерцающий сказ.
А луна озаряет равнины,
словно волчий оскаленный глаз.
Русская музыка, русская литература, живопись веками питались этой жутковатой поэзией северной деревни, где земля смыкается с небом, где человек уходит пахать куда-то высоко под облака. Где в народных повериях ошеломляющими знамениями предварялись великие и малые события: войны, болезни, засухи. Где от губительного вражеского нашествия города и деревни уходили в облака или опускались в глубокие воды бездонных озер и ключей. Не оттуда ли вышли мы, наши скромные, но непобедимые предки с жилистыми руками пахарей и светлыми глазами певцов…
Посмотри туда, склонись над озером, покажи ему свое доброе сыновнее лицо, так чтобы глаза твои отразились в нем до самого дна. И ты увидишь там, под водами, несметные таинственные города с высокими и округлыми крышами, с куполами голубой и зеленой черепицы, с колоколами и звонницами, со столбами и переходами. Ты видишь, как оттуда поднимается люд?
Они выходят на берега, вон двинулись по равнине. И там и здесь на холмах и увалах затеплились огни деревень с родниковым светом в окнах. Это оттуда звездными ночами поднимаются в небо стаи дивных лебедей, и вон уже стаями, стаями летят по холмам на рассвете самолеты, шумят машины, и на Луне вспыхнул золотом яркий вымпел. И отсюда, с земли, видно, как горит тот вымпел на светиле, словно дивная почтовая марка.
Подними теперь лицо свое от ключа, от родника родного, окинь, окинь свою землю пристальным взглядом хозяина, взглядом художника, певца, поэта.
Русскому искусству всегда была присуща неброская, но мощная фантазия, она как бы произрастала сама из себя, из нутра своей души, увлекая за собой все окружающие предметы – поля, перелески, избы, дела и события. Вспомним лунные ночи Маковского или Куинджи, предгрозовые пейзажи Васильева, утренние чащи соснового леса Шишкина, «Тракториста» Пластова, разрезающего в сумерках краюху хлеба, и охваченную пламенем ночную избу Алексея Козлова, перед которой в поле на переднем плане горит деревенская грубая свеча. Бесконечность своего мудрого отношения к богатству и к бедности, к молодости и к старости, к жизни и к смерти простой русский человек всегда черпал из своей приверженности к труду, к его повседневной священности. И в древней былине, и в дедовской песне, и в современной частушке или простенькой припевке не было и нет даже отдаленного мотива стяжательства в работе, а на первое и самое почетное место всегда выступала и выступает духовная и даже эстетическая сущность труда.
Когда месяц висит над нивой как забытый и обесцвеченный серп или когда кузнечик, этот вечный труженик, как маленький комбайн, колышется в траве, приходят в голову возвышенные размышления о наших землях, которые вот уже более тысячи лет вскармливаются мозолистыми руками русского человека. На Сухоне, на Волхове, на Валдае труд никогда не был парадом или забавой, и в русской живописи эта благородная черта народного характера всегда воплощалась именно так. Вспомним «Бурлаков» Репина, «Кочегара» Ярошенко, «Железную дорогу» Савицкого, «Прачек» Архипова… И уже на новой поре, но с прежней строгостью и скромностью мы видим труд на полотнах Пластова. И в то же время никогда не уходила из-под кисти русских живописцев нежная струйка романтики, которая украшает отношение простого человека к любимому делу. Каким-то вечным теплом, радостью надежды и просветления дышат такие полотна, как «Летят самолеты» Малаева или «Обратный» Архипова. Здесь, среди солнца и силы земли, люди сообща трудятся в поле, а там подросток после утомительной дороги возвращается на подводе к дому, и ранний свет прохладного утра расступается перед ним, как бы приоткрывая манящие дали жизни. Своей поэтичностью и наполненностью ожидания от жизни чего-то необыкновенного эта работа Архипова замечательно перекликается с повестью Чехова «Степь».
Лучшие творцы искусства нашего любили подчеркнуть, что простой человек всегда стремится как-то так сделать свое дело, чтобы сам процесс его остался вроде незаметным, не выставлялся напоказ, чтобы в нем было нечто от сокровенности, от маленького чуда. Вроде все получилось само собой. Именно так любил работать Чехов, и черта эта в нашем характере не от слабости, не от замкнутости, а от скромности и ощущения обилия сил. И олицетворения в наших песнях и в наших поэтических представлениях жизни всегда стоят на грани, где соединяются высокое и повседневное, могучее и внешне вроде совершенно неприметное.
То не ветер ветку клонит,
не дубравушка шумит.
То мое сердечко стонет,
как осенний лист дрожит.
Здесь сама дрожь ощущалась как состояние сердца и сопоставлялась с шумом дубравы, с ходом ветра и с ласковым трепетом осеннего листа. Рядом с потрясающим эпическим звучанием стоит как бы незамысловатый образ лирического звучания, подчеркивающий непоколебимую покорность ходу жизни, но не сломленность ею.
Извела меня кручина,
подколодная змея… —
пел русский человек, как бы упиваясь своею скорбью.
Догорай, гори, моя лучина,
догорю с тобою я.
Так без протеста, тоже с каким-то упоением силой своей тоски заканчивает он. И нет такой деревни или округи, где бы не знали и не любили тоскливую, но возвышенную эту песню.
Там высоко на горе зажглись в невидимом черном воздухе огни деревенских изб. Это деревушка Смешово встречает свой лесной вечер. Там вспыхнули под потолком не лучины, светят те самые электрические светильники, которые в народе окрестили лампочками Ильича. Об этих лампочках столько мечтали русские деревни и приход их отметили бойкой песней:
Вдоль деревни от избы до избы
зашагали торопливые столбы.
Весь этот век, да, целый век в истории нашей деревни, был отмечен цветастым лозунгом частушечной песенки:
По дороге ли ровной, по тракту ли,
все равно нам с тобой по пути.
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
до околицы нас прокати.
Большая стояла здесь под звездами деревня, пшеницу сеяла. Теперь вокруг деревни столпились леса, а в них бродит мгла, выползают из чащ на валуны туманы, выходят при луне на овсы кабаны, пробивают в светящихся овсах дороги, проминают целые гнезда.
Как могло случиться, что золотые, от сердца крестьянина оторванные земли заполонили леса? Леса пошли в свой обволакивающий страшный поход уже на второй год войны. Лес двинулся на деревни именно в те же годы, когда мужчины, кормильцы и созидатели, не вернулись с кровавых полей Великой войны. Выдержать такую обескровленность могло только крестьянство великого народа, народа несокрушимой энергии и воли, крестьянство, вовремя посаженное на трактор и грузовик.
Деревень лебединые стаи
на крутых поднебесных холмах,
И до неба дорога пустая,
и березовый звон в небесах.
В конце лета кажется, что леса, звеня и распевая о чем-то светлом и сердечном, поднимаются над землей как птицы, машут крыльями и рвутся в далекую дорогу, может быть, как лебеди на картине Рылова «В голубом просторе».
Да ветра тот березовый ропот
раздувает за кручи струя,
полюбились подзвездные тропы.
Позабылись чужие края.
Только смотрят, смотрят избы в ненаглядные глаза друг другу и вытянулись по увалам, как стаи.
Полюбились простые восходы,
над зарей предморозная синь,
разливанные русые воды
облетающих в небо осин.
И зимуют, на взгорьях белея,
от ветров заробевши дохнуть,
но по-прежнему избы лелеют
лебединую белую грудь.
С полузвонами полночь блистает
в накаленном морозом окне,
это изб лебединые стаи
уплывают кругами к луне…
Нет, это не избы, это и впрямь ненаглядные птицы! Они стелются по равнине короткими и длинными стаями среди сосняков и ельников от Ярославля до Вологды и Архангельска. Когда сам плывешь над этими лесами на крошечном и, кажется, уже бессмертном «Ан-2» и мороз пролетает, искрясь, за круглыми окнами самолета, далеко видны огни российских деревень. Отсюда до слез, до сердечной боли осязаемы эти выгоны с березками да черемухами по краю, эти общипанные лосями стога, эти изумрудные от луны и от мороза следы по сугробам, эти голубые отсветы электрического света из окон и эти качающиеся в небе полосы от автомобильных фар по бесконечным северным трактам. Что там светится над обрывом? Уж не усадебный ли небогатый домик великого русского поэта возле Сороти? А здесь горят цветы, нетленные и неисчезновенные, не на могиле ли вологодского поэта Николая Рубцова? А там? Родительские холмы страны невеселого детства Некрасова. Тут? Материнский порог Василия Белова. Там, вдоль берега холодного моря, поморский край Федора Абрамова. Сюда – к усадьбе Мусоргского. Здесь блещут быстрые пороги за окнами приюта Засодимского, а там бежит тропинка к деревянной баньке да к житнице на хуторе Алексея Козлова. И снижается звездное поднебесье обрывистым раздольем изб односельчан Сергея Есенина…
Эти избы! Это песни с тихим скрипом половиц, с ночными сказками сверчка, с инеем по наличникам, со вздохами черемух за окном… Это не избы, это палаты с высокими и темными верхами, с резными, шитыми оконцами, с бахромой по плечам, с узорами… Это – человеческие лица с улыбкой на губах и со слезою в уголке глаза, с русой длинной косой и с золотистой челочкой над бровью. Это не избы, это наши матери, наши жены, сестры, подруги, невесты, возлюбленные.
Русские избы – это удивительное и единственное в своем роде создание человеческого гения, удобные и пригодливые в любую эпоху и на любой случай жизни. С ее порога уходил русский мужик на врага с рогатиной, со штуцером, с винтовкой и с автоматом. К ней возвращался он, безногий и безрукий, и тут плакала, обнимая его, то изувеченного да обобранного, то изукрашенного орденами да медалями по широкой груди, верная русская баба, которая глаза проглядела за лесами, руки измотала за делами, ноги исходила за печалями в ожидании своего мужика. Ее, избу, украшали, шили как невесту, ее расцвечивали да прибирали на праздники, ее подпирали бревнами да кольями в лихую годину. Не просто дом, а изба. И именно «от избы и до избы зашагали торопливые столбы» в свое золотое время.
И теперь, когда наша деревня становится другой, когда наступает новая пора ее молодости и когда у некоторых буйных головушек заходятся мысли отмахнуться от этого деревянного чуда и заменить его бетонным типовым жильем, где надо и где не надо, становится грустно. Нет необходимости все грести под одну гребенку, сметать все в одну кучу.
Русская изба со всеми удобствами, красотами, незаменимыми для жизни целебными уютами еще не один год или век послужит сельскому человеку, только строить ее нужно с основательностью, не бояться пофантазировать над ней, не страшиться как новшества, так и возврата к тому, что из ее удобств и праздничности к нашим дням уже утеряно. Не сторонятся же японцы, далеко своею техникой шагнувшие в двадцатое столетие, сохранять старую традиционную обстановку своих жилищ, приспосабливая их быт к новым условиям. И наша изба – создание не менее удобное, прекрасное, чем жилище японца, таитянина, скандинава, – еще не сказала своего последнего слова. Да и помимо всего прочего изба есть и будет одним из формирующих факторов поддержания, создания и совершенствования нашего национального характера. Лишить русского человека избы – все равно что надеть на него шотландскую юбку, хитон или сафари. Тем более что на Костромщине, Новгородчине и в других лесных областях мы видим, как охотно и с каким умением русский человек ставит себе новые красивые именно избы целыми деревнями.
А как изба вошла в быт и в жизнь, в фантазию художника! Не избы, а целые терема Рябушкина, где из заснеженных крыш вырастает белый шатер с золотыми куполами или изба с деревянной звонницей дремлет у подножия белокаменного храма; праздничные улицы Кустодиева; повседневные уютные и родные уголки деревень и сел Жуковского и простенькие, похожие на короткие припевки пейзажи Валентина Серова с розвальнями, конюшнями, покосившимися заборами; нарядные, исполненные здоровья и света картины Грабаря и, наконец, полотна Архипова с их царствами мощных скопищ изб на берегах озер или рек. Им близки по духу и по видению работы Рождественского, Ромадина, пейзажи Стожарова.








