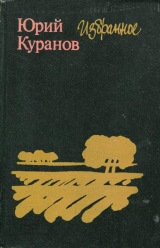
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Юрий Куранов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 44 страниц)
ОБЛАЧНЫЙ ВЕТЕР
МЕЛЬНИЦА НАД ОЗЕРОМ1
В деревянной мельнице, ветряной, высокой, ветер не то что пел, а как бы размышлял вполголоса. И мельница вся похрустывала, поскрипывала и вздрагивала, словно хотела сорваться с места и пуститься полем через рожь, по ее серебряным волнам, и – в лес, по лесу – к берегу, и – дальше за Иртыш.
В мельнице пахло подожженной между жерновами мукой, а от ветра пахло ромашками. Мельница и впрямь стояла на привязи, она ждала осени, когда потечет в нее зерно, запахнет сухой, огненного цвета пшеницей, а мужчины и парни будут лежать под телегами, спрятавшись от солнца, курить самосад и смотреть, как с поля идут на обед женщины и девки.
В мельнице прохладно, стоит и колышется процеженный отсвет солнца, напоминающий сияние сухого и обветренного пшена.
Енька сидит высоко на деревянной лестнице, на самом порожке, в прохладе раскрытой двери. Он смотрит вниз, на озеро. Сухой полынью рассыпались на голове его прямые длинные волосы. Он сидит в расстегнутой белой рубашке, в длинных и узких штанах, босиком.
Он смотрит в озеро. А в озере идут полуденные облака, подгоняемые ветром, и там, в озере, видно, как под облаком замер коршун. А коршун действительно стоит над озером под самым облаком. Он смотрит вниз, на гусей и гусенят. Гусенята покрыты желтым светящимся пухом, они еще не знают про коршуна и не думают о нем. Взрослые гуси, скособочив голову, смотрят одним глазом в небо и готовы закричать. Они готовы в случае чего позвать на помощь Еньку.
Сиди себе над озером в ветряке, стереги гусей и думай о чем только хочется. Если хочется, думай хотя бы о том, что ты человек уже взрослый, в шестой класс пойдешь учиться и что по этому случаю купит отец тебе осенью новый костюм. Хочешь, думай о том, что обещал прийти на озеро Олег, чтобы пускать корабли с резиновым мотором, а вот-вот появится Наташа с маленькой кринкой молока и с высокими вздутыми шаньгами. Можно будет с ней, с Наташей, пойти на огород к Калине и натаскать из парников молоденьких огурчиков. А Олега оставить на озере, все равно он не полезет в чужой огород. Пусть он пускает здесь свои корабли.
От деревни берегом озера шел по дороге Олег. Он шел быстро, коротко шлепая по пыли длинными ногами в коротких штанах и маленьких белых тапочках. Он спешил. Он еще издали размахивал над головой руками. Он шел под облаками, которые прямо на глазах росли и росли в высь неба и отражались в озере. Енька поднялся и встал на крыльце во весь рост.
Олег не удержался и побежал бегом. Он был без кораблей. Олег подбежал взволнованный. Майка выбилась у него из-под штанов. Он дышал глубоко. Он остановился под мельницей среди ромашек. Хотел что-то сказать, но не сказал. Взбежал на крыльцо, издали посмотрел на Еньку и ликующим шепотом сказал:
– Война!
– Какая война?
– Война началась. Дядя Саша опять на войну пойдет. Вот это жизнь! Ты представляешь?
– Какая война?
– С немцами. Германия напала. Ты знаешь, что теперь будет?!
Енька сел на крыльцо и растерялся, не зная, радоваться ему или нет. У него перехватило дыханье, и не знал он, что сказать.
Все оцепенело и замерло, прохваченное солнцем и повисшее среди облаков. Оглушительно кричали в травах кузнечики и бешено катились на маленьких соломенных телегах. Ветер лег, и мельница замерла, уснула и слушала сквозь сон чье-то далекое дыхание. Воздух вокруг исчез, как перед грозой или какой-то страшной встречей. И все казалось, что где-то за горизонтом тяжко бьют цепами по сухим, затвердевшим колосьям.
Ребята спустились с лестницы и побежали в деревню.
В маленькой деревне было пустынно. Избы дремали под деревянными и соломенными крышами. В пыли среди дороги купались куры. Носились ласточки прямыми черными полосами. Промчалась красная телка, крутя хвостом и задрав голову. За нею черной стаей быстро шли слепни. Они крутились вокруг телки, ткали невидимую злую паутину и громко проносились у нее под брюхом. Среди деревни стоял недавно купленный комбайн. По комбайну прыгали воробьи.
Сначала забежали к Еньке. Дом стоял с краю деревни, почти над озером. Пустынно было в комнате. Пахло квасом и пирогами. Висело на стене охотничье ружье. Висело над кроватью. Енька посмотрел на ружье и пошел в сени. Слышно было, как он пьет в сенях квас. Олег тоже вышел в сени, тоже напился.
Пошли к Олегу. Изба эта была тоже Енькина, вернее – Енькиного отца, а дед Олегов снимал ее за тридцать рублей. Ребята громко вбежали в сени. Дверь в комнату была раскрыта. За столом сидела бабушка и смотрела в окно. Олег встал на порог и громко сказал:
– Мама, война.
– Знаю, внучек, – сказала бабушка растерянно. – Знаю, милый. Слышала.
Бабушка смотрела в окно, и вздрагивала всем телом, и перебирала губами. Она плакала, прижав ладони к подбородку, и слезы текли ей в пальцы, в ладони и из ладоней текли по локтям.
– Зачем ты, мама, плачешь? – сказал Олег.
– Милые вы мои, – сказала бабушка и встала, и подошла к ребятам, и обняла их головы большими тяжелыми руками. Она прижала их головы к себе, к животу. Она прижала их и перестала плакать, только слышно было, что она перебирает губами.
В сенях послышались шаги. Бабушка вернулась к столу и села на лавку. Вошел дед. Маленький. Бритый. В распоясанной рубахе. В сапогах. С тяжелым круглым носом. Злой.
– Вот они, друзья с ножом за пазухой, – сказал дед и сел к столу.
Он долго сидел, глядя в потолок и постукивая костяшками пальцев по столу. Потом сказал:
– Мать, давай щей.
Бабушка подала на стол тарелку щей и хлеб. Дед вынул из-за сапога деревянную самодельную ложку и стал есть. Поел немного. Снял сапоги, швырнул их к порогу, мрачно и строго сказал:
– Пущай Сашка идет в военкомат.
Опять поел. Посмотрел на ребят.
– А соплякам чего не налила? Пущай едят, покуда щей хватает.
– Мы не будем. Мы карту посмотрим, – сказал Олег.
Ребята стояли возле большой карты, которая висела на стене под полатями. На карте разной краской были обозначены государства.
– Где она тут? – спросил Енька.
– Да вон она, – сказал Олег.
– Ага. Какая маленькая.
– Коричневая.
– Ага. Коричневая и маленькая какая-то, – сказал Енька.
– Куда ей до нас…
– Куда уж, – согласился Енька, – переплюнуть всю зараз можно.
– Один такой переплевывал, – сказал дед, – да башку оторвало. Вот из-за вас, из-за таких переплевывателей…
– Ладно тебе, отец, – сказала бабушка.
– Твое дело маленькое, – сказал дед и лег спиной на лавку. – Собирай Сашку на войну. На войну-то небось пустят. Собирай, собирай. Забыла, что ли, как сыновей на войну собирать?
Бабушка встала, взяла ребят за плечи, повела к двери.
– Вы идите, детишки, побегайте. Побегайте, пускай у него, у дурня, от сердца отойдет. Горько старику, тоже ведь на своем веку навоевался. У вас-то все впереди еще. Побегайте. Уж и не знаю, кого жалеть: не то старого, не то малого…
С полей в деревню шел народ. Люди молча расходились по дворам, и слышно было, как загремели умывальники. На дальнем краю деревни кто-то заиграл на гармошке и заприсвистывал и вдруг запел отчаянным голосом. В воротах Енькиной ограды стоял отец, Петр. Он сказал:
– Енька, домой. Польешь воды, умоюсь.
Петр снял среди двора рубаху, и от него пахнуло потом. Он тряхнул плечами; по плечам, вдоль рук и на груди дрогнули, покатились, рассыпались крупные влажные бугры.
– Лей, – сказал Петр.
Енька из ведра большим железным ковшом плеснул отцу в ладони. Петр вздрогнул, чуть присел и окатил скулы. Енька плеснул еще. Отец подался вперед и весь окатился из ладоней. Вдохнул, напряг квадратную спину и крикнул:
– Лей на шею!
Енька плеснул на шею. Отец заежился, вдохнул еще, захохотал. Потом пошел к крыльцу, снял с двери полотенце и начал обтираться.
– Вот так, короткобрюхий народ, – сказал он, усмехаясь. – А вы говорите «корове на хвост наступил». А кто видал?
– Дядя Петя, – сказал Олег, – правда ведь, она такая маленькая?
– Кто? – спросил Петр.
– Германия.
– А, Германия…
– Маленькая ведь?
– Она, конечно, маленькая. Потому и воюет. Не подросла еще. Мозги у нее – вот как твои. Соображенья мало. А так, по всем другим статьям, она большая. Как ЧТЗ, а то и больше.
– А вы пойдете на войну? – спросил Олег.
– Куда же мне еще идти, – сказал Петр. – Пойду на войну, а потом приду с войны.
– Живого фашиста привези, – сказал Енька.
– Зачем он тебе? – усмехнулся Петр.
– А мы играть с ним будем.
– С живым фашистом, сынок, не поиграешь. Да и невеселая эта игра. Уж лучше я с ним сам поиграю. А ты пока уж чем-нибудь другим займись.
На крыльцо вышла Енькина мать, Мария. Посмотрела долгим взглядом на Петра, на то, как он надевает рубаху, и спросила:
– Чего тебе складывать-то в мешок?
– Как чего? Всего клади понемногу. Ну, пойдем вместе собирать. – Он положил руку на плечо Марии. – А вы идите на свою мельницу. Да долго, Енька, не шатайся.
На мельницу идти не хотелось, и ребята побрели вдоль деревни. На улице стояла тишина. Казалось, что люди разошлись по домам и замерли за дверями, ждут чего-то, вглядываясь в жаркий полдень. Только на завалине своего дома сидел Матвей Константинович, маленький мужик с лицом, похожим на узелок; мужик, не любит который, когда зовут его по имени-отчеству, а нравится ему, когда окликнут Беднягой.
– Здравствуйте, Матвей Константинович, – сказал Олег.
– Иди-ка, иди сюда, – ласково позвал тот.
– Не ходи, – сказал Енька, – щелчка в лоб треснет.
– Ну ты иди, ты, – сказал Бедняга Еньке. – Чего трусишь-то?
– Я не трушу, – сказал Енька.
– Ну иди, иди.
Енька подошел.
– Ты подойди поближе, слепота, – сказал Бедняга. – Чего это у тебя на рубашке?
– Где? – заозирался Енька.
Бедняга поймал Еньку за штанину, подтащил и сухим костистым пальцем быстро щелкнул в самую середину лба.
– Вот теперь умней будешь, – сказал Бедняга. – Ступай, ступай. Чего стоишь? Поразумел, поди?
Ребята пошли дальше.
Через дорогу к своему дому шла с полными ведрами Калина. Она шла, выгнувшись тонкой спиной, положив длинные плечистые руки на коромысло. Ступала гибко, и вся, как на качелях, раскачивалась под коромыслом.
– Открой, Енька, калитку, – попросила она и черными блестящими глазами посмотрела на ребят.
Енька калитку открыл, Калина прошла и, проходя, весело лягнула Еньку босой ногой в живот.
– Чего мужик-то калитку не отворяет? – спросил Енька по-взрослому.
– Мужик в поле, на коне бригадирствует, – сказала Калина. – Иди-ка полей, ноги вымою.
– Сама польешь, – сказал Енька.
– Ну ты полей, – сказала Калина Олегу.
Енька взял ковш и зачерпнул из ведра воды. Калина поставила ногу на ступеньку крыльца и стала мыть ее длинными пальцами сверху вниз. Потом тряхнула ногой, как бы сбрасывая с нее остатки воды, и стала мыть вторую. Вымыла, тоже тряхнула ею, набрала из ведра пригоршню воды и злорадно посмотрела на Еньку. Енька захохотал, бросил ковш и бросился из ограды. Калина подбежала к Олегу, окатила его холодной сверкающей водой, повалила и мокрыми руками намазала щеки и уши. Встала среди двора, подперев руками бока.
– А теперь айда, пошел, – сказала она, весело играя черными блестящими глазами.
Олег тоже выскочил за калитку.
– Корова! – крикнул с улицы Енька.
– Какая же я корова? – засмеялась Калина.
– Ну кобыла, – сказал Енька.
Калина махнула рукой и пошла в избу.
– Смешная она какая, эта тетка, – сказал Олег.
– Веселая, сатана, – сказал Енька по-взрослому.
На краю деревни кто-то громко завыл высоким голосом, как по покойнику, и причитал, и задушенно всхлипывал. Ребята растерянно посмотрели туда, на край деревни. Плач был длинный, и казалось, он только начинался.
– Саня плачет, – сказал Енька. – Убилась, что ли. Пошли-ка.
Ребята побежали на плач. Плакала Саня. Она лежала в пыли среди двора, небольшая, растрепанная, схватившись руками за голову и мелко двигая ногами. Муж, Андрей, сидел рядом, держал ее за плечи и уговаривал:
– Санька, Санюшка, брось-ко ты, милая. Вернусь ведь. Не один же я на войну иду. Ну-ка если все реветь начнут? Смотри, никто не плачет. Санька, ну… Вернусь ведь я, пожалуй, оттуда…
Вокруг по всем дворам люди вышли из домов и стояли как на страже.
Саня подняла с земли мокрое белое лицо. Она посмотрела на Андрея и спрятала лицо у него в коленях. И опять завсхлипывала.
Под вечер Олег и Енька шли к мельнице. Бедняга все сидел на завалине и курил газетную цигарку. Он увидел ребят, затоптал окурок и улыбнулся.
– Иди-ко, иди сюда, – сказал он Олегу.
– Вот тебе, – сказал Енька и показал Бедняге кукиш.
Из-за деревни быстро пришел конский топот. На черном длинноногом коне влетел в улицу Митька, муж Калины. Он был высокий, плечистый, в подпоясанной широким армейским ремнем рубашке, и на его красивом лице плясала какая-то остервенелая улыбка. Митька осадил коня и поехал шагом.
– Ну что, Бедняга, на войну пойдем? – сказал он, подъезжая.
– Кто повоюет, а кто поболеет, – сказал Бедняга.
– Что же это, стариком годов через десяток станешь, а ни на одной войне не был, – сказал Митька.
– Здоровьице-то у меня, сам знаешь, что твоя соломина, – пропел Бедняга. – Да и стар я уж стал, старик совсем.
– На таких стариках – рожь молотить, – засмеялся Митька.
– Садись, Митька, муж красивой бабы, – сказал Бедняга, – давай покурим, сперва твои, потом мои.
– На, покури, сперва мои, потом свои, – сказал Митька. Достал из кармана пачку папирос и одну швырнул Бедняге.
Митька спрятал пачку в карман и поскакал к дому.
Бедняга подобрал папироску и засунул за ухо.
Над озером спускались сумерки. Гуси разошлись по домам. Мельница длинно чернела в небе на фоне зари. За мельницей вдоль горизонта берегом шла в легком платье девочка. Она двигалась как язычок легкого голубого пламени. Она не склонялась за цветами, шла медленно, опустив голову.
– Не Наташа? – сказал Олег.
– Наташка так не ходит, – сказал Енька. – Это Зина.
Зина уходила в поле стороной от мельницы.
– Ты чего же это, тебя нет? – крикнула от мельницы Наташа.
– Война началась, – сказал Енька. – Мы по деревне ходили.
– А я тебе молока принесла да шанег. И целый день вот на мельнице сижу.
– Война началась, – сказал Олег.
– Молоко пить будете? – спросила Наташа. – Шаньги-то я сама съела, пока ждала.
– Какое тут молоко, – сказал Енька. – Зинка-то что, с тобой пришла?
– Нет, сама она. Да и все одна стороной ходит.
– Давайте играть в прятки, – сказал Олег.
– Давайте, – согласилась Наташа.
– Вот ты и ищи, – сказал Енька. – А мы побежали прятаться. Закрой глаза и считай до двадцати.
Енька спрятался за мельницей, а Олег в траве у берега.
Потом прятались Енька и Наташа. Они залезли под мельницу.
Ветер уже лег, но мельница потихоньку похрустывала, остывая в прохладе вечера. За полем в небе обозначились первые звезды. Олег искал Еньку и Наташу вдоль берега.
– Ходит, – сказала Наташа.
– Пусть ходит, – сказал Енька. – Пусть поищет.
Потом Олег поднялся в мельницу.
– Страшно там, поди, да темно, – сказала Наташа.
– Тише ты.
Олег остановился на пороге, пошел по половицам, и шаги его скрипели над головой, Олег обошел углы и полез по внутренней лестнице.
– А какая война, Ень? – шепотом спросила Наташа.
– Германская.
– Так это далеко.
– Далеко, конечно, да все равно война.
– И к нам придет?
– К нам не придет, мы далеко. Да и маленькая она, Германия.
– Злая она, видно.
– Ага.
– Страшно мне. – Наташа взяла Еньку за руку и прижалась к ней головой.
– Что это ты? – строго сказал Енька.
– Страшно мне.
– Ну и что же? Мне, может, тоже страшно, да я ничего.
– Нет вас тут? – громко сказал в пустой мельнице Олег.
Теперь прятались Наташа и Олег.
В стороне стояла далеко вытащенная на берег лодка. Олег спрятался за лодкой, Наташа – рядом с ним.
Звезды уже налились и мерцали низко над озером, На деревне слышался говор. Несколько голосов в разных концах пели разные песни. Доносился глухой шум, словно деревня собиралась в дорогу.
– Не спят, – сказал Олег.
– Ага, – сказала Наташа.
– И звезда над деревней горит.
– Низкая какая и большая.
– Я еще больше видел.
– Страшно, – сказала Наташа.
Из-под лодки кто-то опрометью бросился, нырнул в воду и поплыл. Наташа вскрикнула, схватила Олега за руку и прижалась к нему.
– Что ты, что ты? Это крыса, наверное, – сказал Олег.
– Страшно мне, – сказала Наташа.
– Ну, не бойся.
Енька от мельницы шел к лодке. Звезды начали отражаться в воде. И по тому берегу шла с поля в деревню Зина. Олег взял Наташу за руки, встал и громко крикнул:
– Здесь мы, Енька!
– Да я знаю. Я уж не ищу, – сказал Енька.
Он подошел и сел на корму лодки.
– Какая здесь игра, – сказал он. – Вот в селе, на площади… Там и за школой, и за магазином прятаться можно, и народу больше.
– Это да, – согласился Олег.
Наташа встала с земли.
– Там здорово играть в прятки, – сказала она.
– Вот там и будем после играть, – сказал Енька.
2
Площадь села была забита народом и подводами. Раннее солнце низким жаром заливало крыши, и окна. Все сидели на телегах, в траве и молчали, словно слушали друг друга.
Олег вышел к площади, когда от Иртыша поднимались в село цыгане. Длинными босыми ногами ступали женщины, молодые и старые, в пылающих платьях и платках, простоволосые, сверкая черной мглою зрачков, – и молодых нельзя было отличить от старых. Их платья развевались как знамена. Быстрыми черными руками они широко размахивали в воздухе, торопливо говоря друг другу что-то, и разговор их похож был на спор. Среди них в черном пиджаке, черных брюках и высоких сверкающих сапогах важно шел бородатый громадный цыган и точным взглядом обстреливал площадь. Позади бежали дети.
Маленькая вороная цыганка подбежала к Олегу, присела перед ним, широко расставив узкие ступни, блеснула глазами и, весело оскалив белые ровные зубы, крикнула:
– Стой, поворожу!
Олег растерялся и встал.
Девочка заглянула ему в лицо и нараспев, словно пьяная, быстро заговорила:
– Стой, поворожу, золотой ты парнишка. Тыщу лет будешь жить, меня вспоминать. В голос кричать будешь, найти – не найдешь, отыскать – не отыщешь, ручку позолотить, яхонтова слова хлебнуть. Стой, поворожу! Скажу, когда на свет родился, кем был, кем будешь, кого невестой возьмешь, с кем под венец пойдешь, на кого заглядишься – в речке утопишься. Стой, поворожу!
Она вскочила, приблизила глаза к лицу Олега, и засмеялась, и схватила Олега за руку. Олег выдернул руку и сказал:
– Подожди ты, я Еньку ищу.
– Стой, поворожу, – сказала маленькая цыганка, захохотала, задыхаясь жарким воздухом, и опять схватила Олега за руку.
– Я в прятки пришел играть, – сказал Олег. – А ты мне мешаешь.
– Стой, поворожу, – сказала цыганка, – с кем в прятки пойдешь играть, кого спрячешь, от кого спрячешься и кого когда найдешь.
Она топнула ногой и сердито посмотрела на Олега.
– Отпусти ты меня, – сказал Олег.
– Стой, поворожу, – сказала цыганка. – На войне не убьют – от девичьего глаза помрешь. Свет тебе не мил станет, мать родную забудешь и детей своих проклянешь…
– Подожди ты, – раздался голос бабушки.
Бабушка стояла, положив руку на плечо цыганке и укоризненно глядя на нее.
– Мала еще такие песни петь! – сказала бабушка ласково. – Я сама тебе и ему на весь свет нагадаю.
Цыганка замерла и опустила голову.
– Пойди-ка посмотри дядю Сашу, – сказала бабушка Олегу. – Нет его нигде. Вчера в военкомат ходил и всю ночь дома не был. Врачи не пропустили. Побегите да поищите его на площади вдвоем.
Бабушка подтолкнула Олега и мягко шлепнула цыганку по спине.
– Ладно, мама, – сказал Олег и пошел к площади.
Толпа молчаливо сидела, забивши всю площадь, и было похоже, что она собирается с духом.
Цыганка бежала за Олегом как заговоренная, и торопилась, и что-то бормотала себе под нос.
– Это мать твоя? – спросила она наконец, поравнявшись.
– Нет, бабушка.
– А чего ты ее матерью зовешь?
– Нет у меня матери, потому и зову.
– Красивая, – сказала цыганка.
Она забежала вперед, встала перед Олегом, пристально посмотрела ему в лицо.
– И ты красивый, – сказала она и пошла впереди Олега.
В траве у канавы стояла высокая телега. К телеге был привязан конь, черный, низкий, поджарый. Конь стоял, перебирая задними ногами, отбиваясь хвостом от слепней, полузакрыв глаза. Цыганка подбежала к коню, присела и сказала:
– Мерин.
– Кто? – спросил Олег.
– Мерин, – сказала цыганка.
– Пошел отсюда, черний тварь, – сказал из-под телеги толстый пожилой татарин с голубой чашкой в правой руке. Он держал чашку на растопыренных коротких пальцах, приспустил правое жирное веко, а левым длинным глазом смотрел на цыганку. Он тонкими сильными губами отхлебывал из чашки чай.
Рядом полулежала в траве старая татарка с лицом, обтянутым синей кожей, под которой прозрачно видны были тоненькие малиновые жилки. Перед старухой лежали горой лепешки. Поодаль сидела небольшая русская женщина с огромной белой косой, уложенной колесом на голове, и с тяжелой вислой грудью. Возле женщины сидел крошечный мальчик с ослепительно белыми волосами и широким татарским лицом.
Женщина посмотрела на Олега, на цыганку и улыбнулась краями губ. Цыганка шагнула, встала перед женщиной, расставив ноги, и сказала:
– Дай лепешку.
Женщина засмеялась.
– Мама, дай-ка лепешку, – сказала она пожилой татарке.
Та приподнялась на локте, взяла одну лепешку и протянула цыганке.
– Кушай, кушай, – сказала она, – большой будешь, жених хороший попадет.
Цыганка взяла лепешку, разорвала ее в воздухе пополам и половину подала Олегу. Татарин прихлебывал чай и строго смотрел на всех одним глазом.
– А какой он? – спросила цыганка, когда пошли дальше.
– Кто?
– Дядя Саша.
– Как тебе сказать… – задумался Олег. – Высокий, нос порезан – шрам у него. На войне казаки саблей рассекли. Плечи большие, как у вашего старика.
– У Кирилла, – сказала цыганка. – А волос у него какой да глаз?
– Волосы белые, а глаза вроде сероватые.
Они пересекли площадь и вышли к школе. И сразу почувствовалось, откуда исходит на площадь тишина. Здесь, в этом деревянном, огороженном низким забором здании под железной крышей, было еще тише. У калитки стояли двое часовых. С винтовками. Один был беловолосый, широкоплечий, в сапогах. Они стояли, вытянувшись, прижав к телу винтовки, будто одеревенели; глядели поверх площади, но не в небо, и взгляд был застылый, как бы вслушивающийся. Оба вспотели, но дышали ровно.
И Олегу сделалось не по себе. Захотелось ему подойти к часовым и постоять рядом. Но Олег не подошел, а заробел. Он остановился и, тяжело дыша, стал смотреть на винтовки.
Очнулся он оттого, что цыганка взяла его за руку.
– Не он? – спросила она, показывая на часового в сапогах.
– Нет, не он, – сказал Олег.
– На войну идут? – спросила цыганка, глядя во двор школы.
К школьному крыльцу, изогнувшись вдоль забора, выстроилась большая очередь. Мужчины молча поднимались на крыльцо и проходили в глубь коридора. Возле самого крыльца стоял Петр, Енькин отец, стоял Митька, муж красивой бабы Калины. Петр напружил спину, наклонил голову и равномерно моргал белыми ресницами. Митька осматривался, кому-то кивал в очереди, – видно, признавал знакомых; покуривал папироску и сплевывал.
По ту сторону двора сидел на заборе Енька, смотрел на очередь и отбивался от слепней. Рядом с ним стояла Калина, держась руками за край забора, вытянув шею и отыскивая глазами Митьку. Мимо проходили мужчины, посматривали на нее и шутливо что-то поговаривали. Калина улыбалась, поблескивала глазами, так же шутливо отвечала на слова и смотрела в очередь, поводя языком внутри рта, под щекой.
– Такую бабу саму хоть на фронт посылай, – сказал кто-то завистливо.
– То-то и навоюешься, – сказал другой, – каши не поешь, винтовки не подымешь.
– Красивая баба, – сказала цыганка.
– Из нашей деревни, – сказал Олег, – Калиной зовут. Веселая.
– Айда на войну, Дуня! – крикнул кто-то Калине.
– Сам повоюешь, – сказала Калина, не поворачивая головы.
– Как же без тебя портки изнашивать! – крикнул кто-то другой. – Куда жисть пойдет?
– Портков не хватит – позовешь, – сказала Калина, – Гляди, не отстираешь! – крикнул первый.
– Не отстираю, свою бабу кликнешь.
Дед шел вдоль забора. Он шел с каким-то стариком. Старик подслеповато всматривался в очередь и крутил головой, словно нюхал.
– Мужики-то, мужики какие! – говорил старик.
– Сибирские полки, – говорил дед и приподнимал плечи под распахнутым черным пиджаком. Сапоги его были в гармошку, шел он озорно, приплясывал. Он почесывал руки. Оба были выпивши. – Сибирские полки, – говорил дед. – Такого страху, брат, никто еще не видывал. Уж я-то хлебнул до ушей. Меня ведь сначала белые мобилизовали. Так я от них, от ваших полков, аж до Саратова бежал. Ни одна сила не устоит. Ух ты, зверь!
Дед остановился и ликующим взглядом посмотрел на огромного рыжего парня в косоворотке, с малиновым от загара и силы лицом, с огромными руками, которые оттягивали плечи, как гири.
– Ух ты, зверь!
Парень услышал. Посмотрел на деда и успокоительно подмигнул.
– Молодцовец! В самую инператорскую гвардию, – сказал старик.
– Жаль его, стервеца, туда, – сказал дед. – К бабам бы его, а тут на войну. Ну уж ничего. Вернется, выйдет он оттуда, эх и покажет он им, хвостатым душегрейкам, жизнь-малину.
Олег схватил цыганку за руку и хотел ускользнуть в толпу. Но дед заметил, прищурился, подошел.
– А ты чего тут под заборами гоняешь?
– Я так, я посмотреть, – сказал Олег.
– Не видел?
– Не видел, – сказал Олег.
– И верно, не видел, – согласился дед. – Но не тужи, увидишь. Не такое, брат, увидишь. А Сашка где?
– Да вот ищу я его. Мама велела.
– Чего она велела? Здесь, что ли, искать? – Дед оглянул площадь. – Нет его здесь. В деревню сбегай погляди. Скажи, пусть не дурит, завтра вместе к военкому пойдем. Что же уж теперь, и старых красных гвардейцев на войну не пускать? Нет такого права. – Дед посмотрел на старика.
– Нет, нет, нет, – согласился старик.
И тут площадь колыхнулась. Изнутри ее вдруг поднялось движение. Все вскочили, все заспешили в разные стороны. Дед замер и пристально посмотрел туда, в сутолоку.
– Кого, кого это там? – вскочила с земли толстая рябая женщина в сбившемся на шее платке.
– Бьют, айда… кого, поди, – сказал из-под телеги татарин. – Бьют, украл.
– Неужто уж, сатана, в такой день воровать пошел? – всхлипнула женщина.
– А ишо бы ему и не украсть? Самый день, – сказал татарин и повертел в руке пустую чашку.
– Ох уж и бить бы его не надо, – сказала женщина.
– Кого украл, чего языком мелешь, – сказал татарину пожилой мужик в рубахе и в домотканых толстых штанах. – Припадок, поди, кого в таку жару хватил. А ты – украл.
Где-то в стороне зашептались резвенько старухи. Рябая женщина прислушалась и села на землю.
– Баба ребенка родила, – сказала она успокоенно.
– Так среди народу, гляди-ко, милая, и разрешилась? – спросил какой-то женский голос.
– Войне конец хороший будет, – сказал пожилой мужик. – Это уж точная примета.
– Кирилл! – испуганно шепнула цыганка и кинулась в сторону, под мерина. Она спряталась под задними ногами и тихо засмеялась. Мерин переступал, но не трогал цыганку.
Высоко подняв бороду, длинно шагал огромный старый цыган туда, на шум. Он прошагал мимо и влез в толпу, разгребая ее руками.
– Айда, пошел, – зло сказал толстый татарин, не поднимая жирного века. – Ишь, черный сатана, – и швырнул в цыганку лепешкой.
Та выскочила из-под мерина, схватила лепешку и потащила Олега в давку.
Протиснуться сквозь давку было невозможно. Цыганка встала на четвереньки и, торопливо работая руками, побежала меж сапог, ботинок и босых ступней. Олег тоже встал на четвереньки и юркнул в пыль, и в скрип, и в суету.
Кто-то наступил ему на ладонь босой ногой, сапогом уперлись в ухо. Какая-то старуха охнула и села Олегу на спину толстым мягким задом и все лицо закрыла широкой юбкой. Олег выскользнул из-под юбки. Его пхнули коленом. Наконец Олег заметил, что чаща ног редеет и впереди уже виден свет, люди не суетятся там, впереди, а очистили широкий круг.
Посреди круга в белой вышитой рубашке стоял плотный, среднего роста мужчина. Поднятой рукой удерживал он толпу и что-то говорил спокойным, деловитым голосом. Другой рукой он укреплял на земле высокую треногу с фотоаппаратом. Рядом стояла девушка с полевой черной сумкой через плечо и уже выстраивала очередь.
Олег оглянулся и увидел цыганку. Она сидела на земле и без всякого любопытства смотрела на фотографа. Она почувствовала на себе взгляд и улыбнулась Олегу. Махнула рукой и крикнула:
– Пошли!
Олег подошел к ней.
– Куда нам? – спросила цыганка.
– А вон, – Олег махнул рукой в сторону деревни.
В это время черная рука взяла цыганку сверху за шиворот, подняла и утащила. Олег только увидел большую спину бородатого цыгана и услышал его непонятные, быстрые, сердитые слова.
– Ты иди, приду! – крикнула цыганка и взвизгнула, словно ее ущипнули.
Олег выбрался из толпы и зашагал в деревню.
Деревня была пуста. Не было в ней ни движения, ни шума. И казалась она покинутой. Но ворота и калитки были аккуратно затворены. Ставни на избах закрыты, чтобы в горницах, как чистая колодезная вода, сохранилась за день ночная прохлада. А двери были раскрыты. И поэтому чувствовалось, что хозяева не бросили деревню, а ушли по какому-то важному делу и скоро вернутся.
Увидел издали Олег только Беднягу. Бедняга шел через дорогу к своему дому и нес в руке что-то вроде шеста. Он шел походкой человека, вернувшегося с охоты.
Дома дяди Саши не было. Олег вышел на крыльцо. Он постоял, глядя на солнце, на облака, на гусей, разгуливающих по озеру без присмотра, и тут заметил, что на пороге мельницы кто-то сидит.
Это сидел дядя Саша. Он сидел, положив локти на колени. Он перочинным ножиком стругал палку. Нож вспыхивал в его руке от каждого движения, и медленно кружились, падая, длинные белые стружки. Они раскачивались на лету, словно таяли. Дядя Саша пусто смотрел перед собой. И хотя веки его не были сомкнуты, чудилось, что сидит он с закрытыми глазами и смотрит куда-то внутрь себя. Лицо его постарело, будто он долгие дни и ночи шел утомительной, длинной дорогой и теперь только присел отдохнуть, а идти еще далеко.
Олег остановился внизу среди ромашек, не зная – окликнуть пли нет. Кто-то тронул его за плечо. Олег обернулся и увидел цыганку.
– Он? – спросила цыганка.
Олег кивнул.
– Пускай он сидит, – сказала цыганка и потянула Олега за рукав. – Не видишь разве: на сердце у него печаль-разлука. Пойдем.
Они постояли под мельницей и пошли в село. Они шли горячей землей вдоль реки, а над ними стояли, быстро перебирая в воздухе крыльями, жаворонки. Жаворонки пели там, под солнцем, и смотрели вниз, в рожь, где между высокими лиловыми колосьями шли мальчик и девочка. Мальчик шел в коротких штанишках, было ему лет тринадцать, и шел он, о чем-то размышляя. А девочка была чуть повыше и чуть постарше его, в золотом запыленном, но сияющем платье. По спине ее рассыпались жесткие черные волосы. Она смотрела вокруг широкими, узко посаженными глазами, и останавливалась иногда, и глядела мальчику в спину, словно припоминала – кто это. Глаза ее становились тогда уже и поблескивали из глубины.








