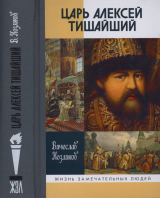
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 46 страниц)
Точное время появления человека, выдававшего себя то ли за сына, то ли за родича царя Василия Шуйского, в Речи Посполитой и в «номинальных» владениях польского короля, перешедших под контроль гетмана Богдана Хмельницкого, неизвестно; исследователи называют неопределенно «1649/1650 год»{137}. Московское правительство стремилось не упускать из виду самозванца «Тимошку» и вернуть его в Московское государство. Однажды, в 1646 году, турецкий султан уже пытался использовать Лже-Шуйского, пребывавшего тогда в Константинополе, памятником чему осталась не лишенная публицистической остроты «грамота» беглого подьячего. Он подвергал сомнению права на царство Алексея Михайловича, оскорбительно называя его «Митрополитанчиком, выродкова царева Михайлова сына», составил поддельную родословную Романовых-Юрьевых, выводя их от московских «купецких людей», и указывал, что нынешний царь воцарился «не по избранью общей думы земской», то есть без решения Земского собора. Высказывалась им и идея похода в Московское государство при помощи «турского царя Ибрагим-султана» или даже овладение Москвой «без турского войска». Самозванец обещал получить «отеческое свое царство», опираясь на поддержку не названных им «сановников московских и значных людей земских»{138}.
Свою идею реванша Тимофей Анкудинов хотел осуществить подобно «брату своему царю Дмитрию». И наглядно подкрепил эту, условно говоря, программу еще и «виршами», где со своеобразным литературным талантом выносил приговор московским порядкам: «О Москва, мати клятвопреступления! / Много в тебе клопотов и нестроения»{139}. Искал этого самозванца и строитель Арсений Суханов, немедленно вернувшийся с дороги в Москву, когда ему удалось узнать о пребывании Тимофея Анкудинова в Речи Посполитой. Сохранилась грамота иерусалимского патриарха Паисия гетману Богдану Хмельницкому, где он прямо ссылается на устное поручение царя Алексея Михайловича «проведывать» о самозванце; этим патриарх и объясняет возвращение Суханова в Москву. 11 декабря 1649 года Арсений Суханов уже давал объяснения в Посольском приказе и рассказывал о пребывании самозванца где-то «в скиту под Венгерскими горами» (Карпатами) и его дальнейших планах идти в Киев{140}.
Легко можно просчитать, что могло воспоследовать из-за появления Лже-Шуйского в Речи Посполитой. Участники событий Смуты, помнившие времена Лжедмитриев, были еще живы. Московский посол Григорий Гаврилович Пушкин с товарищами выехал в Варшаву, когда там, в начале 1650 года, должен был состояться сейм, утвердивший Зборовский договор{141}. В этих условиях в Москве стремились всеми силами сохранять мир. В подтверждение своих намерений польско-литовской стороне продемонстрировали подлинные листы с просьбой казаков взять их под «высокую царскую руку» за подписью Богдана Хмельницкого и печатью «всего Войска Запорожского». Как оказалось, листы эти были взяты послами в Варшаву не зря. Паны-рады, увидев их, убедились в приверженности царя Алексея Михайловича прежнему договору о мире и дружбе. А это помогло решить один из важнейших, занимавших московских послов, вопросов – об организации совместного поиска самозванца Тимофея Анкудинова, к тому времени действительно оказавшегося в ставке у гетмана. Решение вопроса с обращением казаков Хмельницкого в Москву пришлось на время отложить.
Неуловимый самозванец Тимошка Анкудинов постепенно превращался в заметную угрозу. В Москве еще раз попытались справиться с этой проблемой, но не нашли ответного понимания у гетмана Богдана Хмельницкого, озлобленного неудачей с обращением в Москву за поддержкой, которое стало считаться казаками «стыдом». И здесь в дело опять вступил неутомимый старец Арсений Суханов. 26 января 1650 года он был отправлен из Москвы с устным наказом от думного дьяка Михаила Волошенинова узнать о постановлениях сейма по делам с казаками, приезде и приеме московских послов, «и про вора Тимошку и про татар проведать, и о том всем писать ко государю». Именно Арсений Суханов становился одним из главных информаторов московского правительства в делах казаков Хмельницкого с польским королем; его «вести», полученные в Посольском приказе, могли становиться предметом «доклада» царю Алексею Михайловичу. Понемногу ему удалось выяснить, что самозванец в Великий пост находился в Киеве, после чего отправился к гетману Богдану Хмельницкому – просить у него людей для похода «войною» на Московское государство. Но проведавшая об этом деле казачья старшина запретила набор войска. Хотя самозванцу, выдававшему себя за потомка царей Шуйских, и разрешили до поры жить в Мгарском Преображенском монастыре в Лубнах.
В начале июня 1650 года самозванец послал из Чиги-рина личное письмо воеводе пограничного Путивля боярину князю Семену Васильевичу Прозоровскому, еще недавно работавшему в Москве над составлением Соборного уложения, а теперь отправленному на воеводство в город-форпост на пограничье с украинскими землями Речи Посполитой. Бывший подьячий, хорошо знакомый с приказным порядком, понимал, что боярин должен переслать его «грамоту» в Москву (действительно, получение там этого документа датировано 22 июня). Самозванец стремился убедить царского боярина и «сановника» в своем происхождении от князей Шуйских, на что у него якобы были «царские свидетельства и грамоты, что при себе ношу». Неизвестно, знал ли беглый подьячий, что боярин князь Семен Васильевич Прозоровский по материнской линии состоял в родстве с князьями Шуйскими. Важнее, что в окружении царя оставалось немало людей, знавших о таком родстве. Возможно, обращение самозванца послужило впоследствии причиной немедленной опалы вернувшегося с воеводства в Путивле князя Прозоровского{142}. Анкудинов напоминал боярину времена Смуты, которые князь Семен Васильевич Прозоровский действительно хорошо знал («не тайно есть тебе о разоренье московском, о побоищах межу-усобных, о искорененье царей и их царского роду, и о всякой злобе лет прошлых»). Забыв о своих прежних оскорблениях царя Алексея Михайловича, на этот раз самозванец стремился выставить себя его сторонником, действующим «во славу» московского царя, и твердил о каком-то «царственном великом тайном слове», которое был готов объявить в Москве. Человеку, подписавшемуся «князь Иван Шуйской рукою власною», веры не было, но ему важно было создать видимость, втянуть по возможности московского боярина в свои дела, «набить себе цену» в Чигиринской ставке Богдана Хмельницкого. Поэтому никаким обращениям «вора Тимошки Анкидинова» в Посольском приказе не верили, никто и не подумал присылать по его просьбе «государеву грамоту за подписью и за печатью царскою самобытно»{143}.
Вместо этого царь Алексей Михайлович распорядился отослать для задержания самозванца в Чигирине своих дворян Петра Даниловича Протасьева и Василия Яковлевича Унковского. Они были свободны в выборе средств, вплоть до поиска наемного убийцы для устранения беглеца, выдававшего себя за потомка князей Шуйских{144}. Их миссия не увенчалась успехом, все, что им удалось сделать, – привезти ответные грамоты «о Тимошке» от самого гетмана Богдана Хмельницкого{145}. Арсению Суханову пришлось еще раз прервать свое путешествие с патриархом Паисием и возвратиться с дороги из Волошской земли. Патриарх Паисий также участвовал в этом деле и просил в личном послании Зиновия (то есть Богдана) Хмельницкого отправить самозванца к царю Алексею Михайловичу{146}. Разговор о выдаче Тимошки Анкудинова в Чигирине, однако, не получился. Виною тому стало стремление гетмана Богдана Хмельницкого использовать Лже-Шуйского в своих целях для давления на царя Алексея Михайловича.
В составленном «статейном списке» Арсения Суханова содержится поразительное описание разговора с гетманом Богданом Хмельницким в его ставке в Чигирине в ноябре 1650 года. То была еще одна попытка побудить гетмана выдать самозванца в Москву. Но этот документ является еще и ярким свидетельством, объясняющим многие неудачи переговоров московского правительства с казаками.
В дни пребывания старца Арсения в ставке гетмана в Чигирине туда приехал «турской посол» (в ответ на поездку «гетманского посла» в Стамбул). Это плохо соотносилось с образом гетмана как защитника православия. Назаретского митрополита Гавриила и Арсения Суханова, предъявивших грамоту патриарха Паисия, принял не сам гетман, а писарь Иван Выговский. Дело о Тимошке было написано в патриаршей грамоте «потонку», и Выговский попытался представить его как внутреннее дело Войска, сравнив запорожские казачьи порядки с Доном, откуда, как было известно, «выдачи нет». Вместо обсуждения дела, интересовавшего представителя царя Алексея Михайловича, Выговский переводил разговор на неоказание царем помощи казакам. Арсению Суханову приходилось ссылаться на официальную версию о действующем мирном договоре с королем Яном Казимиром, запрещавшем вмешательство во внутренние дела Речи Посполитой. В таком ключе разговор мог продолжаться долго…
Наконец, 8 ноября 1650 года, после службы в церкви, где гетмана Богдана Хмельницкого, как заметил Арсений Суханов, поминали «государем и гетманом великия Росии», состоялся официальный прием. Даже тогда Хмельницкий не скрывал своего разочарования выбором царя Алексея Михайловича: «…нихто мне так не досаден, что царь московский. Посылали мы послов своих до его милости, и он было хорошо сказал и принял добре, а в другой сказал инаково, что он с королем мирен вечно». На следующий день гетман Богдан Хмельницкий и писарь Иван Выговский вместе пришли разговаривать с посланниками патриарха Паисия на их дворе. Тогда гетман уже не сдерживал себя и высказывался обо всем откровенно, не останавливаясь перед угрозами тому, кого раньше просил принять «под свою державу», ссылаясь на свой опустошительный поход с союзниками в Волошскую землю. Однако Арсений Суханов ответил достойно: «…а у нас бы вас встретили и на Украйне, не токмо под Москвою, и пролилося б крови много: Московское государьство – не как Волоская земля, в лес или в горы не побежали из городов».
Богдан Хмельницкий приходил не для бахвальства, ему важно было не допустить укрепления союза царя Алексея Михайловича и короля Яна Казимира. Для этого он стал говорить с Арсением Сухановым в отдельной «коморе», один на один, чтобы тот передал царю полученные им известия об обмене посольствами поляков и татар о совместном походе на Москву. Правда, грамоту от волошского воеводы Василия об этом он сразу найти не смог, но Арсений Суханов поверил гетману, утверждавшему: «не лжу говорю». Без свидетелей гетман позволил себе произнести и те слова, которых от него всегда ждали в Москве: он назвал себя «холопом государевым» и «поклонился ниско». Дело с самозванцем Тимошкой Анкудиновым представлялось Богдану Хмельницкому малосущественным. «То – малое дело», – просил он передать Арсения Суханова царю.
Продолжив общий разговор с посланниками патриарха Паисия, он пообещал выслать беглого подьячего Анкудинова из Войска Запорожского. Иначе он не мог поступить, не нарушив казачьи порядки. Главный же вопрос к царю, который на следующий день после встречи с Хмельницким подтвердил писарь Иван Выговский, оставался прежним: «Примет ли он государь нас в соединенье»? При этом слова о «высокой руке» больше не звучали. Миссия посланцев иерусалимского патриарха провалилась, что и не преминул отметить Арсений Суханов: «Не гораздо вы учинили, что государьскую милость к себе забыли, за такова вора стали». На том и разошлись: самозванец Тимошка Анкудинов, по словам писаря, получил проезжий лист «в Венгры», а Арсений Суханов уезжал в Москву с гетманским письмом 11 ноября 1650 года «о безделнике Тимушке», запрещавшем принимать самозванца в казачьих землях, и «повинным поклоном» царю от Богдана Хмельницкого и всего Войска{147}.
Правда заключалась в том, что когда посланцы патриарха Паисия вместе с Арсением Сухановым приехали в Чигирин, самозванца уже не было в землях Войска. Лже-Шуйский еще в сентябре 1650 года был отправлен гетманом Богданом Хмельницким к трансильванскому князю Дьердю II Ракоци и дальше к королеве Христине в Швецию для подготовки союза против Речи Посполитой. Не исключено, что Тимошка Анкудинов был обнадежен широко распространившимися слухами о мятеже в Новгороде и Пскове, но опоздал или не смог повлиять на события. Московский гонец в Швеции писал о враждебных действиях самозванца, «наговаривавшего» гетмана Богдана Хмельницкого «итти войною на Московское государство»{148}.
Поиски Тимофея Анкудинова продолжились, но только в конце 1652 года его удалось наконец-то схватить в земле голштинского герцога и договориться о выдаче его в Москву. Спустя год казнью Тимофея Анкудинова завершилась тяжелая история начала правления царя Алексея Михайловича. Лже-Шуйскому, как и другому самозванцу – Лжедмитрию, была провозглашена церковная анафема.
«Мятеж и воровской завод»На первом плане у правительства царя Алексея Михайловича в 158-м (1649/50) году оставался «пожар» городских восстаний, или «народных волнений»{149}, вспыхнувший в разных частях Московского государства. С особой силой «мятежное время» характеризуют выступления в Пскове и Новгороде весной 1650 года. В современной исторической науке совершается пересмотр прежних представлений о природе и причине народных движений XVII века. Можно согласиться с исследователем псковского восстания Владимиром Александровичем Аракчеевым, подчеркнувшим, что «насильственные действия восставших весной 1650 г. были прямо спровоцированы властью – как центральной, так и местной»{150}. Публикаторы «Следственного дела о Новгородском восстании 1650 года» называют причиной восстания в Новгороде «продовольственный кризис, возникший в связи с вывозом хлеба за границу»{151}.
Мятежи в Пскове и Новгороде стали непосредственным следствием окончания переговоров с Швецией о судьбе перебежчиков. Эта проблема в отношениях с северным соседом оставалась нерешенной со времен Столбовского мира 1617 года. 19 ноября 1649 года в Стокгольме послы Борис Иванович Пушкин, Афанасий Осипович Прончищев и дьяк Алмаз Иванов подписали договор о выплате за перебежчиков 190 тысяч рублей{152}. Для того чтобы сократить издержки по уплате долга шведам, они связали воедино уплату денег за перебежчиков и продажу хлеба за рубеж. Правительство стремилось и в этом деле получить выгоду, поэтому была повышена цена на хлеб. Позже в официальных известиях о псковском восстании, составленных в Посольском приказе, пришлось, не скрывая, прямо объяснять свои цели: «цены приподнять, чтоб немцам по дорогой цене продать»{153}. Забыв, конечно, про рядовых обывателей, также пострадавших от хлебной спекуляции, организованной агентом правительства в Пскове гостем Федором Емельяновым. Псковичам даже показалось, что речь шла о подготовке города к сдаче шведам; называлось и точное время, когда иноземные враги должны были войти в русские пределы: в Великий Новгород на Пасху, а в Псков на Троицу.
Восстание в Пскове началось 28 февраля 1650 года и продолжалось до конца августа. Псковский бунт стал важным испытанием для царя Алексея Михайловича, слишком многое зависело от исхода этих событий в Московском царстве. Выступление псковского посада сначала возглавили «лучшие люди», руководившие посадским самоуправлением: земские старосты Семен Меншиков и Иван Подрез. Действовать они стали тогда, когда речь пошла о вывозе хлеба из царских запасов в Псковском кремле – «Кроме», как его называли. По рассказу так называемой Большой коллективной челобитной, отправленной псковскими жителями царю Алексею Михайловичу, они обратились к псковскому воеводе окольничему Никифору Сергеевичу Собакину и архиепископу Псковскому и Изборскому Макарию. Псковичи просили, чтобы воевода запретил выдачу «свейским немцам» «кремского» (то есть из государевых житниц в Кремле) и «купного» (купленного) хлеба. В ответ же услышали угрозы окольничего, обещавшего по «государевой грамоте» отдать хлеб «немцам, а не вам псковичам». Обращаясь к псковскому «миру» с паперти соборной Троицкой церкви, окольничий говорил при этом: «Вы, де, псковичи, изберите из вас лутчих людей, кого из вас повесить»{154}.
Первые события повлекли за собой самоорганизацию мира, объединившегося в стремлении послать челобитчиков в Москву, чтобы там искать управы на действия воеводы и объявить об «измене» в делах со шведами, ставившей под угрозу оборону города. Для этого в Пскове был создан параллельный орган управления – всесословная земская изба, а главные дела, как в вечевые времена, снова решались на мирских сходах. Общие действия псковского мира понадобились для защиты своих интересов, потому что воевода Никифор Собакин отправил царю Алексею Михайловичу отписку, где описал события в выгодном ему свете, произвольно назвав ряд запомнившихся имен «воровских заводчиков». Выбора у псковичей не осталось, и они встали на защиту этих людей: воеводу Никифора Собакина, как и сменившего его окольничего князя Василия Петровича Львова отстранили от дел, задержали и специально присланного в Псков для усмирения еще одного царского окольничего князя Федора Федоровича Волконского. Ключи от города были отданы земским старостам и стрельцам, получившим возможность ударами «сполошного» колокола созывать людей и выдавать им оружие, порох и свинец. По сути, власть в Пскове перешла к известным по временам Смуты городовым советам из представителей разных чинов. Псковские церковные власти, дворяне и дети боярские, посадские люди всячески стремились показать, что они едины в своем стремлении отстоять правду у царя, не останавливаясь даже перед вооруженным неповиновением, что, конечно, явно нарушало недавно принятые нормы Соборного уложения. Правда, не все приняли мятеж против государевых воевод. В этот момент взошла «звезда» одного из самых ярких и талантливых приближенных царя Алексея Михайловича в будущем – Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина. Пока он был всего лишь рядовым псковским помещиком, но он сделал свой выбор и первым приехал в Москву 13 марта 1650 года, чтобы объявить царю Алексею Михайловичу про начавшийся «мятеж и бунтованье» в Пскове{155}.
Следом за Псковом 15 марта 1650 года восстали новгородцы. Они собрались в земской избе во главе с одним из «менших» людей сапожником Елисеем Лисицей, захватили Каменный город и ударили в набатный колокол. Новгородский воевода окольничий князь Федор Андреевич Хилков фактически был лишен власти и вынужден был спасаться на подворье у митрополита Никона. В грамотке, тайно отправленной в Москву боярину Борису Ивановичу Морозову 17 марта, Хилков назвал трех заводчиков восстания – посадских людей Игната Солодовника (иногда называемого еще по созвучию Молодожником), Ивана Оловянишника и митрополичьего дворецкого Ивана Жеглова. Все они были освобождены из тюрьмы после того, как город оказался в руках восставших. Воевода сообщал в Москву о их планах: «и хотят сложитца со псковичи заодно»{156}. Первоначально гнев новгородцев, как и в Пскове, был направлен против торгового агента правительства гостя Семена Стоянова, безуспешно пытавшегося скрыться из города. Но попутно доставалось всем, кого можно было пограбить «гилевщикам», в частности, оказавшегося в городе датского посланника Иверта Краббе. В явочных челобитных, собранных в Новгородской приказной избе, остались свидетельства таких грабежей, как и попыток насильно связать горожан круговой порукой, собрав как можно больше подписей под коллективной челобитной{157}.
Новгородцы надеялись, что царь Алексей Михайлович разберется с накопившимися в городе делами, самоуправством воеводы князя Хилкова и митрополита Никона. В их челобитной царю Алексею Михайловичу, составленной около 28 марта 1650 года, говорилось: «Да он же, Никон, как по твоему государеву указу приехал в Великий Новгород митрополитом… хотел соборную церковь Софею Премудрость Божию рушить и столпы ломать». Жители Новгорода, как и псковичи, требовали запретить торговлю хлебом и мясом с шведами, обвиняя в измене тех «лучших», наиболее богатых людей посада, кто вел ее ранее по заданию правительства боярина Бориса Ивановича Морозова, – прежде всего гостя Семена Стоянова. Сказывалась историческая вражда новгородцев с шведами и другими «немцами», которых они считали «государевыми недругами» и даже патриотично ссылались на свою присягу царю Алексею Михайловичу при его вступлении на престол. Только кроме новгородской челобитной царь узнавал о событиях от самого боярина Морозова (ему, как уже говорилось, первому новгородский воевода князь Федор Хилков сообщил о начавшейся в городе «смуте болшой») и от митрополита Никона, отправившего царю знаменитое в своем роде послание.
Никон был явно потрясен всеми событиями, наверное, впервые в жизни столкнувшись с таким открытым неповиновением, сопряженным с угрозой жизни. «И оне меня ухватили со всяким безчинием, – жаловался он царю Алексею Михайловичу, – и в те поры меня бранили всякою неподобною бранью и ослопом в грудь торчма ударили и грудь розшибли и по бокам камением, держа в руках, и кулаки били». Ненависть к Никону усилилась от того, что восставшими руководил человек, лично пострадавший от действий митрополита, – выпущенный из тюрьмы бывший митрополичий дворецкий Иван Жеглов. Именно его Никон предал проклятию на службе в день царских именин 17 марта. По словам митрополита, он стремился этими действиями разрушить саму идею общего крестного целования в Новгороде. Восставшие новгородцы в своей челобитной царю Алексею Михайловичу по-другому объясняли случившееся, обвиняя Никона в том, что он проклял не одного Жеглова, а всех жителей Великого Новгорода. По этой причине «при всем народе Никона митрополита обличило силою Божиею, ударило ево и всего роздробило». На следующий день, вероятно, из-за последствий «удара», митрополит Никон, по их словам, «собою не владел» и не мог проводить церковную службу. Новгородцы обвиняли митрополита и скрывавшегося на его дворе окольничего князя Федора Хилкова в том, что они «умысля» написали царю Алексею Михайловичу «на нас, бутто се мы Никона митрополита убили».
Вряд ли царь Алексей Михайлович верил новгородцам больше, чем Никону. Церковный владыка говорил с царем на другом языке, описывая ему свое видение: «…увидел венец царский на воздусе злат над Спасовою главою». Это была непростая икона, как напоминал Никон царю Алексею Михайловичу, «Спасов образ местной» в Софийском соборе был «списан с образа», взятого из Новгорода царем Иваном Грозным и поставленного в Успенском соборе в Московском Кремле, «именуется Златая Риза, от него же и чюдо было Мануилу Греческому царю». В те дни не раз вспоминали времена царя Ивана Грозного! По расспросным речам одного из новгородских дворян, «лутчие люди» говорили со слезами: «Болшое де нам за нынешнюю смуту, навести на себя такую же беду, как было при царе Иване». А дальше Никон описывает, как венец с иконы сидящего на престоле Спасителя вдруг оказался «на воздусе злат над Спасовою главою», после чего стал приближаться к самому Никону и оказался, как со страхом писал митрополит, «на главе моей грешной». Пораженный митрополит даже «прикоснулся» руками к воображаемому венцу, после чего видение рассеялось: «И аз мало от великого того страха переменився, чая чювственно и обойма рукама на своей главе осязал, и от того времени тот венець невидим был»{158}. Такую историю царь Алексей Михайлович вряд ли мог когда-нибудь забыть!
История с «видéнием» приходилась как раз на те дни, когда митрополит Никон отказался выходить со своего подворья для службы в Николо-Дворищенской церкви, сказавшись больным после перенесенных побоев. Поход с крестами архимандритов и всего новгородского церковного собора от Софии в Новгородском кремле на другой беper Волхова и молитва за царя на месте прежних вечевых собраний новгородцев на Ярославовом дворище должны были иметь особый смысл. Если новгородцы считали, что митрополит Никон понес Божье наказание за анафему жителям города, то сам архиерей в этот момент думал о возложенном на его голову «златом» венце. Вся эта история, конечно, приобретает дополнительный драматический оттенок, потому что «видение» Никона с возложением венца оказалось пророческим и могло повлиять на царя Алексея Михайловича, когда пришло время выбирать нового патриарха.
Противостояние города с московской властью растянулось почти на месяц, пока в Новгород не прибыл воевода боярин князь Иван Никитич Хованский с войском и не усмирил бунт. Для него, племянника князя Дмитрия Михайловича Пожарского и зятя боярина Михаила Михайловича Салтыкова, эта служба стала шансом на возвращение в ближний аристократический круг царя Алексея Михайловича. В самом начале царствования он пережил опалу из-за дела королевича Вальдемара. Князя Хованского сделали тогда едва ли не главным виновником, обвинив, что именно он внушил царю Михаилу Федоровичу мысли о том, что королевич «обязательно крестится»; следствием стала «сердечная кручина» царя, якобы сведшая его в могилу. Выдвигались и другие политические обвинения князю Ивану Никитичу Хованскому, в частности в нежелании принимать присягу новому царю Алексею Михайловичу{159}. После принятия Соборного уложения князя Ивана Никитича Хованского вернули из ссылки в Сибирь и даже пожаловали 1 апреля 1649 года в боярский чин. Назначение его на службу против «воров», взбунтовавшихся в Новгороде и Пскове, оказалось удачным. Потому что никому другому из бояр, известных своей приверженностью Морозову, там бы не поверили. Напротив, восставшие в Новгороде и Пскове требовали у царя Алексея Михайловича расследовать «измену» боярина Бориса Ивановича Морозова, якобы уже договорившегося о сдаче царской «отчины» шведам.
Князь Хованский явно не принадлежал к морозовской партии, а следовательно, не входил в число «бояр-изменников». Ему можно было довериться, что и сделал лидер восставших новгородцев Иван Жеглов, выехавший навстречу царскому боярину, чтобы договориться о его встрече в Новгороде. Правда, начавшееся весеннее половодье на Волхове не дало осуществиться задуманному. Но осталось письмо Ивана Жеглова князю Ивану Хованскому с рассказом об этой поездке, где он просил московского воеводу войти в город с немногими людьми и впредь присылать «в Великий Новгород новгородцов, а не иногородних людей», потому что те «Новгородцкого извычая не знают»{160}. 13 апреля 1650 года князь Иван Никитич Хованский вступил в Новгород со своим военным отрядом и целый месяц проводил, как ему было предписано, сыск «воров и заводчиков, от ково мятеж и воровской завод учинился». Все вышло не так, как пугал новгородцев митрополит Никон, что московский боярин будет их «вешать и пластать, без сыску и без очных ставок». Напротив, воевода пытался сделать все «по закону», и сам Никон тоже стал просить царя Алексея Михайловича помиловать восставших новгородцев: «Уподобися милостивому и человеколюбивому Богу, как будут тебе о своих винах бити челом, прости по премногу своея милости». Митрополит и новгородцев убеждал в царской милости, а иначе бы «все отчаялись за свое плутовство и на большое бы худо вдалися»{161}.
В Новгороде почти не было казней. По приказу князя Хованского во избежание дипломатических последствий дали «оборонь от воров», напавших в начале восстания на датского посланника и ограбивших его: отрубили голову Тимофею Волку и били кнутом палача Пимена Петрова. Хотя остальные участники мятежа тоже попали под следствие, разбирательство по делу надолго затянулось{162}. Успешно справившийся с новгородским «розыском» князь Иван Никитич Хованский заслужил похвалу царя Алексея Михайловича.
Впереди у князя Хованского оставался по-прежнему мятежный Псков, где учли новгородский опыт и не захотели никого пускать в город. Московское войско встретили выстрелами из пушек и пищалей с городских стен, а имения и дворы тех псковских дворян, кто был мобилизован Хованским, жестоко разоряли и грабили, предавая страшным казням их родственников. Исследователь городских восстаний середины XVII века, классик советской историографии академик Михаил Николаевич Тихомиров замечал, что «номинальный глава государства, царь Алексей Михайлович, в это время находился в длительном путешествии по подмосковным. Он ездил в Калязин и успешно занимался соколиной охотой. Сохранилось несколько писем царя Алексея, датированных апрелем – июнем 1650 г. Письма целиком посвящены деталям соколиной охоты, и в них нет ни слова о событиях, волновавших Московское государство в это время»{163}. Однако ссылка на «полную беспечность и удивительное политическое невежество царя Алексея» все-таки не справедлива. Конечно, царь Алексей Михайлович ни в коем случае не был только «номинальным главою» в Московском царстве! Поездки на богомолье и даже царская охота не мешали заниматься делами, они лишь формировали особую форму управления через постоянно присутствовавших рядом доверенных лиц царя.
Чрезвычайно интересен заочный словесный поединок, случившийся после отправки Большой псковской челобитной{164} в Москву и ответа на нее, полученного псковскими челобитчиками 19 мая 1650 года. Челобитная, запечатанная, как сказано в документе, «глухою печатью»{165}, была прочитана в присутствии царя Алексея Михайловича в селе Покровском. В ней царю были представлены объединенные требования, затронувшие все «болевые точки» власти и местного управления: «измена» боярина Морозова, мздоимство воевод, предпочтение, оказываемое иностранным офицерам перед «природными» служилыми людьми, служившими «с травы, и с воды, и с кнута», сокращение жалованья ружным церквям, произвол при сборе соляной пошлины и других налогов. В пику боярину Морозову и действовавшим от его имени в Пскове чиновникам, выполнявшим, по удачному определению В. А. Аракчеева, операцию «хлеб в обмен на православных»{166}, были отправлены особые челобитчики к боярину Ивану Никитичу Романову. В Пскове также хорошо понимали значение своего города, стоявшего на двух рубежах – «литовском» и «немецком». Поэтому много говорили об опасностях (как правило, мнимых, взятых из слухов и расспросных речей), грозивших родному городу, святыни которого они взялись защищать. И подтвердили это еще и обороной от «московского рубежа», когда в ожидании царского ответа затворили город и стали воевать с подошедшим от Новгорода отрядом боярина князя Ивана Никитича Хованского. Одновременно Большая челобитная была попыткой самооправдания псковичей, выказавших неповиновение царским воеводам. Жители Пскова подчеркивали в обращении к царю Алексею Михайловичу, что они молили Бога «за тебя и за мир».








