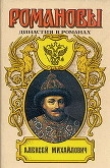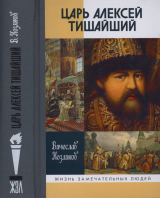
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 46 страниц)
Была или нет отмена медных денег всеобщим праздником, сказать сложно, кому-то она все равно принесла потери, а кто-то ее не дождался и разорился, но появилась хотя бы надежда на более устойчивое финансовое будущее Русского государства. Возвращение к серебряным деньгам означало проведение целого комплекса мер. В первую очередь новые (они же «старые») серебряные деньги пошли на жалованье служилым людям, ими взимали таможенные и прочие платежи, вели торговлю. Попутно, вместе с отменой медных денег, завершилась и другая история не оправдавшей себя кабацкой реформы. Нравственный ригоризм патриарха Никона больше не находил отклика в душе царя Алексея Михайловича, а желание удержать подданных от пьянства столкнулось с пониманием очевидного влияния уменьшения «кабацких» сборов на плачевное состояние казны. Именно 15 июня, день в день с отменой медных денег, было принято решение «быть кабакам и кружечным дворам на откупу и на вере» с 1 сентября 1663 года. Как писал С. Б. Веселовский, «с отменой медных денег вся кабацкая реформа 1652 г. рухнула, откупа и кабаки восстановлены».
Следовательно, и здесь возвращался привычный порядок оборота алкоголя – водки, пива и меда; снова разрешались кабаки, а сбор доходов опять попадал в руки откупщиков и голов, действовавших по старинному принципу: казну интересовали только увеличенные по сравнению с прошлыми годами суммы налогов. Водкой опять можно было торговать, наливая ее кружками и чарками, а не как раньше – только ведрами. Вводя такую меру и думая остановить пьянство, считали, что цена целого ведра отпугнет возможных пьяниц. Но все, кому требовалось, сообразили, что можно покупать ведра и в складчину. Это уже знали, возвращаясь к откупной системе и торговле на серебряные деньги, поэтому ввели «указную», твердую цену на ведро «вина», стоившее один рубль (столько же стоили и полведра и четверть ведра). Цена водки, продававшейся в кружки, была уже полтора рубля за ведро, а в чарки – все два рубля (вдвое дороже, чем оптовая покупка ведрами). При продаже пива и меда авторы кабацкой контрреформы требовали от содержателей кабаков вести торговлю как можно выгоднее для казны: «а пиво и мед продавать, применяясь к запасным и ко всяким покупкам, как бы его великого государя казне было прибыльнее».
Правительство царя Алексея Михайловича двигалось постепенно, но целенаправленно, учитывая, как реагировали люди на отмену медных денег. Прежние деньги стремились поскорее уничтожить, чтобы даже память о них не влияла больше на дела царства. Поэтому 26 июня последовал еще один совместный указ царя Алексея Михайловича и приговор Боярской думы: «медные деньги сливать, а не слив, деньгами никому у себя не держать». Устанавливался короткий период времени, начиная с 1 июля две недели в Москве и месяц в городах, когда можно было обменять деньги из казны по курсу: «за медные деньги за рубль серебряных по две деньги», то есть 1 серебряная копейка равнялась 1 медному рублю. Конечно, тем, кто успел совершить обменную операцию до этого срока, 16–17 июня, повезло: они меняли свои деньги 1 к 10, а не 1 к 100. Короткий «указной» срок (а до многих мест грамоты должны были дойти со значительным опозданием) лишал владельцев медных денег маневра, хотя им и разрешили на время покупать и продавать их «в какое медное дело на сливку». Но дальше за «держанье» медных денег грозили наказаньем «от великого государя»{503}.
«Дело Никона»«Дело Никона», длившееся с 10 июля 1658 года, составляло скрытый, тяжелый фон как для управления страной, так и для самого царя Алексея Михайловича. В картине мира истово религиозного человека, стремящегося к воплощению на земле освященного церковью порядка, молитвы патриарха были опорой в делах. Царь Алексей Михайлович помнил о Никоне и после его ухода, например, продолжал делать ему подарки в связи с рождением своих детей, а патриарх посылал ответное «благословение» царю. Однако движение к великой цели защиты вселенского Православия, начатое вместе с Никоном, не могло быть успешным в отсутствие в Москве главы церкви. До определенной поры Алексея Михайловича устраивало «тихое» пребывание Никона в Воскресенском или других патриарших монастырях. Продолжалась война, и вопрос о «вдовствующем» патриаршестве не был в числе главных. Перемены в общем настроении царя после столкновения с «миром» в ходе «Медного бунта» всё изменили.
Детали преследования опального патриарха и перипетии суда над ним хорошо известны, только они не дают ответа на главный вопрос: почему все-таки ни одна сторона не уступила другой и дело было доведено до низвержения Никона из патриаршего чина? Может быть, тяжелые последствия «дела Никона», приведшего к расколу церкви, имели своим основанием прежде всего личный конфликт? Решение первого собора в мае 1660 года, когда патриарху пытались приписать произнесение анафемы, принималось при участии Алексея Михайловича, собственноручно правившего текст соборного постановления. Уже тогда было принято решение: «Никона бывшаго патриарха чужда быти архиерейства и чести священства, и ничем же обладати, и на его место иного архиереа возвести». И только в конце 1662 года царь поручил довести дело с низвержением Никона из сана до конца: «сидеть о патриархове деле и выписывать из правил» духовной комиссии, рассматривавшей перед этим ответы газского митрополита Паисия Лигарида.
Спор с Лигаридом оказался одной из отправных точек на пути осуждения бывшего патриарха. Никону стали известны эти вопросы, и он составил свое обширное «Возражение» на них, где действительно много рассуждал о «священстве» и «царстве». Царя же Алексея Михайловича интересовали не аргументы Никона, а то, как он вел себя в своем добровольном изгнании, что говорил о царе и его семье. Преследование Никона сдерживалось до поры благодаря позиции церковных иерархов, стремившихся сгладить противоречия, вредившие не только Никону, но и всей церкви. Но когда стали обсуждаться вопросы, переданные газскому митрополиту через боярина Семена Лукьяновича Стрешнева и выяснилось, что Никон прекрасно осведомлен о них и даже написал пространные ответы своим оппонентам, дело вышло за пределы церковной полемики.
Давно назревавший кризис в отношениях царя и патриарха разрешился в день Петра митрополита 21 декабря 1662 года, когда стало очевидно, что Никону больше не быть патриархом. В определении о начале «дела Никона» высокопарно сказано о чувствах царя Алексея Михайловича, принявшего решение рассмотреть вины патриарха «во время всенощного бдения» в Успенском соборе: царь «при-иде во умиление о той соборной и апостольской церкве, что вдовствует без пастыря уже пятолетствующи, а пастырю убо патриарху Никону отшедшу и пребывающу в новоустроенных от него обителех, а о вдовстве ея не радящу». Царь объявил о своем решении именно в день памяти московского первосвятителя, посох которого оставался одним из главных атрибутов патриаршей власти.
Обвинители больше не щадили чувств Никона, противопоставляя его заботы по устроению Воскресенского и Иверского Валдайского монастырей интересам всей церкви. Накопились и другие вопросы церковного неустройства: «о несогласии церковного пения, и о службе божественные литоргии, и о иных церковных винах, которые учинилися при бытии ж патриаршества его, и потому действуются и доныне». Завершалось определение уже грозным обвинением, где прозвучало слово «раскол», ставшее позже нарицательным: «и от того ныне в народе многое размышление и соблазн, а в иных местех и расколы».
В отличие от прежнего, неудавшегося собора, на этот раз, судя по предварительным вопросам, касавшимся взятых патриархом Никоном «образов и всякие церковные утвари с роспискою и без росписки», а также «из домовые казны денег, и золотых и ефимков», одно из основных обвинений патриарху готовилось по «экономическим» статьям. Включая распоряжение патриаршими вотчинами, так как у Никона был большой земельный спор с Романом Боборыкиным, имевшим земли в соседстве с Воскресенским монастырем, и другими землевладельцами. Другие вопросы касались книжной «справы»: «сколько при патриархе Никоне было выходов книг печатных и каких», были они «сходны или не сходны, в чем рознь и какая», особо интересовались судьбой «старых печатных, и письменных, и харатейных книг», переводов «из греческих присыльных книг», а также рукописей, «купленных на патриарха» старцем Арсением Сухановым в Палестине{504}.
Как это всегда было с заступничеством за опальных, на царя попытались повлиять через его ближайшее окружение и членов царской семьи – царицу Марию Ильиничну и царских сестер. Сторонники примирения нашли способ передать Алексею Михайловичу полное пространных рас-суждений о прощении письмо Никона через царского духовника протопопа Благовещенского кремлевского собора Лукиана. Никон не скрывал, что ему «ведомо учинилося» о посылке «черного дьякона Мелетия грека» с письмами к вселенским патриархам «о соборе нашего ради отшествия». Однако вместо просьбы о милости, которую мог ожидать царь, патриарх переходил в наступление и по-прежнему винил во всем произошедшем царских советников: «Зри, христианнейший царю… смутивый твое благородие болий грех понесет». Созыв грядущего собора по царскому указу для осуждения патриарха «по сложенному их свитку», то есть ответам Паисия Лигарида, заранее отвергался. Никон даже сравнивал себя с гонимым Христом, Иоанном Предтечей, пророками и снова поучал царя: «яко достоит вовремя удалятися наветующих».
К себе самому патриарх применял совсем не те правила церковных соборов, нарушение которых собирались ему вменить. Он говорил об изгнании епископа «без правды» и о пребывании такого архиерея «в чюждем пределе», когда любое «досаждение» ему «мимо идет». Никон предупреждал царя Алексея Михайловича (и это могло выглядеть своеобразной угрозой), что он не станет молчать на таком соборе. Он упоминал о попытке крутицкого митрополита Питирима доказать, что Никон произносил анафему («о нас глаголют, яко словом клялся не быти патриархом, а их клятвы за руками их есть у нас»), а также о своем враге Иване Неронове, собирался обличать их. Говорил о грехах царского посланника к вселенским патриархам диакона Мелетия, «не чернца, прочее умолчу»: «А он есть злый человек, на все руки подписывается и печати подделывает». Никон «молил» царя принять свое «малое написание» и просил «вычести» его «с великим прилежанием». И тем самым «устроить твое царство мирно и безгрешно, яко да и мы богомолцы ваши поживем во всяком благоверии и тишине».
В послании царю Никон просил и о разрешении приехать в Москву для личной встречи. В последних днях декабря 1662 года он даже покинул Воскресенский монастырь и, как доложили царю, доехал до села Чернева (ныне в черте Красногорска), рассчитывая на царское разрешение. Но на царя пребывание Никона в Назарете – как стали называть Чернево, в воспоминание о родном городе Христа – не произвело должного впечатления. Более того, 27 декабря Алексей Михайлович отправил туда окольничего Осипа Ивановича Сукина и своего незаменимого дьяка Тайного приказа Дементия Башмакова. Кстати, в документах об этой поездке Никон упоминается в патриаршем сане, и обратиться к нему должны были следующим образом: «Святейший патриарх Никон…». Доверенные лица царя должны были сказать, что просьба патриарха о приезде в Москву для молитвы и о личной встрече с царем, переданная через царского духовника Лукиана, была получена, но царь запрещал Никону покидать Воскресенский монастырь до начала работы собора: «…для мирские многие молвы к Москве ехать ныне непристойно, потому что в в народе ныне молва многая о разнстве церковные службы и о печатных книгах». Алексей Михайлович снова и снова напоминал о своем главном расхождении с Никоном: «Патриарший престол оставил ты своею волею, а ни по какому изгнанию». И даже если бы патриарху Никону понадобилось «видетца» с царем «для каких самых нужных дел», он все равно должен был сначала написать царю, и тогда бы царь послал кого-то к нему или ответил сам.
Царь знал о писаниях Никона к Паисию Лигариду и жалобах, будто он «невинно с престола своего изгнан». «И о том о всем ево, великого государя, терпение от тебя многое, – велено было отвечать патриарху. – А как приспеет время собору и в то время он, великий государь, о тех о всех вещех говорити будет». Сдержанная царская обида прорвалась в завершении этого своеобразного наказа. В случае если бы патриарх Никон стал настаивать и вспоминать о своих прежних, оставленных без ответа обращениях к царю, посланники царя должны были передать ему: «Не писывано к тебе против твоево писма потому, что писать не довелось». Оказывается, Алексей Михайлович, тщательно следивший за тайной своей переписки, не мог простить Никону обсуждения царских писем в разговорах с другими людьми: «…как ты был на патриаршестве, и о чом от великого государя к тебе писывано, и ты после отшествия своего с патриаршеского престола про те ево государевы писма говаривал в разговорех со многими».
Вмешательство в это противостояние других лиц только повредило Никону. Когда речь заходила об интересах семьи, царь становился неумолим и даже жесток. В документах Тайного приказа, где хранится все обширное «дело Никона», остались документы о расспросе царского духовника протопопа Лукиана и строителя Воскресенского монастыря монаха Аарона, передававшего через него письма царице и одной из царских сестер. Возможно, речь шла о царевне Ирине Михайловне, у которой в палатах висела парсуна с изображением опального патриарха, или царевне Татьяне Михайловне, довершившей начатое Никоном строительство в Воскресенском монастыре. Царь Алексей Михайлович собственноручно правил ответы протопопа Лукиана и вписал туда свой ответ, где гнев на Никона слышен еще более отчетливо. Он повторил, что патриарху Никону встречаться с царем в Москве до приезда вселенских патриархов «не пригоже, да и не для чево». Сначала царь написал: «Господь восхощет увижуся», а потом поправил: «увидимся», чтобы не обнадеживать Никона возможностью их личной встречи. Потребовал царь объяснений и о целях приезда строителя Аарона в Москву и письмах, переданных патриархом сестре. В документе приводятся слова оскорбленного царя: «…что от тех де ездов стала меж нами великая смута»{505}.
Стоило только узнать о переменах в настроении царя, «опалившегося» на Никона, чтобы и все остальные бросились предъявлять свои явные и неявные обиды от Никона в стремлении заслужить царскую похвалу. Первыми в дело были вовлечены те, на кого Никон наложил церковное «проклятие»: например, боярин Семен Лукьянович Стрешнев, который обучил своего пса сидеть и движением лап подражать патриаршему благословению. Вспомнил о своих душевных ранах крутицкий митрополит Питирим, подавший большую челобитную царю, в которой книжным письмом добросовестно излагались все вины Никона. Питирим жаловался царю на то, что Никон «проклял» его, когда узнал, что тот присвоил себе право вместо патриарха участвовать в обряде шествия на осляти в Вербное воскресенье.
Возобновились и спорные дела с соседями-землевладельцами около Воскресенского монастыря. Иван Константинов сын Сытин жаловался, что патриарший служитель побил его людей, и требовал суда над ним. Это так было похоже на начало конфликта царя и патриарха (конечно, в миниатюре), что могло быть дополнительным укором Никону. Страсти там разыгрывались нешуточные, Иван Сытин грозился даже убить патриарха. Никон же в своем послании царю Алексею Михайловичу не стал тратить бумагу на изложение челобитной Сытина о якобы подвергшихся пытке или даже повешенных по его приказу людях («мне о том писать, бумага лише терять»). Он клялся на Евангелии, что ничего не знал об этом деле, и уговаривал царя не верить наветам. Завершалось письмо ссылкой на собственную скудость («зане не имею бумаги») и многозначительной фразой, специально дописанной Никоном: «судия неправедной имяши сам быти судим праведно»{506}.
Другое дело патриарха, с Романом Боборыкиным, было использовано, чтобы еще больше отдалить Никона от царя Алексея Михайловича. Никон был обвинен в произнесении проклятий на царя и царскую семью. Зная гневливый характер патриарха, можно было поверить и в такое. Поэтому 17 июля 1663 года состоялся указ об отправке в Воскресенский монастырь целой смешанной духовно-светской комиссии во главе с газским митрополитом Паисием Лигаридом, астраханским епископом Иосифом и архимандритом Богоявленского монастыря «с Заторгу» Феодосием. Запись об этой посылке «для духовных дел» попала даже в разрядные книги, так как вместе с духовными лицами там еще присутствовали боярин князь Никита Иванович Одоевский, окольничий Родион Матвеевич Стрешнев и думный дьяк Алмаз Иванов. Присутствовал при этом разговоре дьяк Тайного приказа Дементий Башмаков – «глаза и уши» царя. Комиссия должна была расследовать дела, а для подкрепления ей придали отряд стрельцов.
Патриарх Никон отрицал все обвинения: «непристойных слов» или «клятв» на царя не говорил, и «мысли де его на то не бывало». Он не упустил случая высказать в лицо Лигариду разные ругательства, понимая его роль как одного из главных духовных обвинителей, чьи толкования принимались царем Алексеем Михайловичем из-за авторитета иерарха, признанного Иерусалимским патриархатом. Комиссия уехала, а стрельцы во главе с Василием Философовым остались «для береженья». Полагают, что именно с этого времени Воскресенский монастырь стал для Никона «первым местом заточения», но это не совсем так. Никон говорил, что и сам рад этому «береженью». Скорее можно говорить о домашнем, или, точнее, «монастырском» аресте{507}.
Боборыкинское дело было использовано как удобный повод для ограничения контактов Никона со своими сторонниками, устранения опасности его самостоятельных поездок из монастыря. У готовивших обвинение Никона архиереев все складывалось не так хорошо, как они задумывали; собор, планировавшийся на май – июнь 1663 года, собраться не смог. Вселенские патриархи, несмотря на привезенные диаконом Мелетием щедрые подарки, уклонились от поездки в Москву. Константинопольский патриарх Дионисий как верховный арбитр в делах церкви склонен был больше к примирению царя и патриарха. Полная зависимость от турецкого султана заставляла его постоянно помнить, чем грозят конфликты с носителями верховной власти. Рассчитывали на иерусалимского патриарха Нектария, но и он был сторонником мирного завершения размолвки царя и патриарха в делах Московской церкви. Оставались александрийский патриарх Паисий и хорошо знакомый в Москве антиохийский патриарх Макарий. Именно они в итоге и приедут на церковный собор, но произойдет это позже, спустя три года.
Диакон Мелетий сделал все, чтобы исполнить данный ему наказ и привести грамоты других вселенских патриархов, датированные мартом 1663 года. Однако сторонники Никона были не только в Константинополе (где с диаконом Мелетием даже хотели тайно расправиться), но и в землях бунтовавшей Малой России, где боролись за власть претенденты на гетманскую булаву. Грамоты патриархов были отобраны у Мелетия «черкасами» на обратном пути в Москву. Никон мог торжествовать: время затягивалось, суд вселенских патриархов откладывался. К вмешавшимся в дела Русской церкви греческим иерархам – газскому митрополиту Паисию Лигариду и иконийскому митрополиту Иосифу, свидетельствовавшему подлинность документов, привезенных от вселенских патриархов, он относился презрительно, указывая, что они сами оставили свои епархии и лучше бы им управляться у себя дома, а не судить вселенского патриарха в Москве. Тем более что скоро открылось самозванство иконийского митрополита, присвоившего себе право представлять константинопольского патриарха, племянником которого он назвался. С такими «обвинителями» патриарх Никон легко бы справился на соборе.
Вынужденная задержка с созывом собора создавала у Никона иллюзию временного характера царской опалы. Любое сказанное царем благосклонное слово или удовлетворенная им челобитная по делам продолжавшегося строительства в Воскресенском монастыре давали надежду на возвращение прежнего согласия. При царском дворе оставались сторонники примирения царя и патриарха. Одним из них был боярин Никита Иванович Зюзин, он и «позвал» патриарха в Москву в декабре 1664 года. Никон решил вернуть себе патриарший трон так же неожиданно, как и оставил его. «Иногда кажется, что для примирения ему не хватило одного шага, – справедливо писал о метаниях патриарха Никона И. Л. Андреев. – Шага в виде покаяния и компромисса. Но в том-то и дело, что Никон жаждал иного примирения. А потому этот шаг всегда у него получался как падение в пропасть: шаг – вызов, а не покаяние»{508}. Во время всенощного бдения 18 декабря он неожиданно приехал в Москву и вошел в Успенский собор, где шла служба. Впереди патриарха несли крест, а сам он немедленно встал на патриаршем месте. Старцы, бывшие с патриархом, запели «исполлаити деспота» и «достойно есть», приветствуя первоначальника в храме. Местоблюститель патриаршего престола – митрополит Ростовский и Ярославский Иона – подошел под благословение Никона, тем самым признав его патриаршую власть.
Никон начал распоряжаться по-прежнему, отправив митрополита Иону и ключаря Успенского собора Иова известить о своем приходе царя. На что надеялся патриарх Никон, станет известно во время начатого позднее следствия по делу боярина Никиты Зюзина. Никон объявил, что вернулся в Москву для встречи с царем. Расчет был на привезенное им с собой письмо Алексею Михайловичу, где объяснялись причины его возвращения в Москву. Но царь не захотел встречаться с Никоном, хотя был в это время в Кремле и молился в дворцовой церкви Евдокии «на сенях». Он немедленно послал за теми, кому уже было поручено «дело Никона» и кто давно был посвящен в детали его противостояния с патриархом. Это были митрополит Сарский и Подонский Павел, всё тот же газский митрополит Паисий Лигарид, сербский митрополит Феодосий и «комнатные бояре» – те самые люди, кто ездил в Воскресенский монастырь к Никону: князь Никита Иванович Одоевский, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, окольничий Родион Матвеевич Стрешнев и думный дьяк Алмаз Иванов. У них была прежняя задача: не допустить личной встречи Алексея Михайловича и Никона. Они снова говорили о самовольном оставлении Никоном патриаршего престола и обещании, «что ему впредь в патриархах не быть». Патриарх «съехал жить в монастырь» по своей воле и об этом известили вселенских патриархов. Поэтому главный вопрос, интересовавший присланных духовных лиц и «комнатных бояр», касался объяснения причин самовольного приезда в Москву: «и в соборную церковь вшел без ведома ево великого государя и без совету всего освященного собора».
В ответе «митрополиту и боярам» Никон не отпирался, «что он сшел со престола никем не гоним», и говорил о своем возвращении: «А ныне он пришол на свой престол никем зовом, для того, чтоб де великий государь кровь утолил и мир учинил, а от суда де он вселенских патриархов не бегает». Постепенно открывался и весь замысел Никона: он хотел представить возвращение «на свой престол по явлению» и заранее приготовил письмо для передачи царю. Вокруг этого письма сразу начались споры, посланники царя отказались его брать без царского разрешения. Согласно материалам дела, царь Алексей Михайлович распорядился «принять» письмо, но Никон продолжал настаивать на получении немедленного ответа, соглашаясь на возвращение в монастырь только после получения «отповеди» царя.
«Сказание смиренного Никона Божиею милостию патриарха, какою виною из Воскресенского монастыря возвратися на свой стол в царствующий град Москву» сохранилось. Оно позволяет понять, на что надеялся Никон. Он рассказывал царю Алексею Михайловичу о своем духовном посте и уединении с 14 ноября и особенно сильных молитвах без воды и питья и даже без сна в последние четыре ночи и три дня. Тогда-то, по словам Никона, ему в забытьи явился «святолепный муж» с «хартией и киноварницей» в окружении прежних святителей и митрополитов, и все они подписывали грамоту. Никон спросил старца «во священных святительских одеждах» о ее содержании и услышал ответ: «о твоем пришествии на престол святый» (Никон узнал в нем одного из святителей московских митрополита Иону). Подойдя к святительскому месту, Никон увидел там еще и другого московского чудотворца, митрополита Петра, также благословившего его на возвращение. Но даже такой рассказ не тронул царя Алексея Михайловича, не услышавшего искреннего раскаяния Никона.
Если бы каким-то чудом произошла личная встреча царя и патриарха, Никон еще мог бы надеяться на понимание или прощение. Но Алексей Михайлович судил его уже не один, а общим судом с советниками. Вместе со «Сказанием» о явлении патриарх подал еще челобитную с благословением царя, царицы, царевичей и царевен. В ней тоже были богословские рассуждения, смысл которых сводился к убеждению царя принять Никона, который «посетив братию нашу по всех градох» и «приидохом же в кротости и смирении».
«Смирным» патриарх мог быть только на словах. Его действия говорили об обратном. Как только ему был передан царский указ о немедленном возвращении в Воскресенский монастырь, Никон совершил еще один отчаянный поступок. Он забрал с собою когда-то оставленную им главную патриаршую инсигнию – посох митрополита Петра, стоявший на «патриарше месте». В ответ на просьбу бояр (церковные власти в этом споре уже не участвовали) оставить посох «в соборной церкви по прежнему» патриарх ответил: «Отнимите де у меня ево сильно, и с Москвы поехал за час до света»{509}. Это была временная победа Никона и его уязвленной гордыни, ибо рассказу его о явлении чудотворца Петра не поверили.
Патрик Гордон написал о том, что, уезжая из Успенского собора, патриарх в сердцах бросил наземь свои письма{510}. Как видим, история оказалась громкой и скрыть приезд патриарха Никона в Москву не удалось. Гордону были известны и какие-то скрытые детали дела или же он передал слухи о брошенной грамоте и бранных словах патриарха. Следом за Никоном действительно послали окольничего князя Дмитрия Алексеевича Долгорукого и полковника и голову стрельцов Артамона Матвеева, провожавших патриарха «за Земляной город». Именно Матвеев должен был исправить дело и заставить Никона вернуть посох. От своего друга царь узнал и о неосторожно оброненных словах Никона, что он якобы приезжал в Москву «по вести».
Посланцы царя Алексея Михайловича не оставили эти слова без внимания. Открылось дело, в ходе которого выяснилось, что боярин Никита Иванович Зюзин не только продолжал переписку с опальным патриархом, но и передавал ему содержание своих разговоров с царскими приближенными – Афанасием Лаврентьевичем Ординым-Нащокиным и тем же Артамоном Матвеевым. По словам Никиты Зюзина получалось, что именно они рассказали, как тяжело переживает царь, готовый простить патриарха Никона, если тот сам об этом попросит. Становится понятна уверенность Никона, самостоятельно, в нарушение царского распоряжения, покинувшего Воскресенский монастырь. Царь Алексей Михайлович якобы в разговорах с Ординым-Нащокиным и Матвеевым говорил, что не верит наветам на Никона его противников, и приводил в пример приезд к нему в Хорошево чернеца Григория Неронова с жалобами на патриарха, оставшимися без всякого рассмотрения.
Все дело было в характере патриарха Никона, рассорившегося с «духовенством и синклитом». Даже царь опасался, как бы ему самому не попасть в сложное положение в случае приезда Никона в Москву.
Стремясь превратить этот приезд чуть ли не в заговор с боярином Зюзиным, составители дела попутно «метили» в Ордина-Нащокина, вбивая клин в его взаимоотношения с царем. Вся интрига и обилие правдоподобных деталей, включенных в текст зюзинского письма, причем таких, которые могли быть известны только близкому к царю человеку, выдают автора. В письме боярина ярко передана мысль о сопутствии молитвы патриарха Никона успешным делам царя Алексея Михайловича и о желании такого же продолжения: «…душевно зачали… ратное дело и всякие свои царственные и духовные дела вкупе с ним». Так могли сказать немногие из тех, кто видел, как не хватает царю патриаршей молитвы. Но еще интереснее объяснение того, почему Никона звали в Москву именно 18 декабря, в воскресенье (упоминая при этом о приближавшейся памяти московского митрополита Петра). Царь Алексей Михайлович якобы говорил: «А се де мне к тому числу надобно с ним утвердить о отпуске посолском ево Афанасьеве, что посол последней с поляки на чем поставить и пособоровать о том со всеми чины и пост заповедовать всем».
Эти слова позволяют предложить другую версию приезда патриарха Никона в Москву, связав его внезапное появление в столице еще и со сложной придворной борьбой и интригой думного дьяка и главы Посольского приказа Алмаза Иванова. В царском окружении любой ценой стремились не допустить созыва Земского собора для обсуждения условий мира с Речью Посполитой. Предложение царю Алексею Михайловичу о созыве собора шло от упоминавшегося в зюзинском письме Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина. Боярин Никита Зюзин подтвердил на следствии, что письмо написано «его рукой», не скрывал он его содержания и от духовного отца – справщика Печатного двора Александра, помогавшего переправить письмо патриарху в Воскресенский монастырь: «…а сказал, что в том письме писано о прощенье, и велено ево звать к Москве, чтоб патриарх ехал к Москве перед Рожеством Христовым для миру с польским королем (выделено мной. – В. К.) и для иных государственных дел».
Сам Ордин-Нащокин, давно использовавший тайнопись в личных грамотках и записках царю, прекрасно знал ревнивое отношение Алексея Михайловича к разглашению содержания обсуждавшихся государственных вопросов. Он не отрицал своего общения с «опальным» Зюзиным, но боярин ничего определенного не мог вспомнить из этих разговоров, кроме слов: «добры де, чтоб к посылке ево посольства был и патриарх; а болши того ничего не говаривал». Показания Зюзина про разговоры с Артамоном Матвеевым вообще отсутствуют, и это, скорее всего, не случайно. Если Афанасий Ордин-Нащокин не обсуждал подробно приезд патриарха Никона, то это мог сделать только еще один человек, названный в деле и также входивший в царское окружение.
Одна деталь хорошо подтверждает высказанную версию. Из расспросных речей стрельцов про внезапный приезд патриарха выясняется, что городские ворота в ту ночь охранял приказ Артамона Матвеева. Никону объясняли, что, приехав в Москву ночью к Тверским воротам, он должен был назваться архимандритом Звенигородского монастыря. Именно полковник и стрелецкий голова Матвеев мог распорядиться о пропуске «звенигородских властей» (на самом деле патриарх Никон въехал сначала в Никитские ворота, но это не отменяет того факта, что ждали его в Москве именно тогда, когда могли обеспечить беспрепятственный проезд в Кремль). И еще одно важное обстоятельство для понимания скрытой борьбы при дворе царя Алексея Михайловича. Как уже упоминалось, Артамон Матвеев – пасынок главы Посольского приказа думного дьяка Алмаза Иванова, многократно сталкивавшегося, вплоть до личных ссор, с Ординым-Нащокиным и входившего в круг думцев, любыми средствами не желавших допустить примирения царя и патриарха.