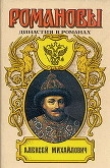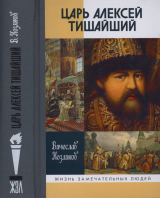
Текст книги "Царь Алексей Тишайший"
Автор книги: Вячеслав Козляков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 46 страниц)
Прямым следствием принятия под царскую «высокую руку» Войска Запорожского стали изменения в титуле царя Алексея Михайловича. С тех пор его следовало называть «царем всея Великия и Малыя Росии». Сохранившиеся обращения гетмана Богдана Хмельницкого к царю Алексею Михайловичу используют такой титул во всех документах, следующих за Переяславской радой (и даже на ней самой в речи гетмана говорилось о Великой и Малой России). Грамоты с новым царским титулом стали выдаваться из Посольского приказа уже 7 февраля, когда воевод и владетелей Мутьянской и Волошской земли – Матвея и Стефана – известили о произошедших изменениях после присяги Войска Запорожского. Начиная с пожалования гетмана Хмельницкого в жалованной грамоте 27 марта 1654 года в Посольском приказе началась работа по «узаконению» нового титула и в других государствах{247}. В донесении шведской королеве Христине 16 апреля 1654 года де Родес описал, как его вызвал глава Посольского приказа думный дьяк Алмаз Иванов и «начал мне излагать, каким образом его царское величество расширил свой титул посредством присоединения земель, и пожелал, чтобы я сообщил об этом вашему королевскому величеству и также сам впредь сообразовался с этим, но на это я ничего не сумел ответить». Де Родес попросил записать этот новый титул на бумаге. Тогда, сравнив его с прежней царской титулатурой (приведенной в «Историческом описании» Петра Петрея, шведского резидента, жившего в России во времена Смуты начала XVII века), де Родес увидел, что в нем появилось «много нового», в том числе слова, перешедшие из титула Ивана Грозного (например, слово «наследник»), но главным новшеством было именование царя Алексея Михайловича «всея Великия и Малыя Руси самодержцем». Де Родесу объясняли, что «под этим подразумеваются Киевская и Черниговская области»{248}. Полностью эти слова из титула, ставшие позднее камнем преткновения в дипломатических контактах двух стран, выглядели следующим образом: «…и многим иным государствам и землям, восточным и западным и северным отчич и дедич и наследник и государь и обладатель»{249}. Тогда же де Родес заметил приготовления к отправке посланников к цесарю в Вену и в другие страны. И он не ошибся, так как посланник Иван Иванович Баклановский был отправлен к императору Фердинанду III 17 мая 1654 года. В грамоте в Вену также был приведен новый царский титул, включавший слова: «…всея Великия и Малыя Росии самодержец»{250}.
В это время русское войско уже двинулось к границе с Речью Посполитой. Царь Алексей Михайлович, отправляясь в поход, оставил в Москве семью – царицу Марию Ильиничну, царевну Евдокию Алексеевну и родившегося совсем недавно, 5 февраля 1654 года, наследника Московского царства – царевича Алексея Алексеевича.
Война «за государеву честь» началась.
«НА БОЖЬЕЙ СЛУЖБЕ»
Смоленский походЦарь Алексей Михайлович хорошо подготовился к походу на «недруга» – короля Яна Казимира, выбрав направление главного удара – Смоленск. Иногда события 1654 года даже называют Смоленским походом, подчеркивая исторический реванш за главное поражение Смутного времени – потерю Смоленска. Но успех этой кампании зависел от одновременного начала военных действий как в Великом княжестве Литовском – в «Литве», так и в Польском королевстве – «Короне». Царские войска также угрожали Ливонии, возобновив борьбу за выход к Балтийскому морю, что поставило в повестку дня столкновение с Шведским королевством. К такой обширной войне надо было готовиться долго. Она не исчерпывалась мщением «недругу» или возвращением утраченных в Смуту земель. Замах царя и его советников был вселенским – поход был «крестовым» – в защиту Православия. Не случайно царь Алексей Михайлович в переписке с семьей во время начавшейся войны писал о себе почти в каждом письме по дороге в Смоленск, что он находится «на Божьей службе»{251}.
Тогда и началось «чудо на Днепре», потом повторившееся на Березине и Двине. Внезапно при европейских дворах снова услышали о «Московите», о котором стали понемногу забывать после Смуты начала XVII века. С Московским государством могли не считаться в новой международной системе, установленной в 1648 году по окончании Тридцатилетней войны. Даже не царь, а всего лишь «московский великий князь» был только упомянут в тексте Вестфальского мирного договора как шведский союзник{252}. Победители шведы воспользовались в годы европейской войны конъюнктурой хлебного рынка, насыщавшегося из России{253}. Теперь же условия войны и мира стал диктовать сам царь Алексей Михайлович, сделавший все, чтобы никто не помешал его походу на Смоленск и дальнейшим действиям в землях Великого княжества Литовского и Польской Короны. Война с Московским царством, в которую мало верили в Речи Посполитой, стала почти катастрофой и положила начало ее упадку. В Польше и Литве увидели у стен своих городов двух главных врагов – русского царя и шведского короля. Шведы тоже решили завершить долгую войну за Ливонию и устранить исторический анахронизм претензий польских королей на шведское наследство. В 1655 году началось время знаменитого «Потопа»{254}, с которым утечет былая польская слава и мощь и возникнет новая европейская держава – Российское царство, оспаривавшая право на древнерусские земли в Литве и Короне, а также балтийское преимущество шведов (дело, которое довершит сын царя Алексея Михайловича Петр I). Но не только о войне с «недругом» из враждебного соседнего государства или о выходе к торговым путям на Балтике шла речь; взгляды царя Алексея Михайловича, как и главного вдохновителя православного «крестового похода» – патриарха Никона, приковывал еще и христианский Восток со святынями Константинополя и Иерусалима.
В фонде Тайного приказа сохранилось объемное дело с собранными воедино документами царских походов на Смоленск, Вильно и Ригу в 1654–1656 годах. В нем подробно раскрываются процесс распределения полков, личное участие царя в назначениях служилых людей в самом начале русско-польской кампании. Сказывались проведенные ранее государевы смотры; царь знал по именам своих генералов и офицеров – точнее, воевод, «полковников», голов, ибо привычные воинские звания тогда еще не существовали в русской армии. Алексей Михайлович расставлял начальных людей, определял, сколько рейтар, драгун, солдат и стрелецких голов направить в свой «государев» полк, «в княз Яковлев» – князя Якова Куденетовича Черкасского, кому быть «у Трубецкова» – князя Алексея Никитича Трубецкого, заботился о том, чтобы в Москве тоже осталось достаточное количество людей для охраны. Всего им было распределено 46 800 человек. Общая численность собранной в 1654 году царской армии была еще больше, хотя приведенные цифры мало соотносятся с распространившимися в Речи Посполитой сведениями, где считали, что армия царя Алексея Михайловича насчитывала свыше 200 тысяч человек. Позднее, в Смоленске, основываясь на сведениях пленных, считали, что с царем пришло три «верона», то есть трижды по 100 тысяч человек. Однако даже в мирное время, по смете военных сил 1651 года, численность ратных людей Русского государства насчитывала в целом около 100 тысяч человек (без учета тех, кто служил в отдаленных городах Приказа Казанского дворца и в Сибири){255}.
Сбор армии начался практически сразу после решения Земского собора 1 октября 1653 года о начале войны. Спустя уже несколько дней в Великий Новгород «сбираться с ратными людьми» были направлены воеводы и члены царской Думы – боярин Василий Петрович Шереметев, окольничий Семен Лукьянович Стрешнев, думный дворянин и ясельничий Ждан Васильевич Кондырев. По «наряду» из Разрядного приказа численность вспомогательных сил на северо-западе определялась в 13 146 человек{256}. Второму воеводе поручили сбор войска в Пскове. Полкам на северо-западе был определен срок 20 мая, когда воеводы должны были выйти «на рубеж» (к границе) и «со всеми ратными людми идти под город под Невль и под иные литовские города, и государевым делом над городами и над полскими и литовскими людми промышлять, сколко милосердый Бог помощи подаст».
Царь Алексей Михайлович сам отпускал воевод после молебна в Успенском соборе 5 октября. Происходило это почти одновременно с отправкой другого боярина, Василия Васильевича Бутурлина, принимать казаков Богдана Хмельницкого «под государеву высокую руку». В назначенный день с разных сторон они должны были пойти походом на Речь Посполитую. Полки боярина Шереметева стали крайним правым флангом армии, получившей задачу отвлечь войска противника от главного смоленского направления, где должен был наступать сам царь Алексей Михайлович. К тому же Невель входил в титул гетмана Великого княжества Литовского Януша Радзивилла и был в его личном подчинении. Наступление на этот город должно было стать чувствительным ударом для одного из главных военачальников «Литвы».
Сбор войска в Вязьме начался уже зимой, с отсылки артиллерии, порученной боярину Федору Борисовичу Долматову-Карпову. 27 февраля 1654 года царь Алексей Михайлович лично «отпускал из-за Москвы-реки с Болота наряд, которому наряду быть в его государевом походе»{257}. 15 марта на Девичьем поле был устроен царский смотр расквартированных в столице солдатских и рейтарских полков – тот самый, на который пригласили посланников Войска. Поместная конница из уездных дворян и детей боярских также должна была заранее выступить из Москвы в Брянск в составе «особого большого полка» под командованием воеводы боярина князя Алексея Никитича Трубецкого. Эта часть армии действовала на левом фланге армии. Проводы полка князя Трубецкого из Москвы в конце апреля 1654 года проходили уже открыто, как демонстрация силы русской армии.
Царь особенно подробно вникал в детали церемониала выхода войска в Смоленский поход и лично участвовал в отправлении войска, сбор которого был назначен по старой традиции на 23 апреля – день Георгия Победоносца. Церемониал торжественных проводов полка боярина князя Алексея Никитича Трубецкого был продуман самим Алексеем Михайловичем (его собственноручные записи хранятся в архиве Приказа Тайных дел). Царь и патриарх молились в Успенском соборе вместе с воеводами и служилыми людьми. Наказ, выданный воеводе князю Трубецкому, был на время положен в киот главной русской святыни – иконы Владимирской Божьей Матери. Все показывало грандиозный и небывалый характер происходящего, соответствуя великой цели похода. Царь Алексей Михайлович обратился к князю Трубецкому с увещеванием о сохранении христианских заповедей. Он говорил о правом суде и благочестивом поведении, но при этом «заповедовал» быть беспощадным – «а врагов Божиих и наших не щадите».
Царь стремился придать смысл каждому жесту, тщательно оттачивал произнесенные слова и продумывал всё до мелочей, заботясь о соблюдении торжественности момента. Например, когда он приветствовал князя Трубецкого, то даже прижал к груди его голову («принял к переем своим главу его») – «для его чести и старейшинства». Объясняя честь, оказанную князю Трубецкому, составители церемониала говорили так: «…зане многими сединами украшен и зело муж благоговейн и изящен и мудр в божественном писании и предивен в воинской одежди и в воинстве счастлив». Но царь следил и за соблюдением чувства меры, он отредактировал в тексте церемониала слова о том, что князь Трубецкой в ответ «паки главою на землю ударяетца со слезами до тридесят крат пред царем и великим князем», заменив их на обычные земные поклоны.
Алексей Михайлович сам передал списки служилых людей полковым воеводам. Кроме князя Трубецкого, это были воеводы бояре князь Григорий Семенович Куракин, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, окольничий князь Семен Романович Пожарский и дворянин Семен Артемьев сын Измайлов (для последнего начавшаяся война имела свою личную историю, если вспомнить его отца, окольничего Артемия Измайлова, казненного за неудачу под Смоленском в 1634 году). Царь положил на свитки «свою царскую руку» и торжественно произнес: «Передаю вам списки сия полчаном вашим… храните их, яко зеницу ока, и любите, и берегите по их отечеству». Рядовые дворяне, выступавшие в поход, тоже не были забыты царем в этот день: их представителей – ярославских дворян и детей боярских, успевших приехать в Москву к назначенному сроку, – также пригласили к государеву «столу».
Все воеводы и служилые люди выразили готовность поддержать царя в его решении идти на войну с «недругом» и отомстить бесчестье (царь Алексей Михайлович настойчиво дописывал в черновике церемониала, что начинает борьбу «за православную веру»). Апофеоз наступил, когда присутствовавшие на приеме у царя дворяне «единодушно, единосердечно, единогласно» должны были ответить на его речи с «радостными слезами» и кланяться до семи раз, заверяя царя в своей готовности к смерти в грядущей войне. После этого царь должен был тоже прослезиться и, «утерпевая от слез» (поправлено: «мало утерпевая»), «едва проглаголать» к ним «милостиво» о своей благодарности и будущем жалованье. Всех, включая уездных дворян, звали к царской руке. У окна «на перекладе» был поставлен царский стул, куда было дозволено подойти каждому служилому человеку и поцеловать царскую руку. Когда царь уже должен был идти в свои хоромы, он решил, что последний раз обратится к боярам и воеводам, полуобернувшись к ним (вместо слова «огляняся» царем было поправлено: «мало обратяся»). «Поедьте, да послужите, – говорил им царь Алексей Михайлович. – Господь Бог с вами…»{258}
Как бы ни был воодушевлен царь, он должен был считаться и с земными обстоятельствами. Сложнее всего в таких случаях было не обидеть бояр, охранявших местническую честь своих родов при распределении воеводских должностей в полках. Было принято решение запретить счеты о местах на время войны, но природу служилых людей нельзя было переломить. Несмотря на строгий запрет, местнические счеты всё равно возникали и мешали действиям войск. Открывали перечень имен царедворцев, выступивших в поход, юный грузинский царевич Ираклий (в русских источниках Николай Давыдович) и крещеные сибирские царевичи Петр Алексеевич и Алексей Алексеевич. Но их роль была чисто церемониальной. Царь Алексей Михайлович назначил своих самых приближенных людей быть вместе с ним, чтобы всегда иметь рядом с собой ближнюю Думу и пользоваться ее советами. Первыми советниками в царском окружении оставались бояре Борис Иванович Морозов и царский тесть Илья Данилович Милославский, получившие чин «дворовых воевод» в Государевом полку. Дальше, по царскому распределению, следовали бояре, бывшие с «царем и великим князем»: Никита Иванович Романов и Глеб Иванович Морозов. Назначения главными воеводами полков получили: большого полка – бояре князь Яков Куденетович Черкасский, князь Семен Васильевич Прозоровский, окольничий князь Андрей Федорович Литвинов-Мосальский, передового – бояре князь Никита Иванович Одоевский, князь Федор Юрьевич Хворостинин, окольничий князь Дмитрий Петрович Львов, сторожевого – бояре князь Михаил Михайлович Темкин-Ростовский, Василий Иванович Стрешнев, окольничий Иван Васильевич Алферьев, ертаульного – стольники Петр Васильевич Шереметев, князь Тимофей Иванович Щербатов, «у наряду» (артиллерии) – боярин Федор Борисович Долматов-Карпов и князь Петр Иванович Щетинин. В условиях войны названия полков не имели того же смысла, что в обычное время сбора Украинного разряда для охраны границ. Но они помогали выстроить иерархию полков для дальнейших действий уже на территории противника – в «Литве», как обобщенно говорили о Речи Посполитой.
Полк князя Алексея Никитича Трубецкого выступил из Москвы 26 апреля, пройдя строем через Кремль, где царь и патриарх кропили их святой водой. 9 мая войска должны были уже «стать» в Брянске, чтобы дальше идти походом на Рославль. 10 мая царь Алексей Михайлович проводил очередной смотр на Девичьем поле, где «смотрел по сотням столников, и стряпчих, и дворян, и жильцов, и городовых, и всяких ратных людей, которым быть в его государевом походе». 15 мая с почетом отправили в Вязьму привезенную в 1648 году с Афона святыню – список Иверской иконы Божьей Матери. 15–16 мая, после молебна в Успенском соборе, в поход выступили передовой, ертаульный, большой и сторожевой полки со своими воеводами. Они шли «под переходы», которыми соединялись царский дворец и Чудов монастырь, где наверху снова стояли царь Алексей Михайлович и патриарх Никон со святой водой. Выступление Государева полка во главе с самим царем Алексеем Михайловичем было назначено на 18 мая 1654 года.
Царская работа по сбору и распределению полков нашла отражение в особом разряде: «162 году поход великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца, на недруга своего, на полскаго и литовскаго короля Яна Казимера, за его многие неправды и крестопреступленье». 18 мая войска собрались сначала на Девичьем поле, потом проследовали в Кремль, «чиновные» люди собирались в поход у церкви Антипия рядом с Конюшенным двором в Чертолье (будущей Волхонке). В Кремле повторилась церемония прохождения войска через дворцовую площадь, как и при отправке полка князя Алексея Никитича Трубецкого. По описанию в дворцовых разрядах, для торжественного выхода царя из Москвы были сделаны специальные ворота, «по обе стороны ворот сделаны были рундуки болшие, ступенми и обиты сукны красными, а на рундуках по обе стороны ворот стояли и его государя и ратных людей святою водою кропили власти»{259}. Царь Алексей Михайлович опять продумал каждую деталь церемониала. Он указывал, кто где должен был стоять, какие слова и речи говорить, редактировал содержание своих ответов, заботясь о том, чтобы всем запомнился высокий смысл борьбы за православную веру.
Самое подробное описание грандиозного выхода царских войск из Москвы оставил швед Иоганн де Родес. Он описал специально устроенное возвышение – «галерею», выстроенную от патриаршего дворца до Вознесенского монастыря в Кремле, откуда царь благословлял войско, а патриарх Никон кропил его святой водой. Шведский резидент еще при отправке полка князя Алексея Никитича Трубецкого обратил внимание на главное, развевавшееся на ветру белое знамя царского войска; с одной стороны на нем было изображение Спасителя, с другой – Богоматери. По его словам, народ приписывал особое значение этому знамени, веря в него как в чудо и связывая с ним надежду на будущую победу.
В день царского выезда на марше были воеводы драгунских и рейтарских полков – наемники из Голландии, Франции, Англии и Польши. Не случайно царь сам распределял полки нового строя и устраивал их смотры в Москве: им отводилась роль главной ударной силы, действовавшей под прямым началом царя в Государевом полку. Туда же царь включил и любимых стрельцов. Своей «стройностью» и блестящими одеждами выделялся стрелецкий голова Артамон Матвеев. Именно он олицетворял собой силу и мощь нового поколения, выходившего на историческую сцену вместе с царем Алексеем Михайловичем. Внимание де Родеса привлекло шествие пасынка дьяка Алмаза Иванова с тремя тысячами пеших стрельцов. «Сам он был великолепно одет, – говорил шведский резидент об Артамоне Матвееве, – имел блестящее русское вооружение и поверх него вышитый золотом длинный кафтан, перед ним вели 10 штук прекрасных заводных лошадей, все под дорогими турецкими или персидскими, вышитыми золотом, чепраками, за ними пара военных литавр, 4 трубача и 4 маленьких свирельщика; стрельцы были вооружены пиками, фитильными мушкетами и все они были отлично одеты в хорошие материи и маршировали в достаточном порядке». Все войско шествовало под невообразимый гул из монотонных ударов больших барабанов – тулумбасов, им вторили барабаны поменьше, трубачи и свирельщики добавляли свои ноты в торжественную музыку начавшегося похода. Провели 60 роскошных царских лошадей и кареты, за ними следовали лошади, на которых были попоны с датскими гербами, что напоминало о дружеском отношении царя Алексея Михайловича к бывшему жениху царевны Ирины Михайловны датскому принцу Вальдемару. Наконец появились знамена Государева полка…
Конечно, все хотели увидеть выезд на войну самого царя. И он явился, верхом на коне, в сопровождении двадцати одного алебардщика, несущих два боевых меча, в великолепных парадных одеждах – в «коротком вышитом золотом кафтане, раскрытом спереди на груди, чтобы можно было видеть панцырь» – вооруженные доспехи. Сверху на царе был еще «длинный висящий со всех сторон и застегнутый лишь с одной стороны вышитый золотом плащ» с запонами, украшенными «чудесными богатыми камнями и жемчугами». На голове у царя был шлем-шишак «старинного образца, заостренный сверху, на нем укреплена золотая держава, а спереди на шишаке – крест, усаженный драгоценными камнями, один из которых ценят во много тысяч». Перед царем шел грузинский царевич Николай Давыдович, за ним бояре Борис Иванович Морозов и Илья Данилович Милославский.
Выехав из Кремлевских ворот, царь Алексей Михайлович принял депутацию жителей города у Москвы-реки и обратился с речью к собравшемуся вокруг народу. Он еще раз сказал о главной цели своего похода: «он желает защищать их как единственных истинных христиан». Донесение де Родеса свидетельствовало о первом триумфе отправлявшегося в поход войска. Он заметил, что в Московском государстве после Смоленской войны «молодежь подросла, как в диком лесу», и к тому же она прекрасно обучена иностранными офицерами. «Война откроет им глаза, – писал де Родес, – …через нее они узнают свое могущество». «Было на что смотреть!» – не удержался от восклицания вслед за ним и автор польской реляции. Он тоже высоко оценил торжественную отправку царского войска в поход, открывшую глаза «москве» (как называли жителей Русского государства в Речи Посполитой), «насколько сильно их могущество, о чем прежде они даже и не помышляли»{260}.
Общий план начинавшейся войны, как говорилось, состоял в одновременном ударе «на недруга» нескольких частей русской армии. Они должны были наступать как на Литву, так и на «Корону». На главном, смоленском направлении находились полки во главе с царем Алексеем Михайловичем и шедшим перед ним боярином князем Яковом Куденетовичем Черкасским. На северо-западе, собравшись с войском в Новгороде и Пскове, вступил в войну воевода боярин Василий Петрович Шереметев. Его задачей было наступление со стороны Великих Лук на Невель. Отправленный заранее в Брянск полк боярина князя Алексея Никитича Трубецкого должен был действовать на юго-западе вместе со стоявшими в Путивле воеводой боярином Василием Борисовичем Шереметевым. Под командованием последнего находились четыре солдатских полка численностью около семи тысяч человек, обещанных гетману Богдану Хмельницкому. Целью похода рати князя Алексея Никитича Трубецкого был определен Рославль. Образно говоря, обе армии – «новгородская» боярина Василия Петровича Шереметева и «брянская» боярина князя Алексея Никитича Трубецкого – стремились с разных сторон «зажать в тиски» находившегося в Орше гетмана Радзивилла, чтобы он не смог выступить со вспомогательным войском на поддержку Смоленска{261}.
План действий на южном направлении – в Брянске и Путивле – пришлось менять прямо на ходу. Выступив в поход под Смоленск, царь Алексей Михайлович получил в дороге отписку путивльского воеводы боярина Василия Борисовича Шереметева о возможном приходе войска крымского царя на южные и украинные места. Повторялась история другой Смоленской войны, 1632–1634 годов, когда удар крымских войск в тыл русской армии привел к ее поражению и бегству служилых людей из-под Смоленска. Тогда одна христианская страна «накупила» иноверное войско против других христиан. Из той истории двадцатилетней давности в Москве сделали выводы и решили больше не давать противнику свободы маневра. Главным стратегом, принявшим необходимое решение, в тот момент выступил сам царь Алексей Михайлович. Он приказал полку В. Б. Шереметева, вместо планируемого похода на Киев, по-прежнему оставаться в Путивле и продолжать охранять южное порубежье. Одновременно князь А. Н. Трубецкой получил распоряжение двинуться вглубь Речи Посполитой для соединения с гетманом Богданом Хмельницким и Запорожским Войском. От Хмельницкого с его «черкасами» царь приказал потребовать, чтобы он «шел в сход к нам великому государю корунными месты, а будет пусты места, нелзя итить, и вам и с ним итить на литовские места к нам же в сход». В написанном им собственноручно 31 мая письме царь требовал от воеводы князя Трубецкого «войною зацепить гораздо корунные места».
Трудно даже представить, каким ударом могли стать для царя Алексея Михайловича возможные неудачи военного похода. Рухнула бы великая цель, остались бы втуне все молитвы «о стране и воинстве». Тем тяжелее царю было столкнуться с сопротивлением в Думе, ведь сомневавшиеся в необходимости войны с Речью Посполитой оставались даже тогда, когда поход уже начался. Царь в своих письмах к воеводе князю А. Н. Трубецкому жаловался на малодушие и неискренность приближенных: «А у нас едут с нами отнюдь не единодушием, наипаче двоедушием… всяким злохитренным и обычаем московским явятся, овогда злым отчаянием и погибелью прорицают, овогда тихостию и бледостию лица своего отходят лукавым сердцем»{262}. Как человек, которого захватила стихия войны, он ждал такого же воодушевления от тех, кто был рядом. Алексей Михайлович требовал «прямого», а не «лукавого» подчинения, не только от друзей, но даже от врагов. Выступая в поход, он отправил впереди себя послание православным жителям Речи Посполитой, призывая их присягнуть и не противиться его воле и обещая в этом случае сохранить их дома и имущество. Он писал им о главной цели похода, чтобы «святая восточная церковь от гонения освободилась и греческими старыми законами красилась». Царь призывал к полному отделению от поляков, «как верою, так и чином», вплоть до того, что предложил подданным короля постричь «хохлы» на головах. «Которые добровольно прежде нашего государского пришествия известны и верны нам учинятся, – обещали царские грамоты, – о тех мы в войске заказ учинили крепкий, да сохранены будут их домы и достояние от воинского разорения»{263}. Потом действительно пункты о разрешении носить обыденное польское платье, «по давнему извычаю», будут включаться в статьи договоров о сдаче городов, что делало эти вопросы совсем не праздными в ряду других царских обещаний{264}.
Путь к Смоленску занял у царской армии около месяца. Маршрут первого царского похода 1654 года хорошо известен и описан в разрядных книгах{265}. Большая удача для историка – возможность использовать сохранившиеся письма царя Алексея Михайловича семье (переписка будет продолжена и в походах 1655 и 1656 годов). С помощью дьяков, а иногда и собственноручно царь писал прежде всего сестрам, особенно старшей – царевне Ирине Михайловне, и жене царице Марии Ильиничне. Из этой переписки мы узнаем не только о том, где он находился в тот или иной день, но и какие главные события занимали его во время похода. Уже 26 мая Алексей Михайлович пришел с войском в Можайск, но простоял там всего один день, а в воскресенье 28 мая двинулся дальше. Из этого города было отправлено первое его письмо оставшимся в Москве сестрам царевнам Ирине, Анне и Татьяне. Царь объяснял причины своего скорого выступления: «…а спешю, государыни мои, для тово, что сказывают людей в Смоленске и около Смоленска нет никово, чтобы поскорее захватить». 1 июня царские полки проследовали через ставшее печально известным в Смуту Царево-Займище (там после поражения армии царя Василия Шуйского в битве при Клушине был заключен один из первых договоров, открывавших королевичу Владиславу дорогу на московский престол). 2 июня пришли на пустошь Жижелей, где царь Алексей Михайлович дождался известий о том, что делается в Смоленске, от посланных «за рубеж» людей, привезших пленных «языков». Складывалась, как он считал, удачная ситуация, когда в Речи Посполитой не ждали похода русской армии и не могли пока организовать никакого отпора. О том, что больше всего интересовало царя, он опять написал сестрам, передавая расспросные речи языков: «что в Смоленску сидят не болшие люди, всево две тысечи с лишком, а моево походу не чают». Внезапный поход к незащищенному Смоленску отвечал стратегическим замыслам царя. Алексей Михайлович стремился не допустить того, чтобы смоленским жителям была оказана быстрая помощь. Поэтому он очень интересовался количеством войск в Орше, где в этот момент уже собирались силы Великого княжества Литовского для наступления на Смоленск («а в Орше, сказывают, ратных людей десят тысечь»). Передавал он и сведения о начавшемся сейме, отвлекавшем внимание короля и шляхты от Смоленска, о желании «корунного войска» сражаться прежде всего с гетманом Богданом Хмельницким, а не «против нас».
Царь так заботился о сохранении в тайне ближайших целей своего похода (напрасно, конечно), что написал сестрам о бежавшем «к королю с вестьми» изменнике смоленском боярском сыне Василии Неелове. Хотя признание вины и было получено от самого беглеца, но, видимо, не все так просто и однозначно было в этой истории. Смоленские роды оказались в Смуту разделены: одна часть дворян и детей боярских осталась служить в Москве, а другая перешла на сторону Речи Посполитой и осталась на своих землях. Их имена встречаются и среди смоленской «шляхты» – защитников Смоленска, служивших королю. Поэтому для смоленских дворян, оставшихся на службе в Москве, поход царя Алексея Михайловича означал еще и новую гражданскую войну. И, как знать, к королю или к своим родственникам – смоленским шляхтичам побежал сын боярский Неелов из московских полков. Но царь Алексей Михайлович распорядился жестоко наказать изменника, приказав его четвертовать.
На пути к Вязьме 4 июня царь Алексей Михайлович получил первое победное известие. Даже не армия, а «Вяземского уезду государевых дворцовых сел охочие люди», то есть ополчение подошло к Дорогобужу, после чего дорогобужские власти и шляхта бежали к Смоленску, а жители города «добили челом». Таковы были первые донесения, попавшие в разрядную книгу государева похода. Царь описал взятие Дорогобужа в послании сестрам, отправленном из малоприметной (зато с очень значимым для династии Романовых названием) деревни Федоровской; здесь сообщались новые по сравнению с разрядной книгой детали: Дорогобуж был взят всего сотней человек во главе с «белорусцем Павлом Володарским». Важность известия подчеркивалась и тем, что Алексей Михайлович получил его во время церковной службы: «как начели чести на завтрене святое евангелие». Не случайно он счел необходимым лично приписать вверху письма: «Вашими светов моих молитвами подаровал Бог сий богоспасаемый град Дорогобуж. Помолитеся и болыпи тово Бог подаст милость свою»{266}.